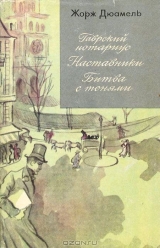
Текст книги "Жорж Дюамель. Хроника семьи Паскье"
Автор книги: Жорж Дюамель
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 35 страниц)
– Вы, несомненно, удивились б ы , – медленно произнес старик, – если бы я ничего не сказал о статье, которую вы вчера напечатали в газете. Статья блестящая, не спорю.
Лоран молчал. Директор прикрыл рот рукою, чтобы скрыть бурные признаки пищеварения, потом продолжал:
– Вы дали волю нервам, господин Паскье. Я думал, что вы разумнее и, позвольте сказать вам это, умнее. Не краснейте. Можно быть весьма почтенным биологом и совершенно не разбираться в общественных вопросах.
Старик подчеркивал отдельные слова и при этом слегка подергивал головой. Как политические ораторы, он к концу фраз усиливал голос. Его высокий рост, представительная фигура, медлительность речи – все должно было придать нагоняю определенную торжественность. Но при словах «общестфенных фопросах» Лоран стал моргать, и старик это заметил. На лице его появилась, злобная, желчная улыбка. Он продолжал елейно разглагольствовать:
– У меня не было детей, господин Паскье, но я ведь гожусь вам в отцы. Я лет на тридцать – тридцать пять старше вас. Старше вдвое. Да, детей у меня не было, но, по сути дела, все мои подчиненные – мои дети. Позвольте мне дать вам добрый, полезный совет. Позвольте мне, друг мой, избавить вас от ненужных и порою даже тяжких испытаний.
Впервые за четыре года г-н Лармина, отказываясь от официального языка, пробовал прибегнуть в разговоре с сотрудником к явно сердечным выражениям. Молодого человека это смутило и встревожило. Насторожившись, весь обратившись в слух, он, не шевелясь, ждал продолжения этой речи.
– Вы совершили неловкость, позвольте мне вам сказать это. Всем известно, да и газета о том упоминает, что вы являетесь сотрудником нашего Института. Для всякого, кто умеет читать, ясно, что ваши критические выпады направлены против Института, то есть против его директора. Если вы сочли нужным обратить внимание на те или иные недостатки крупного учреждения, значит, сам я их не замечаю, значит, они не тревожат меня, значит, я не выполняю своих обязанностей. Вот смысл вашей статьи. Можете вы отрицать это?
Лоран резким движением головы ответил «нет». Старик не спеша, довольно логично, продолжал:
– Можно ли предположить, что карьеристы, рвачи, которых вы упоминаете в подзаголовках вашей статьи, можно ли предположить, что они никак не связаны – будем вполне откровенны – с директором Института?
–Мосье, – порывисто воскликнул Л оран , – это выражения не мои. Против моей воли, не согласовав со мною, поставили мою подпись под фразами, которых я не писал.
– Да, да, – пел г-н Лармина, – такие прискорбные явления почти неизбежны в журналистике. Как-никак, господин Паскье, вы поступили не только неловко, не только неосторожно, но и непорядочно.
– Мосье!
– Успокойтесь, друг мой. Вы дали волю своим нервам. Прекрасно. Теперь вам остается только исправить эту досадную ошибку.
Директор запустил в ухо ноготь мизинца и тщательно обследовал свой слуховой орган.
– Вам известно, – продолжал он, – что во французской армии офицерам запрещено печатать что-либо без письменного разрешения начальства. Вам известно, что у духовенства, – действий коего я, впрочем, отнюдь не одобряю, – это правило соблюдается еще строже...
Лоран зашагал взад и вперед по комнате. Старый ментор взглядом наблюдал за ним, чуть повертывая голову ему вслед. Встрепка продолжалась:
– Впервые один из моих сотрудников позволяет себе обратиться к общественному мнению, – пусть даже намеками, – по поводу разногласий, какие всегда возможны между директором и его подчиненными.
– Мосье...
– Дайте мне сказать, прошу вас. Теперь моя очередь. Я всегда восторгаюсь хирургом, который, убедившись в своей ошибке, публично признает ее и исправляет. Я знаю лучше, чем кто-либо, что вы воспитаны в духе научной дисциплины...
– Что вы хотите сказать?
– Хочу сказать, что для восстановления порядка совершенно необходимо опровержение.
«Софершенно необфодимо» г-н Лармина повторил два-три раза. Потом добавил:
– Все, что нужно, я подготовил.
Лоран резко остановился и возразил решительно:
– Опровержение, которое вы намерены написать от своего имени?
Господин Лармина благословляющим движением поднял руку и вкрадчиво проговорил:
– Простите! От вашего имени, господин Паскье. Чтобы такая заметка произвела надлежащее действие, она должна исходить не от кого другого, как только от вас.
– Вы рассчитываете, что я вдруг всенародно отрекусь от своего мнения? – прогремел Лоран, задыхаясь от злости.
– В столь нелепое положение поставил вас, друг мой, не я.
– И вы рассчитываете, что я отрекусь от своего мнения и, в довершение позора, подпишу текст, автором которого я не являюсь?
– Такие вещи случаются, – вздохнул г-н Лармина. – Вы же сами сейчас разъяснили мне, что под вашим именем в газете напечатаны подзаголовки, написанные не вами. Значит, в этом нет ничего особенного.
Лоран сделал несколько шагов вперед. Сжав кулаки, взъерошенный, с пылающим лицом, он так наступал на старика, что тот попятился и отошел за письменный стол.
– Вы подстрекаете, – опять заговорил он, – вы подстрекаете своих сотрудников к неповиновению. Сегодня утром – это прямо-таки невероятно – ко мне явились двое ваших препараторов...
Лоран вдруг успокоился; он поднял руку, как бы кидая что-то через плечо.
– Не рассчитывайте на меня, чтобы опровергнуть статью, которую весь научный мир безоговорочно одобряет.
Господин Лармина проглотил слюну, обнаружив под бородой огромный и тотчас же исчезнувший кадык.
– Ну, господин Паскье, это мы еще посмотрим, – сказал он, берясь за дверную ручку.
Оставшись один, Лоран прежде всего снял халат и расстегнул рубашку. Потом он подставил голову под струю холодной воды и долго стоял так, чтобы развеять последние остатки ярости. В конце концов ему захотелось смеяться и кричать. Положение, по крайней мере, прояснялось. Раз приходится драться – он будет драться. И не с нелепым и неуловимым Биро, а со старым ядовитым хрычом Лармина. Какой вред, в конечном счете, может нанести ему Лармина? Четыре года тому назад Лоран прошел по конкурсу. Он вполне убежден, что защищает правое дело. Его учителя, коллеги, друзья, ученики – все будут на его стороне, если конфликт обострится. Размышляя так, молодой человек обрел успокоение, граничившее с блаженством. Весь день он работал с увлечением и пользой. Временами в воображении его возникало окаменевшее лицо матери, и он решил сегодня же навестить ее и пообедать с ней. Он слишком долго страдал от причуд доктора. Как ни тревожна была последняя скандальная выходка отца, Лоран твердо решил в дальнейшем не принимать к сердцу его фокусы. Ему вспомнились рассуждения насчет искупительной психологии русских писателей, которые он недавно развивал в переписке, и он весело, беззлобно побранил самого себя. Потом он незаметно погрузился в радость труда.
Когда он входил в маленькую квартирку на бульваре Пастера, было еще светло. Г-жа Паскье сидела, как и накануне, одна посреди комнаты. Две глубокие морщины легли на ее лоб, еще недавно неизменно ровный, неизменно гладкий – даже в дни тяжелых невзгод.
– Я пришел к тебе пообедать, – сказал Лоран.
Госпожа Паскье встала, двигаясь как автомат, разжала губы.
– Обедать будем вдвоем, – сказала она безжизненным голосом, – отец в отъезде.
Лоран не решился развивать эту тему с помощью каких-либо выдумок.
За обедом, который продолжался недолго, г-жа Паскье вдруг сказала:
– Я не знала, что ты придешь... а то мы заказали бы твой любимый миндальный торт.
Лоран улыбнулся. Как-то давно он похвалил миндальный торт. После этого г-жа Паскье всякий раз, как приходил Лоран, подавала такой торт. Молодому человеку в конце концов надоело это угощение, но он не смел высказаться и покорно съедал большой кусок, который клали ему на тарелку.
Госпожа Паскье опять замолчала. Лоран, продолжая есть, смотрел на ее изможденное, грустное лицо и думал: «Я даже не могу поговорить с ней об ее горе. Мы живем во лжи, как всегда, как всюду. Она боится, что, если мы заговорим о случившемся, я стану осуждать отца. Однако она, конечно, знает, что я кое-что знаю и даже что знаю, что она знает об этом».
Немного погодя, устав от тягостной немой сцены, молодой человек подумал еще: «Прежде она сама, без единого слова с моей стороны, без единого жеста почувствовала бы, что сейчас у меня неприятности. Она не могла бы понять их значительность, но они все же огорчили бы ее. Она положила бы руку мне на лоб; некогда я бывал недоволен этим, и все же это оберегало меня от мрачных мыслей. Теперь она занята только своим горем. Отец совершил наконец нечто трудное, казавшееся совсем невозможным: он так измучил эту несчастную старую женщину, что в ее исстрадавшемся сердце ослабли, угасли даже материнские чувства. Нет, нет, не надо преувеличивать. Если бы она видела, как мне тяжело... Однако прежде ей не надо было видеть, достаточно было вздоха, беглого взгляда, мысли».
Обед кончился, со стола убрали. Лоран не мог далее выносить эту атмосферу молчания и безысходности; он поцеловал мать, пообещал в скором времени опять навестить ее и, сославшись на работу, поспешил уйти. На лестнице он встретился с братом Фердинаном.
–Я тебя разыскивал, – сказал тот . – Я провожу тебя, надо о многом поговорить. Потом вернусь на минутку к маме. Только на минуту: мы еще не обедали, Клер, наверно, уже беспокоится.
Смеркалось. Фердинан отер лоб и сокрушенно вздохнул.
– Что за чудовищная выходка! – проговорил он, качая головой. – Да тебе еще не все известно.
С годами Фердинан становился «страшным сплетником», как любила говорить Сюзанна. Лоран принял вид недоступный, сдержанный, с каким он всегда говорил с братьями.
– Что же осталось неизвестным?
Фердинан напыжился, желая показать, что располагает важными новостями:
– Я виделся с Пола Лескюр.
– Пола Лескюр?
– Да, с нашей кузиной. Ты, Лоран, вечно витаешь в облаках. Но Пола Лескюр все еще существует. Она все еще папина любовница. История длится со времен Кре-тейля, другими словами – четырнадцать лет. Теперь ее не узнать. Тогда она была худенькой. Теперь это особа дородная, солидная, с почтенными манерами.
– Ну и что же?
– Она приезжала к нам домой. Ты не представляешь себе, как она рыдала! Папа прислал ей открытку, и она, кажется, осталась совсем без денег. Но это еще не все...
– Еще не все?
Фердинан вдруг возликовал. Он посмотрел на Лорана с жалостью, потом заговорил в духе Жозефа, которому охотно подражал, особенно при патетических обстоятельствах:
– Нет, не все. Ты – мечтатель, ты, как все ученые, ничего не замечаешь.
– Ну, довольно! – сказал Лоран в бешенстве. – Говори, что намереваешься сказать.
– Так вот. Я виделся с Марией Пюек.
– Объяснись, пожалуйста. Что это за Мария Пюек?
– Это другая папина любовница. Помнишь, прачка, которая на них стирала, когда они жили в предместье Сент-Антуан?
Лоран топнул ногой. – Что за комедия? Мария Пюек все еще фигурирует со времен Сент-Антуана?
– Но ты же знаешь, что они никак не могут с ним расстаться, и он тащит за собою целую вереницу. Мария Пюек приезжала ко мне и тоже рыдала. Что же нам теперь делать? Надо принять какое-то решение.
Лоран ледяным взором посмотрел брату в лицо.
– Да, – твердил Фердинан. – Мария Пюек сейчас тоже не получает от него никаких известий и тоже без денег. Папа беспощаден.
– Очень сожалею, – проговорил Л оран, – но мамино горе исчерпывает всю мою способность сострадать.
– Ты все тот ж е , – сказал Фердинан, мелодраматически вздохнув. – Говоришь о возвышенных чувствах, а сердце у тебя черствое.
– Ах, с ума сойти от всего этого можно! – тихо проворчал Лоран. – Папа бежит в Алжир, оставив после себя чудовищную неразбериху. Бежит опрометью с особой, которую нам приходится отметить номером четвертым. Так вот, дорогой мой Фердинан, должен признаться тебе, что я ни в коем случае не желаю ничего слышать ни о Пола Лескюр, ни о Марии Пюек, ни о пол-дюжине других, которые могут объявиться.
– А я считаю, – возразил Фердинан сокрушенно, – что в некотором смысле отчасти и мы ответственны. Надо считаться с узами.
Лоран пожал плечами. Негодование снова душило его.
– О своих волнующих встречах поведай-ка ты лучше Жозефу.
Фердинан замер на месте. Он понял, что история его дала осечку, и был этим крайне огорчен.
Лоран порывисто взял его за руку.
– Тебе не знаком остров Сен-Панкрас? – спросил о н . – Не знаком? Вот и мне тоже не знаком. Но это пустынный остров в антарктическом океане или где-то в тех местах. Мне хотелось бы поселиться там в одиночестве, жить там и там умереть в полном одиночестве! До свидания, малыш Фердинан!
«Вот так-то оно и есть! – думал немного погодя Лоран, шагая по улице Ренн . – Вот она, жизнь! Изумительная химия миллионов клеток, тончайшие воздействия, приводящие в движение чудесные силы, которые мы в конце концов познаем после многих веков труда, все тайны, которые время от времени открываются в свете наших микроскопов, – вся эта феерия действует, поддерживается от начала мира и постоянно возобновляется только для того, чтобы в конечном итоге прийти к подлой тупости Лармина или к слезливой, сентиментальной глупости моего бедного Фердинана. Да, поскорее – на необитаемый остров! Ну, полно! Я, кажется, иду не туда, куда следует. Куда я девал носовой платок? Я, кажется, потерял ключи. Я уже сам не понимаю, что делаю. Они в конце концов превратят меня в идиота. Поскорее – на необитаемый остров!»
Лоран прошел еще несколько шагов, потом сказал, беседуя сам с собою: «Два дня нет писем, нет даже записочки... Вероятно, работа совсем замучила ее. Да, необитаемый остров... Но предварительно следует поговорить с ней об этом вожделенном необитаемом острове. Надо объяснить ей также, что меня возмущает, что мучит меня».
Глава XII
Лорану наносят две раны. Как разговаривать с женщинами? Газета г-на Беллека вступает в игру. Воспоминания уличного мальчишки. Мольба о любви. Лина принесла свою жизнь в жертву. Не надо говорить о будущем. Первый инструмент Сесили Паскье
Она, по-видимому, очень торопилась, поднимаясь наверх, потому что тяжело дышала и была бледна. Она села на табуретку у рояля – очень высокую, подвижную, неудобную, – но в эту горькую минуту ей не хотелось ничего лучшего. То была старая табуретка с вертящимся сиденьем. При каждом движении девушки стальной винт жалобно поскрипывал.
Лоран положил шляпу на стол и стал шагать по комнате. Он глухим голосом говорил, запинаясь:
– Простите меня, Жаклина, дорогая Жаклина. Я еще не привык к такого рода ранам.
Девушка казалась спокойной. Она даже усиленно старалась улыбаться, однако пальчики ее беспрерывно шевелились, застегивая, расстегивая и вновь застегивая короткую жакетку из сурового полотна.
– Не знаю, – прошептала она, – но, по-моему, все это никак не должно задевать вас.
Молодой человек вдруг остановился и бросил на нее взгляд, полный мольбы и отчаяния. Тогда она добавила:
– Если бы тут было что-то оскорбительное для вас, меня это тоже огорчило бы, огорчило бы не меньше, чем вас.
Черты лица Лорана на мгновение разгладились, и он тотчас же снова зашагал по узкой комнате.
– Благодарю, благодарю, – вздыхал о н . – Как мило вы это сказали! Как вы умеете говорить ласковые и благородные слова! Я имею в виду сегодняшний номер газеты. Речь идет об унылой газете, простите, – о газете вашего отца. Вы знаете, что раньше я иной раз по месяцу не брал газет в руки, а теперь... Ах, теперь я роюсь в них, как старьевщик в помойной яме. Нет. Не стану раздражаться. Иначе что же вы подумаете о своем друге? Но как-никак – две стрелы подряд, и обе такие острые! Вы не знаете Маро-Ламбера, и это к лучшему. Внешне он отвратителен – гноящиеся глаза, цвет лица, как у пропойцы, живот торчит. Всем известно, что он завистливый и злой. Смеетесь? Нет, нет, я ничуть не преувеличиваю. Лично у меня никогда с ним не было стычек. Мы пожимали друг другу руки. И вдруг – такой выпад. Вы не читали заметку в «Хроникере». Да и не стоит ее читать.
– Разумеется, – сказала Жаклина, вновь силясь улыбнуться. – Разумеется, я не стану ее читать.
На мгновение Лоран остановился; губы у него были полуоткрыты, взор обращен в темный угол, заставленный мебелью. Он понял, что опять собирается произнести защитительную речь и что в ней вовсе нет надобности. То была его всегдашняя манера разговаривать с женщинами. Сердце его полнилось любовью, а он все начинал рассуждать, рассказывать о своей работе, о своих спорах. Так некогда, в дни, когда Элен Строль еще не была его невесткой, он провел в Люксембургском саду под проливным дождем несколько часов в бесконечных жалобах. А на что он жаловался, праведное небо? Вероятно, на то, что в груди его бушует великая потребность в нежности и ласке? Вовсе нет – он жаловался на астрономические аномалии, на вращение Урана и тому подобный диковинный вздор. То же случалось и впоследствии, с Лорой Дегру. И опять-таки то же с прекрасной белокурой девушкой, наделенной насмешливым и нежным взглядом, которая была к нему очень расположена, а в один прекрасный день исчезла, словно золотистый луч света... А у Лорана то было, быть может, проявление доверия и страсти, то была, быть может, жажда полного обладания. Да, обладать не только юным телом, но также и податливым, терпеливым умом, который ваяешь, как вазу, и который должен стать вместилищем всех замыслов, не дающих покоя мужчине.
Лоран на минуту остановился, затаив дыхание. Но встретит ли он когда-либо взгляд, более внимательный, чем этот сосредоточенный и нежный взгляд? Попадется ли ему ухо, более восприимчивое, чем изящное ушко, созданное словно из прозрачного фарфора и выглядывающее из-под темных и пышных шелковистых кудрей? И Лоран снова зашагал по комнате и заговорил:
– Заметка этого проходимца появилась во вторник. И представьте себе, в чем он меня упрекает. Он упрекает меня в том, что я выступил без соответствующих полномочий. Он упрекает меня в том, что я грубо обхожусь со скромными служителями науки, без коих, говорит он (будто я не знаю этого сам), мы, командиры, оказались бы генералами без армии. Я послал ему письмо, в котором вежливо оспариваю его утверждения. Он даже не ответил мне. Я недоумевал, как же следует поступить, ибо я не полемист, я теряюсь. И вдруг сегодня – статья в «Народном вестнике», в газете вашего отца. А это для меня – жестокий удар. Статья не подписана.
На полу был постелен восточный так называемый молитвенный коврик, некогда привезенный Жюстеном Вей-лем из Палестины. Лоран вдруг опустился на этот коврик, к ногам девушки.
– Простите! Простите! – лепетал он. – Вы так редко удостаиваете меня посещением! И вот вы пришли ко мне. Мне следовало бы радоваться этому. Я должен бы взирать на вас как на владычицу, как на владычицу моей вселенной, и должен был бы обращаться к вам с благоговением. А я вместо этого жалуюсь. А я рассказываю вам о каких-то дрязгах, за которые мне стыдно. Мне тяжело, простите меня.
Жаклина положила руку на голову молодого человека. Но он сказал еще не все. Ему нужно было поведать так много! Мог ли он отказаться от скальпеля, когда ему надо было обнажить всю глубину раны? Он продолжал, понизив голос:
– Мы были очень бедные. Мы приехали издалека. Все детство я играл с уличными ребятишками. Мама нам запрещала играть с ними, но это доставляло мне ни с чем не сравнимое удовольствие. Из уличных канавок я вылавливал кусочки стекла. Тому, кто никогда не занимался этим, не понять, что за прелесть для десятилетнего ребенка заключена в ручейках, бегущих по парижским улицам! Потом положение семьи улучшилось. Но, право же, я по-прежнему возле бедных, с бедными, меня по-прежнему гнетет их ноша и мучают их страдания. И вдруг меня упрекают в том, будто я пренебрежительно отношусь к скромным труженикам. До чего это глупо! До чего возмутительно! Ах, простите... Простите!
У него был такой расстроенный вид, что девушка рассмеялась.
– Не смущайтесь, – сказала она. – Отец всегда подписывается под своими статьями, значит, не он ваш противник.
– Я и не имел в виду вашего отца. Знает ли он вообще что-либо обо мне?
– Конечно, знает, – сказала Жаклина. – Я рассказываю ему о вас. Разумеется, я не могу поручиться, что он вникает во все, что я ему говорю. Он тоже одержимый.
– Тоже?
Девушка молчала. Она, казалось, задумалась.
– Никогда, – сказала она серьезно, – никогда не пришло бы мне в голову критиковать поступки моего отца. По многим вопросам я другого мнения, чем он, но я всегда восторгаюсь им.
Лоран кивнул головой, одобряя ее слова, потом вдруг изменившимся голосом, с другим выражением в глазах воскликнул:
– Лина! Милая Лина, выходите за меня замуж, прошу вас! Примите меня таким, каков я есть, со всеми моими недостатками, со всей моей любовью. Выходите за меня, дорогая Лина; когда я вижу вас, у меня сердце готово выскочить из груди.
Этот внезапный порыв, должно быть, испугал ее. Тем не менее она продолжала водить пальчиком по волосам молодого человека. Он продолжал умолять ее, обратив на ее милое, сосредоточенное лицо затуманенный взгляд.
– Выходите за меня. Я уверен, – понимаете? – что нас ждет прекрасная жизнь, что вы сделаете что-нибудь из этой дурной головы, уверен, что вы будете счастливы.
Он обнял ее колена не грубо, но страстно, настойчиво, властно. Она не защищалась, она даже не подумала освободиться из его рук. Она только слегка побледнела. На ее длинных шелковистых ресницах показались две крупные слезинки.
– Что ж, – проронила она совсем тихо, – я не могу сказать, что вы не нравитесь мне.
Она передохнула и продолжала еще тише:
– Сказать, что я не люблю вас будет неправдой. И все-таки – нет, нет! Вы сами знаете, что я не могу.
Он смотрел на нее пристально, с испугом, а она продолжала, опустив голову и придав лицу выражение детски упрямое и почти отчаянное:
– Я еще совсем маленькой девочкой дала себе обет, что выполню что-то значительное и трудное, что посвящу себя одной из тех задач, которые требуют целой жизни, что я пожертвую своей жизнью; да, что отдам всю свою жизнь делу благотворительности. Не лишайте же меня мужества!
Лоран схватил ручку, поглаживавшую его лицо. Он хотел задать вопрос, но не решался; приоткрыв губы, он подыскивал слова и боялся заговорить. Но она сама ответила на его немой вопрос:
– Нет, нет, я неверующая. Эта мысль зародилась во мне сама собою. У нас дома, как вы сами понимаете, о некоторых вещах никогда не говорят. Однако...
– Что однако, милая Лина?
– У меня нет религии. Я ничего не знаю о религии. Но как бы вам объяснить это? Я всегда чувствую, что я не одна. Вот и все. Вот и все, что я знаю. Мне так хотелось бы совершить нечто прекрасное. И не вы, Лоран, помешаете мне творить добро!
– Что ж, – вздохнул молодой человек, – быть счастливым и значит творить добро.
– Если я отступлюсь, если я отступлюсь теперь, у меня на всю жизнь останется чувство, что я потерпела неудачу, потерпела поражение, – говорило ее личико, искаженное упрямством. – Даже если буду счастлива. У меня всегда будет ощущение, что ради личного счастья я отказалась от чего-то величественного.
Лоран был погружен в горестное раздумье. Ему вспомнилась долгая, отвергнутая любовь Жюстена Вейля к Сесили. В пору их бурной юности ему не раз доводилось быть свидетелем немых сцен, сцен, когда один умолял, другая отказывала, – и он до сих пор, по прошествии стольких лет, все еще страдал от этого, и за сестру, и за друга – за обе эти обездоленные души. Сердце его сжималось от мысли, что и ему, пожалуй, суждено бороться без конца и без проблеска надежды. Девушка добавила:
– Не будемте говорить о будущем, прошу вас. Я не хочу расставаться с вами. Я так дорожу нашими встречами.
Она наклонилась и быстро-быстро, как птичка, губами коснулась виска молодого человека; ласка эта была почти неощутимой, но в ней таилось столько тепла и нежности, что она совсем ошеломила его.
Жаклина уже поворачивалась на старой вращающейся табуретке с ковровой обивкой, и винт ее протяжно заскрипел. Потом она попробовала засмеяться.
– Сейчас я вам поиграю.
– Осторожно! – воскликнул молодой человек. – Это первое пианино моей сестры Сесили. Родители отдали его мне, когда я переехал сюда из своей студенческой каморки. Я им сказал, что, быть может, Сесиль будет навещать меня. Так оно и есть, Сесиль иногда заходит и соглашается поиграть на старом инструменте в память нашего детства.
– Вот видите, какая я смелая, какая отважная, – сказала Жаклина. – Я играю, как школьница, а решаюсь играть на пианино архангела.
– Не смейтесь над нами.
– Да нет. Я не смеюсь. Даже если я ошибусь, мои ошибки понравятся вам, и мне не будет стыдно. Когда я ошибаюсь, я останавливаюсь и говорю: нет, не то! И принимаюсь за дело сызнова.
– Лина, вы хотите меня рассмешить? С некоторых пор я разучился смеяться.
– Я сыграю вам пьеску, которую выучила еще давно и даже не знаю ее автора, пьеску, у которой, может быть, и вообще нет автора. Но когда я воскресну, через две тысячи лет, и когда меня спросят, хочу ли я услышать какую-нибудь мелодию и какую именно, я выберу именно эту. Сядьте опять у моих ног. Так я меньше смущаюсь перед вами, перед братом Сесили Паскье.
Глава XIII
Третье письмо к Жюстену Вейлю. Между правыми и левыми. О полемической журналистике. Хулитель скромных тружеников. Г-н Лармина не принимает. Лоран никогда не изменится. Жозеф и обладание земными благами. Беглый взгляд на деловую преисподнюю. «Экономический обозреватель» не выступит против Лорана. Париж в лунном свете
Старина, дорогой мой, ты прислал мне на днях два письма совершенно разных и по содержанию и по тону. Одно из них было несправедливо, но прекрасно; в нем выразилась вся твоя сущность. Другое показалось мне путаным, насмешливым и даже возмутительным, ибо ты вдруг заговорил, как мои враги. Да, враги; оказывается, у меня есть враги. Хоть я и рискую, что письмо займет у меня целый вечер, я все же хочу на все ответить. Попутно мне хочется поставить тебя в известность о том, в каком положении находится мое дело, ибо теперь уже поговаривают о «деле Паскье». Весьма прискорбно, но это так.
Я начинаю постигать, почему моя первая пресловутая статья (я говорю «первая», потому что у меня в столе лежит еще несколько совершенно готовых), – я начинаю постигать, почему эта злосчастная статья, вызвав поначалу такое одобрение, вдруг затем возбудила такой гнев. Произошло это не из-за ее содержания, а потому что она появилась в «Натиске», крайне правой газете, о чем я имел весьма смутное представление. Согласись, Жюстен, что если моя статья шокировала тебя, даже возмутила, так именно по этой причине, хоть ты и никогда в этом не признаешься.
Я не читаю всех газет, но, насколько мне известно, до нынешнего дня появилось более сорока статей о моем деле. Первая из них, вполне корректная по форме, но весьма ядовитая по существу, принадлежит некому Маро-Ламберу, начальнику отделения Городской лаборатории. Этот негодяй много старше меня; в научных кругах у него репутация неблестящая, и тем не менее, с тех пор как он вступил в игру, некоторые стали отворачиваться от меня. Уму непостижимо! Прием, которым пользуется Маро-Ламбер, заключается в том, что он говорит (весьма вежливо по форме, но весьма желчно по существу), что у меня нет достаточных заслуг, чтобы выступать от имени науки, и что во Франции в лабораториях все обстоит превосходно. Статейка завершается демагогической концовкой, в которой проглядывают честолюбивые мечты этого молодчика. Мне известно, что он выставлял свою кандидатуру в последних парламентских выборах.
Не успел я еще переварить статью Маро-Ламбера, как появилась передовая в «Вестнике». Эта уже не на шутку огорчила меня. Ты ее читал. Страшно сказать, но у меня такое чувство, что ты не совсем осуждаешь ее. Неужели политика в силах испортить такое сердце, как твое? Политика вызывает у меня отвращение! Анонимный автор статьи говорит таким назидательным тоном, который должен был бы привести поэта Жюстена Вейля, моего бесценного и преданного друга, в дикую ярость. Ты, вероятно, не забыл такие, например, утверждения автора: ««Почему господин Паскье хочет преградить политике вход в лабораторию, в больницу, в школу? Политика – это наука об общественной жизни, это наука наук. В качестве таковой политика должна контролировать всякую человеческую деятельность, и прежде всего деятельность людей, высоко стоящих». Если от таких рассуждений у тебя волосы не становятся дыбом – я не узнаю тебя. Не могу скрыть от тебя, что все это задело меня тем больнее, что оно появилось в газете Беллека. Я кое-что говорил тебе о своем чувстве к Жаклине Беллек. Я бешусь от одной только мысли о том, что политика может встать между Жаклиной и мной. Но пока что оставим это.
Я не мог не ответить на статью «Вестника». Я ответил. Письмо небольшое, но оно заняло у меня часа три-четыре. Для человека, который в обычное время и без того перегружен работой, это трата немалая. Ответ мой вполне разумен. Я все тщательно взвесил, вплоть до запятых. В основном, я говорил о том, что статью мою из «Натиска» истолковали неправильно, что научная дисциплина ни для кого не унизительна, что наши младшие сотрудники почти всегда – наши друзья; словом, говорил многое такое, что тысячу раз объяснял тебе. Я добавил, что знаком с пьесой Ибсена и что, как бы ни ловчились, никому не удастся представить меня врагом народа.
Итак, я послал в «Народный вестник» свое опровержение (заказным письмом). Ответа не последовало. Человек я упрямый, поэтому я сам отправился в редакцию газеты и сказал, что хочу переговорить с кем-нибудь из ответственных лиц. К счастью, я был вполне уверен в том, что не встречусь с папашей Беллеком, ибо он в настоящее время на каком-то съезде в провинции. Меня принял бородатый господин; он навел справки о моем деле, затем заявил мне, что «Вестник» ни в коем случае не может напечатать что-либо написанное сотрудником «Натиска». Я заговорил было о праве на ответ. Он равнодушно улыбнулся и сказал, подталкивая меня к выходу: «Хотите судиться – судитесь. Если все станут пользоваться правом на ответ – заниматься журналистикой будет невозможно». Он говорил весьма поучительно. Все, с кем я встречаюсь, горят желанием поучать меня.
Я хотел, чтобы мой ответ был во что бы то ни стало напечатан. Поразмыслив, я снова направился на улицу Монмартр, в «Натиск», чтобы поговорить с тем субъектом, что принял меня в первый раз. Он держался со мной вполне учтиво. Он быстро пробежал глазами по моему, как он выразился, «документу», потом поморщился и снял монокль.
– О нет! – говорил о н . – Нет, нет. Это звучит двусмысленно. Вы как бы извиняетесь. Читатель «Натиска» не потерпит на наших страницах статью, в которой вы как-никак делаете определенные уступки социалистической левой.








