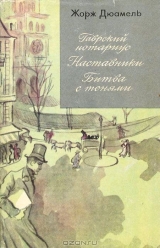
Текст книги "Жорж Дюамель. Хроника семьи Паскье"
Автор книги: Жорж Дюамель
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 35 страниц)
Эти опыты над коклюшем будут вестись еще несколько месяцев. Пока не может быть и речи о каких-то публикациях. Мы, естественно, обязаны хранить тайну. Если я и рассказал тебе кое о чем, дорогой Жюстен, то лишь под большим секретом... ну и еще для того, чтоб ты полюбил г-на Шальгрена. Вирус коклюша, как и вирусы кори, скарлатины, оспы и многих других болезней, – вирус фильтрующийся. Это означает: микроб столь мал, что с помощью современных оптических приборов разглядеть его невозможно. Он так мал, что проникает через самые усовершенствованные фильтры. Нет ничего более волнующего, чем эта битва с невидимым врагом, которого нельзя заполучить даже in vitro [5]с врагом, таким же неуловимым, как мысль или как сам дух зла. Извини меня за подобную восторженность, старина: я восхищаюсь г-ном Шальгреном, я люблю его, и мне хотелось бы поделиться с тобой – хотя бы мимоходом – своей радостью, своим торжеством.
Итак, мы трудимся в поте лица. Я продолжаю ставить опыты по своей теме и делаю для патрона всякие незначительные исследования. При встречах г-н Шальгрен иногда захлопывает свою тетрадь с заметками, смотрит на меня озадаченно, весь во власти неотвязных мыслей, и вдруг расплывается в улыбке.
– Н – да. .. – произносит он, – главное, что мы работаем, что можно работать. Видите ли, Паскье, не существует политического режима без изъяна. Все они порочны и неудобны. По-моему, лучший, или, вернее, наименее плохой, из всех режимов тот, который меньше всего сковывает личность и дает ей свободно и наиболее целесообразно развивать свои способности.
Если на патрона находит приступ откровенности, то он начинает говорить торопливым, еле слышным, прерывистым голосом.
– Работа – это единственная возможность сделать жизнь хотя бы сносной. Отдыха как такового нет. Люди мыслящие отдыхают в самом процессе работы. Самая большая опасность для людей нашего круга – это превратиться в администратора. Вам, друг мой, все это еще не очень-то понятно, вы ведь еще так молоды. Вот вы двинетесь вперед по жизни, и вам станут предлагать всевозможные места, некоторые из которых почетны, другие – материально выгодны. Вас будут уговаривать занять какой-нибудь ответственный пост... Я знаю, науке не обойтись без административной машины, но административная должность гасит гений творца. Посмотрите на господина Ру: он больше ничего не делает, и это огромное несчастье. Он руководит замечательным учреждением, он пасет на поле познания целое стадо исследователей, но сам-то он уже не исследователь. Сансье однажды сказал мне, что если человек позволяет втянуть себя в административную машину, значит, ему нечего больше сказать науке, значит, он потерял чутье и вкус к научным открытиям. Я абсолютно в этом уверен. Люди такого сорта идут в администраторы либо из-за денег, либо из-за славы, почестей, звания и орденских лент. Они думают, даже уверяют, будто могут спасти в себе полыхающее пламя, искру гениальности, а на самом деле изо дня в день все глубже и глубже погрязают в куче административных дел, которые парализуют их, подавляют и, главное, становятся для них почти необходимостью. Они привыкают, Паскье, к тому, что их величают «господин президент», «господин управляющий» или «господин директор». Им нравится эта временная власть. Они любят повторять: «Мне ничего больше не нужно», – но каждый день они снова и снова выискивают повод, чтобы испросить для себя или принять какой-нибудь новый пост. Сначала они слегка артачатся, потом соглашаются. Сами академики – и вы это позже поймете, друг мой, – сами академики, которых всячески почитают и прославляют, являют собой одну из самых блестящих побрякушек административного гения. Внимание! Спасите самый дух поиска! Пусть он летит по волнам на всех парусах, стремительный, неведомый, непризнанный, бесценный, единственно желанный!
Вот какие слова я выслушиваю, и выслушиваю их с удовольствием, ибо они лишний раз убеждают меня в правильности всех моих решений. Только вот не очень понимаю, как это патрон по-прежнему соглашается на всякого рода посты – на пост, например, директора, президента, председателя или почетного члена. В жизни пожилых людей есть, наверно, свои тайны, которые я вовсе не спешу выведать и даже предпочел бы вообще никогда к ним не прикасаться, а тем более прояснять их.
Я не удержался и довольно сумбурно поведал тебе о разных разностях, о делах, наблюдениях и мыслях, которые могут показаться несвязными. Дорогой Жюстен, ты достаточно меня любишь, чтобы отыскать в этом кажущемся хаосе путеводную нить и ухватиться за нее, за нить моей жизни.
Я только что рассказал тебе о прекрасных, незабываемых часах, которые уже убегают прочь, растворяются вдали. А ведь так хочется, чтоб они тянулись долго, долго! В прошлый понедельник произошел незначительный инцидент, который, конечно, никого не поразил, но тем не менее произвел на меня неприятное впечатление. Эти два господина, Шальгрен и Ронер, встретились в Академии наук и не поздоровались друг с другом. Совинье рассказал мне обо всем случившемся в тот же вечер, потому что он почти всегда сопровождает г-на Ронера на заседания: несет портфель, документы, а в случае надобности и нужные препараты. Кажется, г-н Шальгрен явился первым, и в зале было еще мало народа, когда вошел Ронер. Он подошел к Рише и Пикару, поздоровался с ними. Ему оставалось пройти буквально два метра до Шальгрена, но он сделал вид, будто не замечает его. В качестве скромного зрителя я тоже иногда бываю в этом святилище, сопровождая своих патронов. Мне известно, что коллеги не всегда приветствуют друг друга, особенно если они углублены в работу. Но Ронер специально решил – я знаю это чудовище! – придать подобной небрежности оттенок издевки, вызова.
На следующее же утро я почувствовал, что Шальгрен болезненно задет, что перемирие лопнуло, что ссора вновь заполыхала ярким пламенем. Каждое утро патрон подправляет, шлифует статью, в которой расскажет о проделанных им опытах, ставящих, кажется, под сомнение доводы Ронера о полиморфизме микробов – как видишь, речь идет о видоизменении некоторых видов микроскопической плесени. Патрон не отказывается от борьбы, но она его не захватывает. Он снова грустен и даже подавлен. Иногда он выходит из задумчивости и ни с того ни с сего роняет: «А знаете, он даже не считает нужным перечитывать написанное... » Я понимаю, что здесь подразумевается Ронер. Теперь патрон никогда уже не называет Ронера по имени. Он обходится местоимениями: он... его... ему... Это лишний раз доказывает, как мучительна для него эта идиотская ссора. Впрочем, я заметил, что и Ронер поступает примерно так же. Раньше он намеренно коверкал фамилию г-на Шальгрена, теперь же он вообще обходится без фамилии, величая его: «этот господин», или «этот биолог-любитель», или даже «наш горе-рационалист»... Ронер говорит о Шальгрене с оскорбительным пренебрежением, однако в своих статьях он высказывается – по крайней мере, сейчас – с неукоснительной и коварной осторожностью.
Вчера я сказал ему , – я имею в виду Ронера, – что, по словам Лепинуа, у бедной Катрин кажется плевральная локализация, иными словами, плеврит. Г-н Ронер удивленно вскинул вверх брови и раздраженно загремел:
– Как так! Да это же почти невозможно! Это по меньшей мере абсурдно!
Как далек этот биолог от жизни, от настоящей жизни со всеми ее страданиями!
Господин Шальгрен огорчает меня. Вчера он пробормотал будто про себя: «Выдающийся человек! Выдающийся человек! Что это может означать? Выдающийся среди кого, среди чего?» А немного погодя устало сказал нам – Фове и Стернович тоже были здесь:
– Находятся же люди, которые завидуют моей жизни! Они и понятия не имеют, что у меня за жизнь!
Это признание в слабости возмутило меня, и неожиданно для себя я вдруг заорал:
– Патрон, вы не правы! У вас столько друзей, столько почитателей! Все говорят о вас с любовью и уважением, с похвалой и доверием.
Он слегка пожал плечами:
– Хм... Похвалы!
Должно быть, он понял, что его слова оскорбляют, ранят меня до глубины души, ведь у меня сложилось определенное представление о нем. Позже, когда Стернович и Ришар уже ушли, он забежал ко мне на минутку и пожаловался:
– Последние дни я что-то неважно себя чувствую. Надо бы последить за давлением. Мне нужно непременно быть на ногах. Д'Арсонваль советует попробовать токи высокой частоты.
И вдруг, без всякого перехода, перескочил на другое:
– Если он – вы знаете, о ком я говорю, – будет баллотироваться в Академию медицинских наук, я наверняка поддержу его кандидатуру куда охотнее, чем любой другой. Я знаю, он меня ненавидит. Я же не питаю к нему ненависти, для меня справедливость превыше всего.
Я слушал эти сбивчивые рассуждения, не прерывая его ни словом, ни улыбкой. В заключение патрон сказал:
– Я президент Общества по рационалистическим изысканиям. Это вовсе не означает, будто я забыл о своем христианском происхождении. Я не верю в бога, Паскье, но Христос – величайшее творение человечества. У миллионов и миллионов людей ушли целые тысячелетия на то, чтобы создать, сотворить для себя бога, того самого бога, который бы отвечал всем их чаяниям и надеждам. Это своеобразный феномен, достойный всяческого уважения. Лишь убогие наблюдатели не в силах понять этого. Сегодня христианство в опасности. Оно обременено кучей ненужных деталей. Оно влачит вслед за собой тяжкий груз всевозможных восточных небылиц из Ветхого завета, – можно подумать, что христианство обязано спасти весь этот возвышенный хлам. Это колоссальная ошибка. Нужно спасти главное. Нужно спасти ту самую идею о существовании гуманного и милосердного бога, которая выкристаллизовалась в душах людей ценой бесконечных страданий. И чтобы спасти главное в христианстве, стоит ли цепляться за какие-то древние варварские легенды, которые и в самом деле никому не нужны?
Теперь он уже говорил лишь для себя, не обращая на меня внимания.
Вот такие-то дела. Заканчиваю письмо. Я беспокоюсь за Катрин. Эта болезнь может сильно ее ослабить, даже вконец расшатать ее здоровье, лишить будущего. Я не в силах вынести того отчаяния, которое читаю в ее взгляде. До свидания, мой старый друг. Да будет мир с тобой!
Твой Лоран.
P.S. Я получил твое письмо и добавлю несколько Слов к только что отправленному тебе письму. Откуда ты взял, что Ришар Фове и Сесиль бывают вместе, и почему это тебя так тревожит? Кажется, я тебе говорил, что Фове любит музыку. Он встречается с Сесилью для того, чтобы довести до конца свои эксперименты, которые Сесиль по моей просьбе все еще терпеливо сносит. Кстати, эксперименты эти понемногу идут вперед и могут привести к интересным результатам: Фове почти уверен, что некоторые из его колоний микробов подвержены в ходе их развития своеобразному положительному фототропизму. Сам патрон покачал головой и заявил, что это любопытно. И нет ничего удивительного в том, что Сесиль и Фове были вместе на концерте. Вот я живу в Париже, часто вижу свою сестру и даже не слыхал об этих вылазках. А ты, по собственной воле и желанию удалившийся от друзей, дабы смиренно пожить среди простых тружеников, ты знаешь все, что здесь творится, ты бесишься и с великой горечью разглагольствуешь о каких-то там ничтожных событиях. Наверно, тебе неизвестно, что после краха нашей утопичной общины в Бьевре Сенак написал множество стихов в честь Сесили, а потом принес их и прочитал ей вслух? У Сесили много поклонников и друзей. В этом нет ничего удивительного. Эх, Жюстен, Жю-стен, я рискну тебе сказать, пожалуй, что ты теряешь голову.
Глава XV
Математика и духовное общение с людьми. Страдания Катрин и стрептококк Ро-нера. Разум, только разум. Разум – это еще не все... Ученая полемика. Мужественно встретить старость. Микроскоп в качестве убежища. Пусть бог будет мудр, пусть он будет в ответе за все. Ларсенер идет по стопам Тестевеля. Яд гадюки
Да, мое письмо опоздало. Прости меня, прости. Г-н Ронер старается вдолбить мне в голову, что милосердие – одна из лучших добродетелей человека, которой, кстати, сам он начисто лишен. Пожалуй, мне надо быть признательным г-ну Ронеру за сей парадоксальный урок. Больше того, мне бы надо быть снисходительным к этому черствому человеку и проявить к нему истинное милосердие. Так нет! Я начинаю ненавидеть Ронера, и это тем более удивительно, что Ронер поражает меня, страшит и по-прежнему вызывает у меня искреннее восхищение. Этот человек – квинтэссенция разума. Мир его чувств ограничен собственной персоной, которая предельно изнежена, легко возбудима и подвержена всяким страстям и эмоциям, имя которым: злопамятство, презрение, ненависть, гнев. Остальной же мир, раздираемый любовью, желанием, печалью, яростью, отчаянием, недоступен его разумению. Увлечения, страсти и эмоции других для него лишь любопытные феномены, почти всегда неприятные и мешающие спокойно жить. Он имеет о них чисто умозрительное представление, души его это не затрагивает. Ему неведома тайна симпатии к человеку, мысль его никогда не заглядывает в душу и плоть других людей, а если для подтверждения какого-нибудь опыта он хоть на минуту пытается это сделать, тогда у него такой вид, будто он решает алгебраическую задачу, но отнюдь не задачу духовного общения с людьми.
Он словно не понимает, как тяжело больна Катрин. Будто в простоте душевной он восклицает: «Эндокардита у нее нет! Нефрита тоже нет! Это просто немыслимо!» Если я ему говорю: «Она страдает», – он сухо замечает: «Удивляться здесь нечему, в таких случаях больной всегда страдает. Пусть ей дадут что-нибудь успокаивающее. Только не морфий. Мне нужен патологический, а не лекарственный нефрит».
Не знаю, понимаешь ли ты меня. В общем, все это ужасно. Рокер считает, что морфий может вызвать альбуминурию. Альбуминурия же, которую он ждет или, вернее, на которую надеется, должна быть вызвана не лекарством, а микробом. Для него тяжелая болезнь Катрин – самый обычный опыт, который не следует прерывать путем терапевтического вмешательства.
Из-за плеврита бедной Катрин пришлось перенести небольшую операцию: ей вскрыли грудную клетку. Вот уже два дня я не нахожу себе покоя: а вдруг инфекция попала ей в колено. Оно распухло и болит. Высокая температура держится.
Катрин принимает все эти муки с такой безропотностью, от которой я прихожу в полное замешательство и терзаюсь больше, чем если бы она вопила или стонала. Она лежит там, на своей кровати, вся белая; ее красивые волосы, разделенные на пробор, падают двумя густыми прядями на грудь. Тебе не приходилось бывать в больнице Пастера? Она представляет собой комплекс новых зданий, построенных по указаниям самого мэтра. Светлые палаты застеклены со стороны коридора, так что больные в своих прозрачных клетках будто выставлены напоказ. Это, конечно, стесняет тяжелобольных, но зато позволяет внимательно следить за ними. В палате у самой двери висят халаты для сотрудников, в которые они облачаются, когда заходят к больным.
Итак, я прихожу сюда каждый день и еще у двери вижу Катрин в ее стеклянной кабине. Она улыбается грустной и все же счастливой улыбкой. Ведь я единственный ее друг. Иногда к ней заглядывают Рок и Вюйом. У изголовья кровати они, подражая профессору, подолгу спорят об анормальных локализациях, выражаясь словами Ронера. В общем, должен тебе сказать, что болезнь Катрин – собственность Ронера; этот малоизвестный до нынешней эпидемии микроб именуется отныне микробом Ронера. В своих бумагах он так и пишет «S. Rohneri», что означает «стрептококк г-на Николя Ронера». Видите ли, сугубо неприкосновенная собственность.
Если бы назавтра Ронер подхватил хорошенькую ангину с эндокардитом и нефритом или даже просто обыкновенную ангину без всяких осложнений, то это было бы большим несчастьем для науки, хотя никто из нас и не застрахован от подобных вещей. Мы сами выбрали себе такую профессию и понимаем всю ее опасность. Г-н Ронер получил бы звезду кавалера ордена Почетного легиона или что-нибудь в этом роде, и во всех газетах красовались бы бюллетени о состоянии его здоровья. Не то что Катрин! Она не жаждала славы. Впрочем, славы у нее и не будет. Она – безвестная мученица. Я высоко чту того генерала, который погибает на поле брани. Он идет на смерть сознательно и добровольно. Но так вот, спокойно, бросить в полыхающий костер так называемую скромную лаборантку! Да перед нею надо преклонить колени, надо бить себя кулаками в грудь.
Лепинуа говорит, что при такой болезни локализации обычно проходят удачно и нам, пожалуй, не следует опасаться общего сепсиса. Дай бог, чтоб он оказался прав! Тогда я бы с радостью сообщил тебе, наверное, об этих утешительных новостях.
Болезнь Катрин лишний раз раскрыла мне истинный характер моего наставника Ронера. Если бы я поддался своей обычной мягкотелости, этот удивительный человек отвратил бы меня от разума как такового, от всех его творений и дел. Что было бы несправедливо. Разум – это свойство человека, он – наш повседневный провожатый в сутолоке событий и явлений. Однако я начинаю изрекать загадочные сентенции... «Разумом нужно пользоваться с осторожностью, как великолепным, но исключительным в природе и даже иногда опасным инструментом». Ясно, что г-н Шальгрен перекликается с Бергсоном. Любопытно отметить, что многие выдающиеся умы, работающие в самых разнообразных областях человеческого познания, одновременно идут к одной и той же точке горизонта. Только что процитированное мною высказывание г-на Шальгрена ни в коей мере не означает, что нужно отречься от разума. Оно означает совсем другое, а именно:
жизнь сама по себе еще полна загадок, и если ты хочешь, например, откупорить бутылку с помощью подзорной трубы, ты поступаешь неумело, или, точнее, неразумно. Всю позицию г-на Шальгрена можно объяснить в двух словах: «Разум, этот великолепный инструмент, не является инструментом универсальным, нашим единственным инструментом».
Ронер никогда не понимает причину своих поражений. Поскольку человеческие симпатии для него – книга за семью печатями, ему и невдомек, что сам он не вызывает симпатии у людей. Он знает лучше любого другого, что у него выдающиеся работы и, следовательно, он один из крупнейших ученых современности. Он считает, что этого вполне достаточно, дабы завоевать всеобщую любовь. Он не знает и не чувствует, что он черств, сух, эгоистичен. Быть может, он даже и не подозревает, что настоящих друзей у него нет. Есть лишь товарищи по работе, коллеги, ученики, «знакомые». Он догадывался, что место председателя Конгресса ему не предложат, и тем не менее, не признаваясь даже самому себе, все еще надеялся, что его в конце концов оценят по заслугам, и тогда в этих условиях... Его постигло разочарование. Удивительная вещь: этот всегда холодный и расчетливый человек совсем не умеет скрывать свое настроение. После избрания Шальгрена он заявил: «Настоящий ученый должен трудиться в своей лаборатории, а не тратить драгоценное время зря. Я знаю одного салонного биолога, который пользуется успехом на всевозможных конгрессах, банкетах и говорильнях, но не умеет толком пересадить культуры». Позволю себе мимоходом заметить, что подобная выдумка крайне несправедлива: искусство г-на Шальгрена вызывает у нас истинное восхищение, и я еще не видел столь умелого экспериментатора. Пусть этот вопрос о технической сноровке не слишком-то сбивает тебя с толку: биолог должен быть искусным хирургом, дабы ничего не испортить. Чтобы заниматься биологией, нужно иметь не только хорошую голову, но и хорошие руки. Па-стер, старый и больной, управлял руками своих учеников, и, когда эти руки ошибались или путались, он метал громы и молнии.
Как ты знаешь, г-н Шальгрен обнародовал результаты своих последних опытов над пресловутым «полиморфизмом». Он сделал сообщение об этом в Академии медицинских наук. Текст его ученой записки исключительно сдержан, и тем не менее Ронер почувствовал себя уязвленным. Записка еще не появилась в бюллетене, как газеты уже изложили ее сущность. Этим-то и объясняется ярость Николя Ронера. Хотя в записке Шальгрена Ронер даже и не назван по имени, он орет, брызгая слюной: «Он метил в меня, только в меня. Ну ничего, ему не долго придется ждать ответа». Он действительно быстро состряпал этот ответ, сдобрив его ядовитыми приправами. Он распустил слухи, будто Шальгрен страдает теперь дальнозоркостью и уже не замечает отстоя на дне пробирок, будто он не желает носить очки, ибо это мешает ему любезничать с дамами, посещающими его лекции, и вообще подобное поведение достойно лишь светского ученого, а не истинного человека науки.
Патрону бы пропустить мимо ушей все эти сплетни и гадости. Но нет, они огорчили его. Он прислушивается к речам болтунов и предателей, ибо сейчас весь наш научный мир распадается на враждебные группы. Весь он – если прибегнуть к классификации Совинье – делится на ронерфилов и шальгренистов. В Сорбонне, в Коллеже, в Институте, на факультете, в больницах то и дело возникают мелкие ссоры и конфликты. Каждый подбрасывает в этот костер свои маленькие личные обиды и несогласия. Совинье вербует рекрутов, что не мешает ему цинично болтать о том человеке, которого он фамильярно величает «Стариком». Совинье неприятен мне, и я не говорю ему об этом прямо в лицо лишь потому, что не хочу обострять и без того предельно сложную ситуацию. Ронер и Шальгрен походят на двух гладиаторов, сражающихся на арене. Толпа подбадривает, подстегивает их криками, потому что толпа обожает жестокие зрелища.
Кстати и некстати Ронер прибегает к грубой, низкопробной мистификации, к которой обычно прибегают самые заштатные лекаришки. Он то и дело публикует – если это не он, то кто же? – небольшие заметки в газетах, объявляющие, что г-н Шальгрен якобы назначен на несуществующую должность Генерального инспектора по борьбе с эпидемическими болезнями, что он только что получил знаки отличия командора имперского ордена Белого медведя, что ему собираются присудить Нобелевскую премию, что буквально на днях он возглавит будущее министерство общественной гигиены и так далее. На прошлой неделе в Коллеж позвонили и поинтересовались, действительно ли г-н Шальгрен заказал целый вагон канадских яблок для проведения опытов над различными видами плесени... Ты, конечно, понимаешь, что ничего подобного г-н Шальгрен не заказывал.
Все эти нелепости, бесспорно, волнуют и утомляют его – я говорю о г-не Шальгрене. Временами он падает духом... Он говорит: «Скоро мне стукнет пятьдесят семь. Это очень трудный жизненный рубеж. Пожалуй, имей я немного терпения, я мог бы не раздумывая шагать дальше и превратиться со временем в старика. Но для этого у меня не хватает мужества». Подобные речи возмущают меня. Недаром такие вопросы решены мною раз и навсегда: я надеюсь, что старость мне не грозит, и каждый день даю себе обет с достоинством уйти из этого мира лишь тогда, когда скажу то, что хочу сказать, и сделаю то, что я намереваюсь сделать. Г-н Шальгрен уже сейчас выглядит стариком. Так пусть смирится и не охает без толку. В такие минуты он вызывает у меня не жалость, а глухое раздражение. И однако он – мой наставник, тот самый наставник, которого я люблю и который – чую всем своим существом! – действительно сделает из меня настоящего ученого. Только я хотел бы видеть его совершенным! Впрочем, это лишь дань честолюбию, ловушка, которую ставит гордость. Надеюсь, ты понимаешь: речь идет о моей, Лорана, гордости.
Чтобы позабыть об этих невзгодах и даже избавиться – прости! – от тягостных мыслей о Катрин, я молча утыкаюсь в окуляр своего микроскопа, словно в убежище, скрываясь в некоем недоступном для людей мире.
Ты, быть может, дорогой Жюстен, ни разу в жизни не заглядывал в микроскоп. Если бы ты склонился над окуляром, тебя бы поразили свет, краски, странные мелькающие фигуры; ты бы не сразу понял, что перед тобой поистине целый мир.
Я упомянул здесь об убежище, и это может натолкнуть тебя на мысль, будто в ярком свете микроскопа всюду царит порядок и безмятежное спокойствие. Не верь этому. Это такая же жизнь, как и наша, с ее гнусностями и печалями, с ее борьбой, убийствами и крушениями. Это жизнь, наша жизнь, горячо любимая, обожаемая нами жизнь. Я думаю о том, что среди этих эфемерных, ничтожных, едва видимых глазу существ есть свои Шальгре-ны, Ронеры, Лораны, Сенаки, Жозефы и Жюстены. Ну, а я по отношению к ним оказываюсь в положении некоего божества. Но это не значит, как ты, наверное, думаешь, что я пребываю в высокомерном безразличии. Это далеко не так. Если бог существует, он должен все знать, он в ответе за все. Вот почему в минуту уныния мне страшно хочется, чтоб его не существовало. Если бог, однако, существует, то он непременно вкладывает свою лепту в наши радости и наши беды – вот так же, как я вкладываю свою посильную лепту в жизнь моих бактерий, в успехи или поражения этих моих крошечных палочек, моих микроскопических клеточек. И я вовсе не высокомерен. Совсем напротив. Иногда, поворачивая винт микроскопа, чтобы передвинуть пластинку, я чувствую вдруг, как взволнован, как бешено начинает колотиться в груди сердце. Я не тот бог, который погрузился в холодное созерцание. Я тот бог, который прислушивается, который ищет, сомневается, страдает. Я бог очень гуманный, очень слабый и очень беспокойный.
Но оставим это, старина, и вернемся к людям. Ты говоришь, что получил известие о Тестевеле. Я тоже: он прислал мне из Порт-Саида открытку, очень бодрую открытку.
Тестевель не знает и не должен знать, что теперь вместо него страдает Ларсенер. Да, пришла очередь Ларсенера. Несколько раз в неделю он обязательно плачется мне. Сюзанна упрекает его в том, что он поверг Тестеве-ля в отчаяние. Отныне Тестевель пребывает в ореоле легендарной славы. Он, видите ли, силен, добр, нежен. Он даже красив и обаятелен. Ларсенер принимается жаловаться, испускать вопли отчаяния. Несмотря на это, его последние работы превосходны. Меня тревожит Сюзанна. Она, кажется, не понимает ни своей власти, ни своих действий. На днях я случайно открыл «Дон-Кихота» и увидел следующие строки, которые и переписываю для тебя без всяких комментариев: «Впрочем, учти: я не выклянчивала и не выбирала для себя такой красоты; это – безвозмездный дар небес. И как нельзя обвинять гадюку в том, что она таит в себе смертельный яд – ибо яд этот дала ей сама природа, – так и меня нельзя упрекать в том, что я красива».
Гадюка! Яд! Бедная маленькая Сюзанна, бедная милая сестренка Сюзанна!
Vale. Твой Лоран.
Глава XVI
Смерть Катрин Удуар. Чувства не должны мешать научному эксперименту. Дорога разума. Величие и мизерность профессии медика. Счастье забвения. Крохотная анатомичка в подвале. Гимн во глубине подвала. Гнев Паскье. Горестные часы
Катрин умерла. Все кончено. Вот она и освободилась от всего: от страданий, от ужасных мук ожидания конца, от боли и радости, от солнца и сумерек, от неведения и знания, ото всех нас и от самой себя. Мягкий, чуть испуганный взгляд никогда уж больше не обратится ко мне в полутемной лаборатории. Красивый, низкий и вибрирующий голос никогда уж больше не поведает мне тех грустных историй о детстве, которые составляли все ее богатство. Все кончено, бедную Катрин навсегда покинула грусть.
Она умерла в пятницу вечером. Я знал уже в среду, что конец неизбежен. Сначала выплыл на сцену, говоря красноречивым языком медиков, артрит коленного сустава. Потом Лепинуа снова заговорил о сепсисе. Наконец, появились признаки нервного расстройства, и болезнь стала стремительно развиваться.
Я предупредил Ронера. Он пришел: порывистый, насмешливый, уверенный в себе. Он только спросил: «Сердце?» Я замотал головой, дабы он понял, что с сердцем пока все в порядке. Он пожал плечами и вытолкнул меня в коридор. Пожевав ус, с хрустом подергав один за другим пальцы, он сказал с упрямым видом:
– Эндокардит неизбежен. Впрочем, там это будет видно.
Он прищурил глаз и с этими словами ушел. Я сразу все понял. Меня особенно покоробил тон Ронера: ни малейшего жеста сочувствия, ни малейшего слова сожаления, он даже не удостоил взглядом эту молчаливую женщину, которая, как ни говори, была верной служанкой в нашем храме и вот теперь стала жертвой нашей религии. Потом вдруг я подумал о профессоре Лелю, с которым я работал целый год в больнице Бусико. Это превосходный человек и знающий медик. Возможно, его интересуют не столько больные, сколько сами болезни. Он никогда не решается высказать у постели больного свой окончательный диагноз. Обычно он говорит: «Позднее будет видно, там...» Для нас, его учеников, это «там» означает анатомичку, где тело больного, освобожденное наконец от жизни, открывает под ножом патологоанатома все свои секреты. Все мысли мэтра работали в этом направлении. Увидев однажды, как один больной, заблудившись, толкается в дверь анатомического зала, профессор Лелю выпроводил беднягу прочь и по-отечески предупредительно воскликнул: «Нет, нет, друг мой! Вам еще рано».
Своим «там» Ронер неожиданно напомнил мне о традиционной фразе Лелю, и мне стало нестерпимо горько.
Ночь с четверга на пятницу я провел в палате Катрин, рядом с монахиней. Я сказал, что мне якобы необходимо понаблюдать за симптомами ее болезни. А на самом деле мне хотелось отдать последние почести этой почти безымянной привязанности, не прожившей на свете даже и трех месяцев, той самой привязанности, что вскоре упокоится в глубине моего сердца, заняв свое место среди невинных воспоминаний, которые можно ворошить без краски стыда на лице. Катрин бредила уже второй день и не узнавала меня. Ночью я выходил два или три раза в больничный сад глотнуть хоть немного свежего воздуха. Стояла холодная, глухая, молчаливая ночь, ночь, которая опрокидывала и отгоняла прочь все мучительные вопросы.
Днем в пятницу Катрин была еще жива. Я забежал в Коллеж, но задержался там буквально на минуту. В Коллеже никто не знает Катрин, и никто поэтому даже и не поинтересовался ею.
Вечером пришло избавление. Тебе, наверно, никогда не приходилось закрывать глаза покойнику, дорогой мой Жюстен. Это жест милосердия, особенно по отношению к живущим. Обычно это делается большим и указательным пальцами руки. Спешка здесь неуместна, потому что какое-то время нужно подержать веки сомкнутыми. Я закрыл глаза Катрин, а сестра подвязала платком челюсть, чтоб рот был плотно закрыт.
Мне хотелось провести ночь у одра покойной, но это бы удивило монахинь, а подходящего предлога у меня не нашлось. Я пошел предупредить г-на Ронера. В смерти есть все-таки какая-то непостижимая, великая сила, ибо даже Старик выдавил из глубины своей черствой души слова сострадания, жалкие, навязшие в зубах слова. Он сказал: «Какое горе». Потом он тут же, не теряя ни секунды, снова оказался во власти своих маниакальных мыслей. Он отбросил сигарету, потер руки – поверь, я ничуть не преувеличиваю – и пробормотал:








