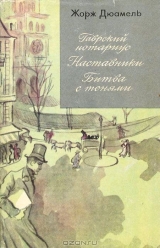
Текст книги "Жорж Дюамель. Хроника семьи Паскье"
Автор книги: Жорж Дюамель
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 35 страниц)
– Он человек редкого ума, – заметил я.
Господин Ронер промолчал и улыбнулся. Я спросил:
– Вы не согласны со мной, сударь?
Профессор неопределенно развел руками:
– Нет, почему же, раз вы так говорите.
Я был совершенно сбит с толку, но продолжал с еще большим пылом:
– Господин Эрмерель всегда казался мне исключительно одаренным человеком.
Профессор Ронер слегка нахмурил брови, а они у него большие и кустистые.
– Полно, полно, – сказал он вкрадчиво и вместе с тем сухо, – не толкуйте вкривь и вкось об исключительных интеллектах. Они на улице не валяются.
Я очень боюсь, как бы несносный Сенак не совершил новой бестактности, коснувшись скрытых ран. Я слышал вчера издали профессора Ронера, беседовавшего с одним из своих ученых коллег.
Он говорил свойственным ему бесстрастным голосом:
– Это мечтатель, человек иррационального склада ума. Зачем только он пожаловал в Общество по рационалистическим изысканиям?
И вдруг мне стало страшно. Только бы эти слова не относились к моему любимому патрону! Кажется, я писал тебе, что его назначили председателем этого Общества? Должен сознаться, я теряюсь среди этого тумана, этого мрака. Фове пришел как раз в ту минуту, когда я собирался уходить. Он теперь почти любезен со мной и даже почти дружелюбен. Моя руки, я спросил у него с показным равнодушием:
– Вы ничего не слышали? Говорят, будто у патрона неприятности с господином Ронером?
Фове пожал плечами.
– Неприятности? Кто вам сказал? Нет, не знаю.
Я не настаивал. Вероятно, Сенак ошибается. Но вот что меня настораживает: как-никак, а он проводит много времени с г-ном Шальгреном, занимается его корреспонденцией, переписывает на машинке его статьи, даже те из них, о которых я ничего не знаю.
Да, я хочу побранить тебя за Фове. Ты не знаешь Фове, а относишься к нему враждебно, чуть ли не со злобой, которая меня задевает. Да будет тебе известно, что Ришар Фове вовсе не мой близкий друг и, по всей вероятности, никогда им не будет. Он человек другой породы, чем мы с тобой. Он наделен пленительным изяществом и отменным вкусом. Или, лучше сказать, он владеет монополией на вкус, и это проявляется в каждом его движении, в каждом слове. По сравнению с ним, милый Жюстен, мы беотийцы и дикари, тогда как он – воплощенная изысканность.
Итак, Жюстен, пусть этот беглый набросок успокоит тебя относительно чувств, которые я питаю к Фове. Как коллега он человек довольно приятный, но внушает мне лишь весьма прохладную симпатию.
А впрочем, к дьяволу! Я утомлен, встревожен. Я допускаю, что такие люди, как Шальгрен и Ронер, могут не ладить и даже враждовать между собой: такие вещи случаются в храме науки. Но то, что они могут не уважать друг друга, не испытывать взаимного восхищения, оскорбляет меня и приводит в замешательство. Ведь оба они крайне умны, черт подери! Им стоит только почитать, подумать и понять. Кому это доступнее, чем им?
Твой сбитый с толку Лоран.
30 октября 1908 г.
Глава VIII
Подлинная ясность духа не есть отсутствие страстности. Новый портрет г-на Ронера. Трость и карман – физиологический очерк. Решение по поводу знаков отличия. Близким ничего не прощаешь. Критика финализма. Эпизодическое появление доктора Ру. Катрин Удуар, друг Лорана. Леон Шлейтер и политический демон. Спокойствие Лорана, олимпийца
Неизъяснимое спокойствие! Олимпийская ясность духа! Такова теперь моя жизнь, дорогой Жюстен. Прошу заметить, однако, что это прекрасное спокойствие исключает всякую пассивность, а та жизнеутверждающая ясность, к которой я постепенно приобщаюсь, не имеет ничего общего с холодностью. Подлинная ясность духа не есть отсутствие страсти, это сдержанная страсть,
обузданный порыв. Я учусь ограничивать себя, иными словами, властвовать собой.
Знаешь, г-н Ронер поистине поразительная фигура. Он понравился бы тебе, уверен. Я уже говорил, что он мал ростом. Но это едва заметно, так как держится он очень прямо. Мне кажется даже, что он носит пояс, нечто вроде корсета. Он говорит: «Брюшко не просто жировой слой и признак физического упадка – это проявление нравственной деградации. Брюшко начинает расти, когда ум слабеет и примиряется со старением организма». Г-н Ронер с этим не примиряется. Он занимается утром и вечером шведской гимнастикой. Соблюдает строжайший режим питания, который он не теряет надежды навязать всему человечеству. Носит наглухо застегнутую куртку, отчего кажется еще прямее. В будни надевает на голову небольшую круглую шляпу из черного легкого фетра. Не расстается со своей тростью. Он говорит: «Трость и карман – дополнение, придаток организма. Трость удлиняет на восемьдесят пять сантиметров радиус восприятия моих мышц, моих осязательных органов. Она расширяет и преображает все мои ощущения, кроме ощущения тепла. Благодаря своей трости, я ощущаю то, что не ощутил бы голой рукой. Трость – звуковая антенна. Антенна факультативная, съемная, которая лишена чувствительности и легко заменяется другой. Все же наше общество более изобретательно, чем сообщество насекомых... Не понимаю, как разумный человек, наделенный пытливым умом, может обходиться без палки. Что касается карманов, то число их достигает у меня двадцати трех, когда я бываю в пальто. И все они имеют определенное назначение. Карман – это не специализированный резервуар, резервуар, не подчиненный воздействию сфинктера. Наши естественные резервуары – желудок, мочевой пузырь, прямую кишку – нельзя наполнить чем попало; к тому же они находятся в сильнейшей зависимости от эмоций. Карман же начисто лишен всяких эмоций. Явное доказательство неполноценности женщин – это отсутствие карманов в их одежде».
Господин Ронер отнюдь не феминист. Он овдовел четыре или пять лет тому назад и почти никогда не говорит о своей жене, а если и говорит, то очень сдержанно и скупо.
Он не носит орденов, хотя, как я слышал, он офицер Почетного легиона. Эта простота заставила меня призадуматься. Мне до неприличия посчастливилось, так как я получил орден в двадцать шесть лет при известных тебе обстоятельствах. Я против того, чтобы выставлять напоказ всякие знаки отличия. Отныне, по примеру г-на Ронера, моя петлица ничем не будет украшена.
Профессор Николя Ронер – примерный работник. Его усидчивости можно только позавидовать. Он способен заниматься, не ослабляя внимания, часов восемь– десять подряд, что кажется мне просто баснословным. Умеет он и отдыхать – способность не менее замечательная, – играя в карты или раскладывая пасьянс. Он признается в этом и даже советует поступать так же. Он говорит: «Когда я играю в карты, то могу почти с уверенностью сказать, что не стану думать ни о чем другом».
И наконец ему свойственна довольно мелочная бережливость – достоинство, которое я постараюсь понять и оценить.
Я пытаюсь, как видишь, нарисовать его портрет. Это нелегко: с каждым днем я лучше узнаю человека, замечаю новые его черты, и мне приходится исправлять все предшествующие наброски.
Служитель нашей лаборатории два дня не приходил на работу: жена его рожала, и дело у нее, видно, не ладилось. Г-н Ронер проворчал:
– Ребенок идет, наверно, боком. Неправильное положение! Для того, чтобы быстро и хорошо выйти на свет божий, ребенок должен устремиться вперед, нагнув голову, как искусный пловец, как мужчина, пробивающий себе путь в жизни.
Я довольно долго переваривал эту сентенцию. Сначала она показалась мне грубой. А затем пленила меня. И тут я должен поделиться с тобой своими сомнениями. Я недавно писал тебе, что у г-на Ронера глаза светло-голубые, цвета неба в Иль-де-Франсе, напоминающие порой взгляд моего отца. Ну вот, мне кажется, что профессор Ронер рассуждает так же, как рассуждал бы мой братец Жозеф, будь он по-настоящему образованным человеком. А между тем то, что отталкивает, что возмущает меня в Жозефе, поражает и восхищает в устах г-на Ронера. Таково, очевидно, дорогой Жюстен, влияние культуры и таланта. Грубость Жозефа, смягченная гуманистическим, философским отношением к жизни, могла бы стать со временем силой, величием. Но Жозеф мой брат. Близким ничего не прощаешь: они позволяют нам заглянуть в наши собственные глубины и озаряют порой эту бездну.
Как видишь, ум г-на Ронера отнюдь не состоит из оттенков и полутонов, как у г-на Шальгрена. Это сильная от природы натура и, по всей вероятности, более стойкая, чем у моего доброго патрона.
Господин Ронер работал вчера вечером, когда я пришел к нему за советом; не отвечая на мой вопрос, он сразу ополчился на меня: «Искушение изменить рационализму, отвлечься от него хотя бы мысленно, хотя бы на секунду, не что иное, как западня, которую надо всячески избегать. Я прочел докладную записку, которую вы-так любезно передали мне. Вы приводите там слова, которыми Шарль Рише заканчивает свой труд об анафилаксии, а эта цитата оставляет, вопреки всему, лазейку для финализма. Неудачная цитата! Рише выдающийся ученый, но если он начинает молоть чепуху, надо тут же отвернуться от него. Мысль о том, будто вид может самопроизвольно предотвращать любые изменения, диктуемые внешней средой... Будто он может направлять собственное развитие, принося в жертву, в случае необходимости, отдельные особи, – это же идеалистическая точка зрения. Будьте осторожны, господин Паскье! У нас имеется лишь одно неоспоримое, верное и гибкое средство познания – наш разум. Все остальное шатко, нелепо, близоруко. Все остальное возвращает нас к блуждающему в потемках варварству. Никаких компромиссов! Мы, люди, все можем объяснить благодаря нашему разуму, и только благодаря ему. Поймите меня правильно: если имеются другие объяснения, я даже не желаю их слушать, я предоставляю их на рассмотрение моллюскам, червям и прочим низшим животным. Эти объяснения вводили в обман людей в продолжение четырех или пяти тысячелетий. Наконец мы, ученые, избавились от них. Итак, никаких препирательств, никаких проволочек! Тот, кто на данном этапе развития науки не идет прямо к цели, рискует все поставить под угрозу. Можете назвать его в зависимости от обстоятельств предателем, подлецом или дураком».
Сколько тут было холодной страсти! Какой язвительный, резкий тон! Я даже не колебался, я был почти убежден. Несмотря на усы и эспаньолку, г-н Ронер походил в эту минуту на Робеспьера. Мне думается, что Неподкупный должен был говорить именно так, этим упрямым,
ледяным голосом, который никогда не повышается, никогда не дрожит. Впрочем, г-н Ронер наделен, видимо, огромной проницательностью: я постоянно думаю о проблемах рационализма в нашу эпоху, и профессор сумел задеть меня за живое.
Приход г-на Ру неожиданно помешал нашему разговору. Ты видел, конечно, его портреты в иллюстрированных журналах. Какое странное аскетическое лицо! Сколько суровости в его чертах! По всей вероятности, г-ну Ру еще нет шестидесяти. Он коротко стрижет волосы и носит бородку, похожую на бороду гугенотов XVI века, его нетрудно представить себе в плоеном воротнике и в брыжах. Брыжей у него нет, но он обматывает шею толстым кашне вроде тех, что случается видеть у классных надзирателей. Он ходит в черном, более чем скромном костюме и в толстых башмаках, которые подошли бы разве только какому-нибудь викарию. Я часто встречаю его у заведующего хозяйством, где он дежурит по нескольку часов в день, наблюдая за всем, что происходит, за людьми, которые приходят, за людьми, которые выходят. У него необычайно зоркий глаз. На прошлой неделе я зашел к нему в кабинет с какими-то бумагами. Г-н Ру сидел на соломенном стуле за голым столом в метр длиною и в локоть шириною, положив ноги на трехфранковый жесткий коверчик. Можно было подумать, что находишься в приемной неимущей монашеской конгрегации. Не скрою от тебя, я до сих пор не избавился от чувства ледяного почтения. Я находился в самом преддверии науки XIX века, непреклонной, чистосердечной, целомудренной.
Господа Ру и Ронер заговорили о делах. Я догадался, что речь идет о Биологическом конгрессе, который откроется в Париже в конце зимы.
Господин Ронер заметил:
– Вы отказались председательствовать на конгрессе, и это очень жаль – с вами все было бы гораздо проще. Насчет речи я подумаю. Позвольте мне подумать. Я не люблю ни с кем делить ответственность...
Тут оба собеседника отошли от меня, и конца разговора я не услышал. Я отправился в главную лабораторию. Стал работать с г-жой Удуар, молодой женщиной, о которой я тебе рассказывал в одном из писем: она выполняет здесь «функции лаборантки», как говорит Стернович. Она из очень хорошей семьи, но, к сожалению, не получила систематического образования. Замужем она была всего несколько месяцев, затем супруг покинул ее из-за какого-то любовного увлечения. Ей пришлось поступить на работу. Она занимается здесь культурами, термостатами, измеряет температуру у животных, делает им уколы, ведет записи. Она преданна, молчалива и печальна. У нее иссиня-черные волосы и матовая кожа. Прекрасные, затуманенные грустью, глаза. Она очень мне нравится. Не подумай, будто речь идет о какой-нибудь интрижке. Нет, я питаю к ней искреннюю дружескую симпатию с примесью нежности. Я назвал ее «молчаливой», и это соответствует действительности. Но стоит ей заговорить, и раздается прекрасное контральто, звучное, хватающее за душу, как звуки скрипки в нижнем регистре.
Как видишь, я пытаюсь описать тебе людей, которые меня окружают. Не подумай, будто я считаю себя центром чего бы то ни было. Нет, нет, я стал скромным, даже чересчур скромным. Всякая гордыня внушает мне отвращение.
Господин Ронер прошел с г-ном Ру по лаборатории и проводил его до дверей. Затем подошел ко мне, вид у него был озабоченный. Он хрустел пальцами. Этот звук действует мне на нервы.
– Вы знакомы с господином Шлейтером? – спросил он.
– Да, сударь, я работал с ним прежде у господина Дастра.
– Будете иметь удовольствие встретиться с ним. Он проводит расследование в нашем Институте, да, расследование по поручению министерства, и, вероятно, находится на этаже под нами. Он явится сюда с минуты на минуту.
Господин Ронер сухо рассмеялся и прибавил:
– Именно у Дастра господин Шлейтер подготовил свою диссертацию о содержании фосфолипидов в птичьих яйцах. Я хорошо ее помню. Превосходная работа. С тех пор господин Шлейтер ударился в политику. Мы еще услышим о нем. И пусть его бывшие коллеги и наставники не слишком сожалеют о такой потере! Когда высокообразованный человек обращается к политике, это значит, что он потерпел крах на избранном поприще, это значит, что он уже ни на что не годен. Государством управляют люди, оставшиеся за бортом всех почтенных профессий.
Глаза г-на Ронера сверкали холодным пламенем. Он стиснул зубы, что привело меня в еще большее замешательство, чем смысл его слов. Затем проговорил со сдержанным гневом:
– Заметьте, Паскье, я имею в виду людей, которые получили все же солидное образование. Зато другие! Какое убожество! Необразованных людей не следовало бы допускать к административным должностям. Надо бы учредить курсы, конкурсы. В сущности, народ презирает образование: он видит, что и необразованные люди занимают высшие посты в государстве, он понимает, что и без образования можно обойтись. Таким образом, власть попадает в руки наименее достойных. К сожалению, люди талантливые и любящие свое дело не желают отказываться от него, чтобы стать лакеями парламентского сброда. Народ прекрасно знает, что ни за четыре-пять месяцев, ни даже за пять лет случайный человек не станет ученым, хирургом, художником. Зато на политическом поприще первый встречный может не сегодня, так завтра сесть в кресло власть имущих и, заполучив это кресло, командовать не только прихвостнями, но и учеными, хирургами, генералами, художниками – словом, людьми, которые отдали все силы, чтобы научиться чему-нибудь и прилично выполнять определенную работу. Все это не слишком весело.
Эти речи поставили меня в тупик. Известно, что г-н Ронер бывает в кулуарах министерств и засыпает политических деятелей ходатайствами и жалобами. Как же так?
Господин Ронер, вероятно, еще долго говорил бы на эту тему, но тут явился Леон Шлейтер. Два года назад он покинул Сорбонну. Теперь он в отпуске и пользуется любым случаем, чтобы повидать старых товарищей. Не знаю, что тому причиной – тоска или желание порисоваться.
Он все такой же черный, худой и унылый.
Нужды нет, я встретился с ним не без удовольствия. Мы побеседовали о Сорбонне, о его приезде в «Уединение» в прошлом году, о наших однокурсниках и преподавателях. Затем Шлейтер заговорил о политике. Он начальник кабинета Вивиани, но придерживается более левых убеждений, чем его патрон, и даже более левых, чем Жорес и Гед, его кумиры. Он окопался в прихожей министерств, но лишь для того, чтобы ожидать и подготовлять там революцию. Затем он сразу перешел на тон, который я назвал бы тоном «революционного ханжества». В самом деле, он говорит о революции, как иные говорят о господе боге, с видом елейным и сокрушенным.
Он ушел. Г-н Ронер успокоился. К нам вернулась та олимпийская ясность духа, о которой я, кажется, упоминал в начале этого письма, и я снова насладился ею.
Как видишь, жизнь моя течет спокойно. Одно только испортило мне настроение за последние дни. В Институт зашел Сенак, хотя ему и нечего здесь делать. И все никак не мог уйти.
Сенак сумасброд. Да, надо сказать тебе, пока я не забыл: все его недавние инсинуации бессмысленны и необоснованны. На прошлой неделе г-н Ронер обратился ко мне с такими словами: «Я только что получил письмо от г-на Шальгрена. Поистине любезное письмо. Речь идет об одном пункте повестки дня. Поблагодарите его, пожалуйста, от моего имени». Мне показалось, что ветер разогнал все тучи на моем горизонте. Я был доволен.
Твой старый друг Лоран, олимпиец.
15 октября 1908 г.
Глава IX
Сенак ни во что не верит, даже в небытие. Что означает, в сущности, пренебрежение к почестям. Друг кошек. Кот угадывает мысли людей. Г-н Шальгрен встревожен. Статья, которая должна остаться втайне. Странное совпадение. Хибарка в глубине тупика. Похвала одиночеству. Признания Сенака. О научном любопытстве
Твоя правда, Жюстен, я пренебрегаю помимо воли пашей перепиской, и ты вправе жаловаться на меня. Прошу прощения. Но на моих глазах разыгрывается непонятная драма, о причинах и перипетиях которой мне очень трудно судить. От моей недавней ясности духа не осталось и следа. Я живу среди тревог и опасений.
Чтобы объяснить тебе, в чем дело, придется вернуться к некоему разговору, который вышел у меня с Сенаком десять дней тому назад. Речь идет о тягостных событиях, и поэтому тебя не слишком удивит, что в них замешан Сенак. Я чуть было не написал «скомпрометирован», но все же удержался.
Я был в Институте десять дней назад или около этого, когда туда пожаловал Сенак. Должны были начаться лекции, практические занятия, и я готовился к прибытию студентов. Можешь себе представить, сколько у меня было работы. Когда ко мне заходит Сенак, это ведет к потере часа времени, не меньше. А если, к несчастью, он еще и выпил, мне приходится более двух часов нянчиться с ним, ободрять его, утешать. В тот день Сенак выпил. Если бы я не заметил этого по его взгляду, по запаху спирта, по дрожанию рук, по звуку голоса, по невнятному произношению, то безошибочно догадался бы обо всем по характеру его речей. Когда Сенак бывает пьян, он ругает пьяниц и обвиняет в пьянстве всех и каждого. Он начал с того, что обрушился на Стерновича:
– Он напивается как стелька четыре раза в неделю, весь пропитался спиртом. Он русский еврей, а по пристрастию к сивухе похож на настоящего русского. Право, в России так много запойных пьяниц, что она никогда не сыграет видной роли в мировой политике. Кха, кха! Не переношу пьющих людей.
Он беспрестанно икал, отравляя спиртным духом всю лабораторию. Затем принялся жаловаться:
– Испоганил я свою жизнь, а подыхать все же неохота. Моя жизнь – сплошное мучение, Лоран, можешь мне поверить, я слов на ветер не бросаю. И вот что мерзко, я предпочитаю это великому ничто. Вероятнее всего, я попаду в ад, как говорят добрые люди. Ад – все же кое-что, какая-то форма вечности. Я предпочитаю ад небытию. Ад – это продолжение существования. Впрочем, хочешь, я все выложу тебе начистоту: я не верю в ад, я ни во что не верю, даже в небытие. Ты слышал, что я сказал? Я не верю даже в небытие.
Уф! Когда Сенак бывает в таком настроении, не остается ничего другого, как терпеливо сносить его. Я сделал вид, будто ничего не слышу, и продолжал переходить от стола к столу. Мой халат был распахнут. Сенак шел за мной по пятам, продолжая икать. Он дернул меня за полу, и взгляд его сразу загорелся.
– Ха, ха, ты уже не носишь ордена! – прогоготал он.
– Не все ли тебе равно?
– Все равно, понятно, но это симптоматично: люди потому не носят орденов, что ждут более высокой награды и бывают недовольны, не получив ее. Я говорю, конечно, не о тебе. Взгляни на Ронера, он перестал надевать свою серебряную бляху с тех пор, как Шальгрен отхватил золотую. Это же яснее ясного.
– Замолчи, – сказал я, вскипев. – Тебе этого не понять, но бывают в жизни минуты, когда человек чувствует, что он избавился от скверны, что ему не нужны почести.
Сенак расхохотался и, засунув в нос указательный палец, пробормотал:
– Полно, не так уж ты наивен! Отказываются от знаков отличия как раз люди самые чванливые, самые жадные до почестей. Они считают для себя честью пренебречь почестями. Ну, да когда-нибудь ты в этом признаешься.
И без всякого перехода, словно воспользовавшись моим настроением, чтобы затронуть основной вопрос, он заявил:
– Послушай, Лоран, сегодня утром я не пошел к профессору Шальгрену и уж лучше скажу тебе напрямик: я больше к нему не пойду.
Я почувствовал, что гнев мой сменил свой объект и отправную точку и устремился по новому направлению.
– Что ты опять натворил?
Это было сказано резко, и я полагал, что Сенак примет бой, станет защищаться, контратаковать. Ничего подобного. Он опустил глаза и проговорил с умильной улыбкой:
– Я не могу туда вернуться из-за кота.
Я, кажется, писал тебе, что по моей просьбе г-н Шальгрен взял к себе этой весной Сенака в качестве секретаря. Сенак умеет писать на машинке. Знает стенографию. Как помнишь, он был до «Уединения» секретарем некоего политического деятеля по фамилии Куальё. Скромное место у г-на Шальгрена давало ему возможность прокормиться. Г-н Шальгрен много пишет. Ему нужен человек, который вел бы его картотеку, ходил бы по библиотекам, читал и систематизировал интересные статьи, переписывал рукописи. Работа эта приятная не только благодаря общению с патроном, ибо он человек в высшей степени живой и многосторонний, но и благодаря отсутствию строгого распорядка дня. Ничего похожего на работу в учреждении. Много свободного времени, много независимости. Словом, все, о чем мог только мечтать в свои лучшие часы такой парень, как Сенак.
Он заметил, не поднимая глаз:
– Я ничего не сделал дурного. Говорю же тебе, все вышло из-за кота. Я не могу больше видеть этого кота.
– Каковы бы ни были причины твоего ухода, заявляю тебе – они нелепы!
– Ты этого не знаешь. А я нахожу их более чем основательными.
Я сидел на краю соломенного тюфяка и нервно вертел в руках стеклянную линейку. Сенак стоял передо мной как преступник. Он искал дрожащей рукой ученическую табуретку, низенькую табуретку, на которую и опустился. В этом положении он мог не поднимать на меня глаз. Уставившись на мою коленку, он стал извлекать из глубины своего существа какие-то жалкие оправдания, которые, пожалуй, не пришли бы в голову никому другому.
– Знаешь, его зовут Минос. Красивое имя для кота. Когда я писал за столом в библиотеке, он ходил вокруг меня, терся о мои штаны, всячески старался приласкаться. Так что под конец я брал его поперек туловища и сажал к себе на колени. Он оставался у меня долго, очень долго. Порой я даже забывал о нем. Порой он мурлыкал, требуя, чтобы его погладили. Тогда я чесал у него за ухом или щекотал ему пальцем шею. Стоит пальцу немного соскользнуть, и нащупываешь трахею толщиною с гусиное перо, ее кольцеобразные хрящи...
Сенак умолк, и мне пришлось подбодрить его: «Что все это значит?.. Объясни... Я не понимаю...» Тогда он вновь заговорил:
– Ты никогда не убивал кошек? Нет. Значит, ты не любопытен. Это очень трудно, поверь. Иные сажают кошку в мешок и до смерти забивают ее палкой. Кошка прыгает, шипит, воет. Это ужасно. Другие вешают ее. А когда кошка издохнет, ты не можешь себе представить, какая она бывает длинная и тяжелая. Да, да, убить ее нелегко. Я не раз нащупывал трахею. Согласись, это заманчиво. Я говорил себе, что стоит сжать горло... Только надо выработать прием. Я часто думал об этом приеме. С силою зажать задние лапы между колен, схватить одной рукой передние лапы, а другой, ну, другой заняться трахеей... Понимаешь, Лоран, меня привлекала трудность затеи. Ничто другое. Задушить кошку, не дать себя оцарапать, согласись, ведь это требует ловкости. И как раз в ту минуту, когда я был готов совершить... этот поступок... Я только подумал о нем, даже не попробовал сжать колени. Повторяю, это было как бы неясным желанием... Вдруг кот Минос испустил истошный вопль. Я даже не угрожал ему, даже не сжимал... Он испустил оглушительный вопль и пребольно оцарапал меня. Вот, погляди на мою руку. Словно он угадал мысль, которая даже не была вполне четкой, вполне определенной. И затем прыгнул. Фрр! Он уже был на камине и смотрел на меня оттуда человечьим взглядом. И под конец ушел, пожав плечами. Честное слово!
Мы с тобой хорошо знаем Сенака. И все же это признание вызвало у меня тягостное чувство. Я подыскивал ответ, когда он снова заговорил:
– Что получилось бы, если бы я убил этого кота? Что сказал бы господин Шальгрен? Что подумали бы обо мне люди, если бы я явился с такой дичью в руках?
– Но в конце концов, – возразил я, передернув плечами, – ты же не убил кота?
Сенак покачал головой.
– Это почти то же самое. Я больше не вернусь к Шальгрену. Понимаешь, я не хочу, чтобы кот опять посмотрел на меня. Я этого не вынесу.
Вид у Сенака был упрямый. Должен сознаться, я жалел его. И в довершение всего, мне захотелось, по своему обыкновению, утешить его. Но он взял свою шляпу и ушел, бедняга, жуя свой черный ус. А я стал придумывать, куда бы его пристроить, надо же ему как-то жить. Боже, до чего я глуп! Я думал лишь об этой нелепой и отвратительной истории с котом, о потерянном месте, в сущности, о пустяках.
Несколько дней прошли среди этих мелких забот. Я избегал говорить о Сенаке с патроном. Я думал: «В конце концов господин Шальгрен сам скажет мне что-нибудь».
Все вышло так, как я ожидал, и я почти сразу же почувствовал, что драма вовсе не проста. Г-н Шальгрен спросил у меня во вторник или среду на этой неделе:
– Ваш друг Сенак, видно, болел? Он уже около недели не приходит на работу. Будьте так добры, Паскье, узнайте, что с ним.
Вид у патрона был озабоченный. Он щурился, что служит у него, насколько мне известно, признаком усталости. Вдруг он сказал что-то совершенно невразумительное:
– Господин Сенак вне подозрения. Он ваш друг, и это достаточная гарантия. К тому же все три копии у меня.
Почувствовав, что до меня не доходит смысл этих отрывочных фраз, он постарался взять себя в руки. И все же голос его дрожал от волнения, когда он спросил:
– Скажите, вы читали последний номер «Медицинской прессы»?
– Нет еще, патрон, не успел.
Господин Шальгрен, видимо, колебался. Он сделал усилие над собой, чтобы успокоиться, и мне показалось, будто он улыбнулся. Но это была вымученная улыбка, и она расстроила меня. Затем он прибавил, понизив голос:
– Вам, верно, известен, Паскье, труд господина Ронера «Происхождение жизни»? Последнее время об этой книге много говорят.
– Да, патрон, известен.
– В труде господина Ронера есть превосходные места. Но там имеются, кроме того, фантастические гипотезы и сомнительные высказывания. Господин Ронер злоупотребляет рационалистической диалектикой и договаривается до утверждений несколько курьезных в устах признанного поборника научного эксперимента. Вспомните, Паскье, основное положение предисловия: «Стоит соединиться в определенных пропорциях углероду, азоту, кислороду, водороду, сере и нескольким второстепенным элементам, стоит возникнуть условиям, необходимым для синтеза живых белков, как появятся зачаточные формы жизни, которые мы еще не можем полностью объяснить, но непременно объясним в ближайшем будущем, и, раз появившись, говорю я, эти формы станут развиваться, влиять на окружающую их питательную среду и порождать путем мутаций, или, иными словами, путем скачкообразных изменений, живые организмы, подчиненные всем законам прогрессивной или регрессирующей эволюции... » Я цитирую по памяти. Подлинный текст, несомненно, лучше – господин Ронер превосходный стилист. Так вот, все. эти идеи – а они произвели огромное впечатление – не что иное, как плод пустого теоретизирования...
Господин Шальгрен надолго умолк. Я не мог понять смысла этого монолога. И, главное, не улавливал связи между диатрибой патрона и дрязгами Сенака. Я даже сомневался в наличии между ними какой-либо связи. Голосом еще более тихим, еще более неуверенным патрон снова заговорил:
– Мне не нравится труд господина Ронера. Будьте спокойны, мой друг, я ничего ему об этом не сказал. И даже как будто написал хвалебное письмо. Однако я оставляю право критики за собой: господин Ронер один из тех биологов, которые не устояли против математической заразы. Несмотря на всю свою ригористичность, он из породы тех мечтателей, которые воображают, будто стоит смешать в пробирке водород, углекислоту и прочие ингредиенты, положить пробирку в термостат, и сутки спустя они найдут в своей кухне нечто вроде гемопаразита Лаверана или, как знать, даже ее величество палочку Коха. Эти господа – люди весьма серьезные, но тут есть над чем посмеяться... Ведь это же возврат, и возврат воинствующий, якобы научно обоснованный, к самопроизвольному зарождению! Представьте себе, Паскье, я написал осенью критическую статью по поводу книги господина Ронера, но отнюдь не собирался ее публиковать. Я не полемист. Статью же я набросал для себя, для себя одного, чтобы успокоить свою совесть. Я никому о ней не говорил. Именно потому я не понимаю тона статьи господина Ронера в последнем номере «Медицинской прессы».
Видя, что патрон не решается высказаться яснее, я заметил самым почтительным образом:
– Сударь, я ничего не понимаю.
– Конечно, вы и не можете понять. Поверьте, мой добрый друг, если я заговорил с вами, именно с вами, об этом тягостном деле, то сделал это не только из дружеского расположения к вам. Вы знаете господина Сенака, он ваш друг и как будто старый друг. Должен вам сказать, Паскье, что я дал текст своей статьи господину Сенаку и просил переписать ее в трех экземплярах.








