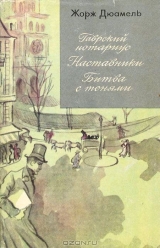
Текст книги "Жорж Дюамель. Хроника семьи Паскье"
Автор книги: Жорж Дюамель
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 35 страниц)
Итак, Тестевель ждал меня на лестнице, куря сигарету.
– Ты идешь обедать к Папийону? Давай пообедаем вместе, – предложил он.
На улице я заметил, что он не брился четыре-пять дней, не меньше. Я намекнул ему на это... упущение. Он ответил с блаженной улыбкой:
– Сюзанна попросила меня отпустить бороду. Мне кажется, борода мне пойдет. К тому же она скроет небольшую ямочку, вот здесь, на подбородке.
Увы, что тут скажешь? Тестевель должен переболеть этой досадной болезнью. Повторяю, Сюзанне ничего нельзя втолковать. Она смеется и смотрит на меня своими прекрасными глазами, чистыми, как родниковая вода. Я плохой ментор и ухожу от нее посрамленный. Предоставим же Тестевеля его судьбе.
Я с радостью узнал, что ты вернулся к поэзии и даже пишешь стихи после работы, несмотря на отупляющую усталость. Но почему ты бываешь так немногословен, говоря о прогулках с этой работницей, м-ль Мартой?.. Будь у меня что-нибудь подобное, я без конца писал бы тебе об этом.
Пора приниматься за работу.
Речь у г-на Ронера необычайно четкая, впрочем, четкость свойственна и всей его особе. Мне показалось, однако, что он называет патрона не то Шапегрен, не то Шатегрен, точно не знаю. Почему? Скорее всего, я ослышался, вряд ли это ошибка профессора. Впрочем, неважно.
Возвращаюсь к своим книгам. Твой брат по одиночеству.
Л. П.
20 октября 1908 г.
Глава VI
Встреча с г-ном Мерес-Миралем. Креатура Жозефа Паскье. Разоблачения по поводу вполне надежного капитала. Катехизис законченного пройдохи. Отрывочные мысли о финансовом гении. Тревоги богатого человека. Ангел музыки успокаивает Лорана. Сесиль Паскье принимает участие в научной работе. Покой сердца и покой ума
Пишу тебе в пылу гнева, с которым никак не могу совладать. Быть может, мне удастся избавиться от него, рассказав тебе обо всем. Искренне желаю этого, гнев обуревает меня. Я болен, дышу с трудом, сердце бьется неровно, руки и ноги перестали слушаться, желудок бунтует, во рту пересохло, так как слюнные железы отказываются работать.
И все это из-за сущей безделицы, в чем ты не замедлишь убедиться. Злюсь же я на самого себя.
Я вышел от Папийона около часу дня и собирался пересечь бульвар Сен-Мишель, когда мне повстречался г-н Мерес-Мираль. Мы обменялись рукопожатием, и я подумал сначала, что этого более чем достаточно.
Я говорил тебе о г-не Мерес-Мирале, да ты и сам видел его во время нашего памятного пребывания в Пакельри два года тому назад. Г-н Мерес-Мираль – секретарь, фактотум, доверенное лицо Жозефа. Прошу тебя заметить, насколько эти звания расходятся в данном случае с их общепринятым смыслом. Г-н Мерес-Мираль – секретарь, которому надлежало бы, хотя бы из осторожности, не разглашать тайн патрона; кроме того, этот фактотум почти ничего не делает, по крайней мере, ничего существенного. И наконец сам Жозеф представляет его следующим образом: «Познакомьтесь, мое не внушающее доверия доверенное лицо». А г-н Мерес-Мираль принимает эту колкость с сияющей улыбкой. Надо все же полагать, что он знает толк в иных темных делишках, для которых финансистам всегда требуются помощники.
Итак, он стоял на тротуаре, и я собирался без малейшего сожаления покинуть его, как вдруг почувствовал прилив сострадания.
Нельзя сказать, чтобы г-н Мерес-Мираль роскошно одевался. Он нюхает табак, и его жилет усыпан табачными крошками и заскоруз от грязи. У фактотума отвислые щеки, несколько подбородков про запас, шея гармошкой, короче говоря, целый ассортимент жировых складок. Глаза большие, выпуклые; один зрачок расширен, другой превратился в точку, что не предвещает их обладателю ничего хорошего. Растительность – волосы и усы – редкая, легкая, как пух, зато старательно выкрашенная. Он делает иногда тщетные усилия, чтобы вставить монокль в свой заплывший глаз. Голос низкий, скрипучий. На ногах замшевые гетры, забрызганные грязью. Я не считаю его ни дураком, ни растяпой. По всей вероятности, наш человечек не в силах устоять перед известными удовольствиями. Он начал свою карьеру с какой-нибудь небольшой подлости, а остальное пришло само собой. К сожалению, Жозеф толкает его по наклонной плоскости, видимо, поручая ему сомнительные сделки, которые он не желает брать на свой счет. Тебе может показаться, что я сегодня безжалостен. Ты скоро поймешь почему.
Итак, я окидываю г-на Мерес-Мираля внимательным, сочувственным взглядом и спрашиваю:
– Ну как, сударь, дела не слишком хороши?
Господин Мерес-Мираль прикладывает руку ко рту,
пытаясь заглушить икоту, и говорит:
– Увы, похвастаться нечем.
– Не смею расспрашивать о причине ваших огорчен и й , – замечаю я мягко.
– Да? Но, в сущности, почему?
– Насколько мне известно, вы собираетесь оставить службу у моего брата. Я слышал о ваших неприятностях, господин Мерес-Мираль, и, поверьте, всем сердцем сочувствую вам.
Господин М . – М . – ты разрешишь мне прибегать иногда к этому сокращению – поднимает брови, расправляет складки на своем лице, опускает монокль и говорит:
– Оставить господина Паскье! Этого еще недоставало! Но почему, позвольте вас спросить? Нет, об этом и речи быть не может. Если я и упомянул о неприятностях, то имел главным образом в виду непорядки с желудком, с кишечником, понимаете, господин Лоран?
Какую-то долю секунды я пребываю в нерешительности. Трудно себе представить, чтобы Жозеф скрыл свое положение от подручного, который живет, пресмыкаясь, в его тени. Я продолжаю очень осторожно:
– Мне говорили... я слышал, будто мой брат собирается изменить свой образ жизни, навести порядок в своих делах.
Господин Мерес-Мираль шумно откашливается, чтобы удалить мокроту из своих астматических легких, и берет меня под руку.
– Сударь, – говорит он, – на тротуаре неудобно беседовать о финансовом гении господина Паскье, вашего брата. Не откажите в любезности выпить со мной чашечку кофе со сливками. Нет, нет, прошу вас, я знаю, что делаю: состояние моей казны не внушает опасений. Думается мне, господин Лоран, вы имеете довольно смутное представление о близком вам человеке, об одном из любопытнейших представителей нового века, если только я не ошибаюсь.
Он подталкивает меня, тащит за собой, и вот мы уже сидим на террасе Вашет, между двумя большими окнами, выходящими в сторону музея Клюни. Г-н Мерес-Ми-раль улыбается, приводя в движение комки жира, которые скрывают черты его лица, вставляет монокль в припухлость глаза и благодушно вопрошает:
– Не будете ли вы так добры, сударь, объяснить мне, почему ваш уважаемый брат собирается изменить свой образ жизни?
– Но, – говорю я с неудовольствием, – вы должны это знать лучше, чем я! Дело в том, что брат разорился.
Господин М.-М. закрывает глаз без монокля, сжимает дряблые губы и бормочет:
– Вот как?! Превосходно! Превосходно! Понимаю, все ясно.
Следует покашливание, сопровождаемое разнообразными хрипами. Г-н М.-М. прочищает горло, сворачивает сигарету и зажигает ее, повторяя: «Понимаю, понимаю, да, да... »
Затем он дотрагивается тыльной стороной руки до пуговицы на моем жилете, сжав пальцы, возвращает руку на прежнее место и продолжает конфиденциальным тоном:
– Господин Лоран, я не выполнил бы своего долга, если бы не воспользовался этой встречей, чтобы успокоить вас относительно положения дел вашего брата. Но минутку внимания! Я хочу почтительнейше попросить вас о строгом соблюдении тайны. Ведь у вас, молодого человека с благородным сердцем, нет желания навлечь немилость на Жана Мерес-Мираля и довести его этим до нищеты и отчаяния. Итак, ваше честное слово! Вы дали его, благодарю. Как вам известно, я питаю чувство благоговейного восхищения к вашему уважаемому брату. Можете ли вы сказать мне, от кого вы получили сведения о разорении господина Жозефа?
– Да от него, – отвечаю я, пожимая плечами, – от него самого.
– Превосходно! Все разъясняется. Еще один вопрос, сударь. Какого числа господин Жозеф счел нужным сообщить вам эту досадную новость?
– Не знаю точно. Это было в конце прошлого месяца. Погодите, вспомнил, кажется числа двадцать первого. Да, это было утром в понедельник, двадцать первого числа.
– Поразительно, поразительно: финансисты, вроде вашего уважаемого брага, не разоряются по понедельникам.
– Но почему же?
– Да потому, что по понедельникам Биржа бывает закрыта уже третий день. Итак, господин Лоран, я начинаю понимать. Разрешите мне почти полностью успокоить вас. Дела господина Жозефа идут хорошо, и в его финансовом положении не произошло за последнее время сколько-нибудь существенных перемен. Вы удивлены?
– Вы, верно, ошибаетесь, господин Мерес-Мираль. Двадцать первого сентября, на торжественном семейном собрании Жозеф заявил нам, что он разорен и, видимо, выйдет из этой передряги обремененный долгами.
Господин М.-М. улыбается, берет понюшку табака, запихивает ее в нос, машет рукой, словно желая отогнать муху или опровергнуть легковесные аргументы, и продолжает, понизив голос:
– Он, конечно, сказал вам это, и вы ему поверили, что вполне естественно: господин Жозеф Паскье обладает замечательным даром – он заставляет верить своим словам и сам верит тому, чему хочет верить. Можете не сомневаться, уважаемый господин Лоран, мне известны денежные дела вашего брата. Его состояние вполне надежно, и он прекрасно им распоряжается. Опасаться нечего. Бывают, правда, случайности, перебои, ложные шаги. В жизни вашего брата они крайне редки. И это хорошо, так как он плохо переносит неприятности. Попробуем проанализировать с вами создавшееся положение. В пятницу восемнадцатого сентября Руманьские плотины – превосходное предприятие, в сущности, созданное вашим братом, – почему-то внезапно осели; вероятно, сказалась засуха в Руманьском бассейне, но это пустяки – теперь там ежедневно идет дождь. Я иногда езжу по делам в те места и знаю, что говорю. Ваш брат потерял на бумаге сумму, которую я оценил бы в тридцать тысяч франков, ни одним луидором больше. Должен вам признаться, что он был в отвратительном настроении. Впрочем, теперь уже можно утверждать, что эта превосходная недвижимая собственность будет вскоре восстановлена. Вы смотрите на меня? Вы как будто удивлены?..
– Но, господин Мерес-Мираль, а как же парижский дом, вилла в Болье, замок в Мениле?..
– Все эти владения находятся в образцовом порядке, сударь, смею вас заверить. Я рад, что могу хоть немного успокоить вас. Минутку, господин Лоран, разрешите задать вам один вопрос, надеюсь, он не покажется вам нескромным после того, что мы здесь говорили. Скажите, на том собрании в лоне семьи, о котором вы так любезно упомянули, не обратился ли господин Жозеф с просьбой о небольшом займе, как это называется на нашем профессиональном языке?
Я утвердительно кивнул, и г-н Мерес-Мираль рассмеялся, что не обходится у него без драматических последствий, так как он начинает задыхаться и складки на его лице и шее приходят в бурное движение.
– Ну и ну, – приговаривал он, – это бесподобно. Никто ему и в подметки не годится. Что за человек! Он бывает страшен, но он меня интересует, и в некотором роде я даже преклоняюсь перед ним. Кха, кха, кхи, кхи, ха, ха! – последовал приступ кашля и приступ смеха. – Разрешите задать вам вопрос об этом займе, о размере денежных взносов, собранных в тот памятный день. Но я вряд ли ошибусь, сказав, что эта сумма приблизительно равна сумме денежных потерь. О, я знаю господина Паскье, он принципиальный человек. Каждая его потеря должна быть тут же возмещена новыми поступлениями, добытыми любым путем. Человеку, который теряет хотя бы луидор, не пытаясь немедленно возместить потерю, грозит неминуемый финансовый крах. Вы поражаете меня, господин Лоран, вид у вас огорченный. А я-то думал успокоить вас своим сообщением. Известно ли вам, что ваш уважаемый брат – выдающийся человек, гений на свой лад, да, я не оговорился, – гений наживы.
Господин М.-М. снова рассмеялся и стал засовывать себе в нос новые понюшки. Видимо, он не торопился вставать из-за стола, тогда я заплатил по счету и ушел; однако на прощание мне пришлось выслушать немало дельных и лирических замечаний по поводу финансового гения моего брата.
У меня оставалось еще немного времени, и я вскочил в омнибус. Решил заехать на улицу Прони, чтобы повидать Сесиль. Я был очень взволнован. Не из-за денег, можешь мне поверить. Но я ничего не мог понять, а я во всем люблю ясность. Жозеф сказал нам, что разорен, Неужели он мог так посмеяться над нами, его близкими,
которые бедны, очень бедны по сравнению с ним? Омнибус катил, а я в ярости возвращался все к тем же мыслям: возможно, финансовый гений и существует, но это пошлый, омерзительный гений. Есть страны, где никогда не рождалось ни одного выдающегося человека – артиста, ученого, поэта, зато там постоянно появляются денежные тузы, банковские воротилы, спекулянты. Нет, нет! Я не признаю такого гения, я отвергаю его.
Сесиль была дома и упражнялась на клавесине. Мне показалось, будто я принес с собой в этот целомудренный приют дыхание ядовитых мыслей. Сесиль сразу поняла, что я сам не свой. Не отрывая рук от клавиатуры, она спросила с улыбкой:
– Что случилось? Почему у тебя такой расстроенный вид?
Этих слов было достаточно, чтобы я вскипел:
– Жозеф посмеялся над нами!
Сесиль пожала плечами и повернулась ко мне лицом: во всем ее облике появилось вдруг что-то покорное. Она сказала:
– Да, да, мне кажется, я знаю, почему ты так говоришь.
– Знаешь?! Ты знаешь, что он сделал! И ты улыбаешься, ты прощаешь! Скажи прежде всего, откуда ты это знаешь?
Сесиль уклончиво повела плечами. Я ходил взад и вперед по комнате и негодовал:
– Он богат, могуществен. Ему захотелось иметь деньги, поместья. Он все это имеет. Он презирает нас, смеется над нами и под конец разыгрывает отвратительную, нелепую комедию и, шутки ради, выманивает у нас какие-то жалкие гроши. О, я говорю так не из-за этой ничтожной суммы, ты меня знаешь, Сесиль. Но я чувствую себя униженным. И как он, должно быть, смеялся! Как глумился над нами! Сесиль, это невыносимо!
Сесиль сидела, сложив на коленях руки, в позе ожидания и мольбы, которую она часто принимает даже перед публикой, на концертах. На ней было белое платье, последнее в этом сезоне. Она дала моему гневу остыть и заговорила спокойно, рассудительно:
– Я почти все узнала, об остальном догадалась. Мне даже сообщили кое-какие подробности. Всегда найдется человек, готовый сообщить тебе подробности. Полно,
Лоран, будь же справедлив: Жозеф болен. Если бы сию минуту кто-нибудь сказал тебе, что опыты Пастера – надувательство, ты обезумел бы от горя, потому что ты веришь в науку. И если бы нам с тобой доказали – впрочем, это невозможно, – что концерт ля минор Моцарта – произведение безвестного безумца и алкоголика, мы были бы сбиты с толку и вместе с тем глубоко опечалены, потому что мы верим в искусство. Жозеф верит только в деньги. Он вовсе не сильный и могущественный человек, каким мнит себя. Он слаб и жалок. О, я знаю его лучше, чем ты. Всякий раз, как у него бывает горе, он приходит ко мне. Ты удивлен? Но это так. И приходит не для того, чтобы послушать музыку, а для того, чтобы облегчить душу, на свой лад. Ты плохо знаешь Жозефа. Он страдает, как и все. Стоит ему потерять сто франков, и ему, миллионеру, начинает казаться, будто он самый обездоленный из людей. Он потерял как-то тысяч тридцать и счел себя разоренным. Он обезумел от ужаса. Он пришел поведать мне о своем крахе и в конце концов убедил меня. Я тоже решила, что он разорен. Я пожалела его. И все еще жалею. Он живет среди роскоши и вместе с тем среди сомнений и страхов. В те дни, когда Жозеф не получает никакой прибыли, он пугается и начинает лихорадочно придумывать новые ходы, его охватывает чувство неуверенности, боязнь лишиться достатка. В иные дни, несмотря на все свои поместья, дома, ценности, полные доверху сундуки и другие богатства, о которых мы даже не подозреваем, в иные дни, говорю я, он бывает не менее жалок, чем нищий, просящий милостыню на улице.
Говоря все это, Сесиль держалась очень прямо, спокойно, по-настоящему просто – так могла бы говорить Минерва, покровительница искусств. Минерва сострадательная, мудрость которой проникнута кротостью. Она сказала в заключение со странной улыбкой:
– Надеюсь, все уладится. И в результате он ничего не потеряет, а, быть может, даже останется в барыше.
– Надеешься?
– Ну да, поскольку это его болезнь и нет других средств хоть немного облегчить ее.
Я рассмеялся. И так как Сесиль одержала надо мной верх, она сыграла в ознаменование этой дружеской победы небольшую вещь Генделя, сарабанду, легкую, грустную и вместе с тем исполненную благородного и пленительного изящества. Затем сестра угостила меня чаем. Мы как раз кончали пить его, и было еще очень рано, когда пришел Ришар Фове со своими коробками, культурами и записями. В гостиной Сесили все это выглядит довольно забавно. Сесиль не выказывает ни тени неудовольствия. Впрочем, идея Ришара не лишена интереса. Только, по-моему, подобные опыты было бы проще делать в лаборатории. Но Ришар настаивает на том, чтобы «музыкальная ванна» давалась в особой, артистической обстановке. Он говорит: та же мелодия, сыгранная г-ном Тартемпионом и мадемуазель Паскье, по-разному воздействует на слух и чувства слушателей. Если мы хотим изучить влияние музыки на культуры иных примитивных организмов, следует сразу же обратиться к возвышенному искусству. Итак, он приходит и записывает: «Концерт Вивальди. Такая-то тональность. Столько-то минут. Клавесин». «Мазурка Шопена ми мажор. Столько-то минут». Должен тебе признаться, что это кажется мне немного смешным. Сесиль проявляет ангельское терпение. К тому же она играет, ни на что не обращая внимания и даже не глядя на манипуляции Фове. Когда при мне с вопросом об этом эксперименте обратились к г-ну Шальгрену, он ответил с тонкой улыбкой: «Следует все же попробовать».
Я покинул пианистку и экспериментатора. На улице мною вновь овладел гнев. Я еще не избавился от него. Вероятно, Жозеф несчастен по-своему, но он внушает мне омерзение. Именно омерзение. Мне следовало бы сказать ему: «Ты разорился? С точки зрения социальной. это более чем справедливо, а лично для тебя, милый Жозеф, это послужит превосходным уроком». Мне следовало бы отвести таким образом душу и повернуться к нему спиной. А я расчувствовался и позволил надуть себя, одурачить. Это трудно переварить. Следует, однако, отдать должное господину финансисту. Он жаловался на днях, что ему никак не удается поразить свою семью. Помнишь, это были его собственные слова. По-моему, на этот раз он добился своего.
Я снова обещаю тебе не писать больше о ненавистном Жозефе. В свое время мне не хватило душевной чистоты. Эта нелепая история призывает меня к порядку. Я хочу, чтобы отныне моя жизнь была целиком посвящена наставникам, которых я люблю и уважаю. Я хочу жить спокойно. Знаю, это трудно, и все же я добьюсь своего. Мне кажется, я уже обрел покой сердца. Я сумею заслужить и покой ума.
Братский привет. Л. П.
23 октября 1908 г.
Глава VII
Откровенность Жан-Поля Сенака. Перебранка со Стерновичем. Мнение г-на Шальгрена о важности созерцания в науке. Исключительные интеллекты на улице не валяются. Ришар Фове – воплощенная изысканность. Лоран в поисках путеводной звезды
Жить спокойно нелегко. Последнее посещение Сенака повергло меня в смятение.
Полагаю, что ты подскочишь, скомкаешь это письмо, разразишься проклятиями и закричишь: «Зачем тебе видеться с Сенаком? Предоставь злосчастного Сенака его участи и т. д. и т. п.»
Старый друг и брат, я вижусь с Сенаком, потому что он один из наших. Я трезво сужу о нем, поверь, я разбираю, анализирую беднягу без всякой предвзятости и питаю к нему нечто вроде дружеского любопытства. Я полон снисходительности. Сенак не лишен ни чуткости, ни ума. Он несчастен, и что там ни говори, а он поэт.
Заметь, я вижусь со всеми нашими друзьями по «Уединению». Если бы мы расстались навсегда, в этом было бы что-то необъяснимое, нездоровое. Да, я с ними встречаюсь, и порой не без удовольствия. Я встречаюсь со всеми, кроме Жюссерана. Он избегает нас, он не хочет с нами знаться, он разлюбил нас. Не потому ли, что разбогател? Не думаю. Скорее всего, его мучают угрызения совести: он не может перебороть себя и простить нам свою вину.
Что до остальных, они ведут себя так же, как Сенак. Иными словами, говорят о нашей попытке с дрожью в голосе и со вздохами сожаления.
Но вернемся к Сенаку. Я сразу почувствовал, что он хочет мне что-то сказать, что-то заранее обдуманное, подготовленное. Если Сенак собирается сделать важное сообщение, он, фигурально выражаясь, поворачивается к нему спиной и начинает вести беседу о том о сем. Итак, он начал зевать и бубнить хорошо знакомым тебе безучастным голосом. Он жаловался на свое здоровье, которое вовсе не так плохо, как он пытается это представить. Он охал:
– Что происходит у меня в организме? Что происходит в этой чертовой коробке? Хочешь верь, хочешь нет, но в иные дни из меня выходит не меньше трех литров мочи, а в другие – каких-нибудь пятьдесят капель. И неизвестно почему, совершенно неизвестно. Положение меняется каждый день, понять ничего нельзя.
Он снова зевнул, затем провел рукой по лбу.
– Я теряю волосы, – вздыхал он. – И право же, рановато. Вчера я был у парикмахера. Он сказал мне: «Хорошие волосики. Жаль, что их так мало». Я не обидчив, но это оскорбительно.
И в самом деле, он лысеет. Во время этих излияний я смотрел на Сенака и вдруг увидел его лицо в будущем, его старческое лицо. Да, он первый из нас показал мне на миг свое лицо таким, каким оно станет на склоне лет, и я был этим глубоко опечален.
Главная его новость, видимо, еще не вполне созрела, потому что Сенак продолжал ходить вокруг да около. Он принялся расхваливать свою затворническую жизнь. Оказывается, он нашел в тупике Томб-Исуар замечательное пристанище, ветхую хибару из двух комнат неизвестного назначения, очевидно, старую мастерскую художника, и снял все помещение почти даром, так как никто на него не позарился. Домишко стоит в глубине тупика. Поблизости никакого жилья, лишь заброшенные конюшни, склады, пустыри. Сенак поселился там после распада нашего «Уединения» с собакой Миньон-Миньяром и старым голубем, зябнущим в клетке. Сенак открыл наслаждение, доставляемое одиночеством. Он опьяняется тишиной, неподвижностью, разочарованием. И говорит об этом не без лиризма. Сознайся, что у него не такая уж мелкая душа.
Я как раз размышлял об этом, когда мой посетитель пробормотал:
– Что за странная мысль поступить препаратором к Ронеру, когда человек признан одним из лучших учеников Шальгрена!
Заметь, Жюстен, что я не позволяю себе называть патрона попросту Шальгреном или величать Ронера только по фамилии. Но Сенак человек не гордый: он охотно говорит «ты» великим мира сего.
Сперва я ничего не ответил. Я ждал нового выпада. Он последовал, хотя и с запозданием.
– Я никогда не вмешиваюсь в то, что меня не касается , – пробормотал Сенак. – Но обычно, Лоран, ты не такой уж неловкий. И даже неплохо умеешь устраиваться в жизни. Ты что, нарочно это сделал? Хочешь понаблюдать за ними? Ну что ж, пожалуй, стоит того. Если только не сам Шальгрен попросил тебя проникнуть во вражеский лагерь. В таком случае, будем считать, что я ничего не сказал.
Я только что пытался выгородить в твоих глазах Сенака. Тем легче мне признаться теперь, что тон его слов сильно меня покоробил.
Мы были одни в лаборатории. В этот час служитель чистит крольчатник и псарню. Я ничего не ответил, и так как мое молчание смутило Сенака, он продолжал говорить. То были обрывки фраз, которые кололи и даже ранили меня на лету.
– Ты вращаешься уже несколько лет в этой среде. Я же о ней почти ничего не знаю. Да и к тому же у меня другая профессия. Я смотрю на вещи глазами писца. Неважно! О вражде Ронера – Шальгрена много толкуют, но, конечно, шепотом. Ты не дурак. Значит, у тебя есть какая-то цель. И все же, Лоран, будь начеку. Эти господа ненавидят друг друга. И, хуже всего, стараются этого не показывать. Значит, положение серьезное. Я очень люблю господина Шальгрена. Иметь с ним дело – одно удовольствие. И знаешь, Лоран, я никогда не забуду, что ты нашел для меня это место в минуту, когда у меня не было ни гроша, когда я устал голодать. Что ты там увидел?
Я заметил на щеке и на шее Сенака длинную царапину, явно непохожую на бритвенный порез. В ответ я указал на нее пальцем, и он проговорил:
– Это сделал кот госпожи Шальгрен. Занятное животное кротового цвета, смешанной ангорской породы. О, мы с ним прекрасно ладим. Ну и кот, доложу я тебе! Обычно мы понимаем друг друга. Но иной раз, когда я хочу его приласкать, он норовит меня оцарапать... Да, я очень люблю господина Шальгрена. Правда, я почти ничего не понимаю из того, что он дает мне переписы-в ат ь , – я говорю о научных работах. Я схватываю лишь отдельные мысли, и они удивляют меня, ошеломляют. Вовсе не нужно быть специалистом, чтобы смекнуть, что к чему, скажем, в превосходно написанном опровержении, сильном, страстном, с капелькой желчи. Скажи, Лоран, «Происхождение жизни»?..
– Ну и что?
– Это книга Ронера?
– Да, и потрясающая книга.
Сенак расхохотался. А я спрашивал себя, что он еще скажет, спрашивал не без тревоги и даже отвращения. Но тут появился Стернович. Не бойся, я не собираюсь впутывать Стерновича в нашу переписку. Стернович – русский еврей, который заходит иногда в лабораторию для каких-то исследований. Если я набросаю здесь его портрет, ты сразу же закричишь, будто я впадаю в антисемитизм. И однако, я люблю тебя, еврея, ты мой дорогой друг. Но право же, у вас слишком чувствительный эпидермис, вы невыносимы. Стоит мне сказать что-нибудь о евреях, как ты тут же принимаешь это на свой счет. Будь же справедлив. Как бы ни были велики любовь и восхищение, которые я питаю к тебе, я не могу не отметить, что от Стерновича так и разит самодовольством и спесью. Он убежден, что западные народы – народы отсталые и жалкие, что они не способны ни мыслить, ни творить, ни даже пользоваться благами, которые им ниспослало небо. Он убежден, что в один прекрасный день он и ему подобные (а все они в известной мере торговцы и ростовщики) люди, прозябающие ныне в каком-нибудь грязном степном городишке, перевернут мир и покажут нам, как надо наводить порядок в умах и управлять делами при их благосклонном руководстве. Вот, получай! Но, повторяю, ты не несешь никакой ответственности за Стерновича: не трать ни атома энергии на его защиту.
Итак, Стернович вошел в лабораторию в ту самую минуту, когда я ждал от пресловутого Жан-Поля Сенака новых откровений. Сенак сразу поднялся. Я остался один за рабочим столом. А оба мои посетителя начали, по своему обыкновению, препираться. Сам того не желая, я прислушивался к их словам. Сенак вытащил из портфеля пачку бумаги, а русский проговорил, тараща свои блестящие глаза, которые кажутся удивительно маленькими за толстыми стеклами очков:
– Так, значит, вам, французам, требуются линейки на бумаге, чтобы не уклоняться ни вправо, ни влево.
– Нет, – отвечал Сенак, всем своим видом походивший на кота, который заметил муху. – Нет, не всегда. Обычно я пишу на так называемой школьной бумаге, там вовсе нет линеек.
– Понятно, – подхватил Стернович, – вы имеете в виду бумагу, листы которой ничем не скреплены.
– Вот именно. Нам, французам, не требуется скрепок – идеи и так держатся у нас в голове.
– Так зачем же вы пользуетесь линованной бумагой?
– А затем, чтобы писать между строк, – насмешливо прошипел Сенак. – Мы, французы, проводим линейки, но не пишем по ним. Соображаете?
Стернович тотчас же завел речь об отсутствии дисциплины. Это становилось невыносимым. Я не мешал обоим парням продолжать свой бездарный спор. Мною владели недовольство, тревога. Надо тебе сказать, что за последние четыре-пять дней г-н Шальгрен почти не обращался ко мне, а ведь обычно он держится со мной как с другом, а не как с учеником. Я подсчитал сколько раз г-н Шальгрен заходил в лабораторию, не говоря мне ни слова и даже как бы не замечая меня, и вдруг почувствовал себя очень несчастным. В эту минуту спорщики перестали спорить. Сенак собрался в библиотеку. Он подошел пожать мне руку и сказал вполголоса:
– А ты не обратил внимания, дорогой, что в толстой книге Ронера, где представлен весь ученый мир, мэтр Шальгрен не удостоен даже крошечной ссылки?.. Ну, иду, иду. Пора. Мы поговорим об этом потом, если, конечно, захотим.
Утро было хмурое. Мне казалось, будто какой-то яд проник в мои мысли. Я убедился, что г-н Шальгрен нарочито холоден со мной, что я, вероятно, допустил огромную, трудно исправимую ошибку. Я был сердит на Сенака, просветившего меня, да, в общем, я был сердит на него за эту с позволения сказать услугу.
Среди дня в большую лабораторию пришел г-н Шальгрен. Он сел рядом со мной. Я был встревожен, смущен. Сначала он молча следил за моей работой. Затем спросил своим легким, как бы бесплотным голосом:
– Скажите, Паскье, вам случается терять время?
Я был поражен. Я почувствовал, что краснею, и ответил:
– По-моему, я не теряю его, патрон.
– Да, вы работяга, и это хорошо. Однако время надо уметь терять. Порой истина осеняет нас среди праздности, когда мы ни о чем не думаем, бываем открыты, доступны.
Я был удивлен: г-н Шальгрен трудится с утра до ночи. Не знаю, находит ли он время для сна. И вдруг такой вопрос! Он сказал еще:
– Постоянно говорят о наблюдении в науке. Но если бы не боязнь показаться смешным, следовало бы говорить о созерцании. Ведь открывают нам свою тайну как раз те вещи, те живые существа, на которые мы не смотрим, у которых ничего не требуем.
Я ждал объяснений. Но г-н Шальгрен встал и, протянув мне руку, сказал:
– Мне кажется, за последние дни мы почти не беседовали с вами. Извините меня, мой друг. Работа крайне тревожит меня. Я постепенно дошел до предположений столь необычных, что боюсь говорить о них. Вы найдете их странными, быть может, неразумными. Итак, до завтра, Паскье!
Я ответил ему как обычно:
– До завтра, патрон.
Господин Шальгрен собирался выйти. Он тут же вернулся и проговорил с улыбкой:
– Мне нравится слово «патрон». Но, надеюсь, Паскье, вы называете так меня одного. В общем, вы понимаете...
Должен сказать, что это замечание снова повергло меня в смятение.
Я распределил свое время таким образом, что могу проводить утро в Коллеже, а остальное время в Институте. Мне кажется, я начинаю понимать г-на Ронера. Но он смущает меня. И всегда будет смущать. Его суждения (как бы это выразиться?) безапелляционны. Вчера вечером он говорил со мной о г-не Эрмереле, у которого я работал до «Уединения» и, как тебе известно, очень его люблю.








