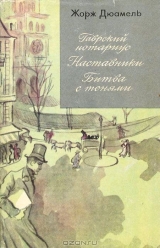
Текст книги "Жорж Дюамель. Хроника семьи Паскье"
Автор книги: Жорж Дюамель
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 35 страниц)
– Вы все-таки попрощаетесь со мной, мой дорогой мосье?
Лоран встал и протянул ему руку.
– Будем откровенны, господин Биро, – сказал он. – После месячного испытательного срока у меня создалось впечатление, что мы с вами не созданы для совместной работы.
Субъект вдруг два-три раза всхлипнул по-театральному.
– Тяжело, – молвил о н . – Я уже полюбил вас и начинал прощать вам все ваши недостатки.
Лоран два-три раза топнул ногою. Все было ему противно в этой сцене. Он строго сказал:
– Прощайте, мосье.
– Вы все же дадите мне хороший отзыв? – спросил субъект с елейной улыбочкой.
Лоран был так озадачен этим вопросом, что не сразу нашелся что ответить.
– Нет, нет, – сказал он наконец. – Я предпочитаю, в ваших же интересах, не давать вам никакого отзыва. К тому же вы прослужили у меня слишком мало времени.
Биро снова захныкал:
– Грустно, очень грустно так расставаться, мой дорогой мосье. Не поминайте лихом, мой дорогой мосье.
Наконец он ушел. Лоран два-три раза глубоко вздохнул и, сделав над собою усилие, занялся очередным делом.
Пробило четыре часа. Для Лорана это было всегда самое спокойное и самое ценное время дня, час, когда он мог всецело сосредоточиться на работе. Чувствуя, что ему не удается собраться с мыслями, он твердил себе: «Ничего особенного не случилось. Человек этот плохо работал. Он ушел. Вопрос решен, оставим это – как сказал директор. И займемся делом».
В то время как Лоран был занят этим тайным самоуговариванием, дверь лаборатории тихонько отворилась. Сначала показалось несколько напомаженных прядей, потом уголок лба в красных прожилках, потом часть лица – ровно столько, сколько требуется для улыбки, наконец вся фигура чудовищного г-на Биро.
Субъект выпустил из рук дверь, сказал с приятностью: «Ку-ку! Жив курилка!» – выступил на три-четыре шага вперед и протянул Лорану запечатанное письмо.
Лоран сразу же узнал почерк г-на Лармина. Не без смущения распечатал он конверт и стал читать.
На верху листка имелась сделанная от руки надпись: «Служебная записка». Затем адрес:
Директор Национального института биологии заведующему лабораторией, доктору Лорану Паскье а ниже – несколько строк, написанных витиеватым, хитроумным, замысловатым почерком г-на Лармина.
Честь имею уведомить Вас, что я тщательно, самолично расспросил г-на Ипполита Биро. Он представляется мне во многих отношениях незаурядным и имеющим неоспоримые заслуги. Думаю, что при некоторой снисходительности и справедливом к нему подходе все может уладиться, и прошу Вас предпринять к этому необходимые шаги.
Следовала подпись г-на Лармина со всеми росчерками и загогулинами, но без какой-либо формулы вежливости – на военный лад.
Несколько минут Лоран простоял посреди лаборатории недвижим, в раздумье. Потом он сообразил, что листок в его руке, несомненно, дрожит, дрожит от охватившей его ярости и что это заметно вошедшему. Он подошел к письменному столу, схватил листок бумаги,
тщательно вывел наверху «Служебная записка» и стал писать ответ.
Доктор Паскье, заведующий лабораторией,
господину Директору Государственного института биологии
Имею честь доложить Вам, что после зрелого размышления и принимая во внимание особую ответственность, лежащую на моей лаборатории, я не могу оставить у себя в качестве лаборанта человека, который ни в какой мере не обладает качествами, необходимыми для этой должности.
Чувствуя, что он теряет самообладание, молодой человек поспешил запечатать письмо и отдал его Биро.
– Отнесите это господину директору, – сказал он.
Биро улыбнулся.
– Значит, кончено, – сказал о н . – Бесповоротно?
Лоран не отвечал, и чудной субъект исполнил целую гамму улыбок и всхлипываний.
– Как же так! – стонал о н . – Я уж готов был полюбить вас, право слово! Я стал бы преданным, как пес. Биро – это не кто-нибудь, дорогой мой мосье.
Дверь снова затворилась. Лоран сел за письменный стол, запустил руки в шевелюру и тихо проговорил:
– Довольно! Довольно! Кончено! Оставим это. Вон из головы! Боже мой, надо успокоиться! Надо успокоиться!
Глава VII
Ничем не замечательное безобразие. Сюзанна Паскье и настойчивый поклонник. Рок произносит балаганный панегирик. О превращении ученых в чиновников. Вопросы приоритета. Страдания человека, занятого умственным трудом. Ипполит Биро жив! Новая схватка с директором. Как трудно поддерживать согласие среди людей!
Тех, кто плохо знал Эжена Рока, он поражал своим законченным безобразием. Правда, в этом безобразии не было ничего низменного: Рок был человеком образованным, общительным, словом, вполне приличным. Но отличался ли он тем живописным безобразием, к которому неравнодушны женщины и которое они даже предпочитают красоте? Нет, нет, в безобразии Рока не было ничего выдающегося, ничего диковинного и редкостного. Он отличался безобразием угрюмым и как бы униженным: случайное соединение черт, которые, казалось, не были созданы для того, чтобы, слившись, образовать человеческое лицо. Бесцветное лицо, глаза неопределенного оттенка, затрудненная, замедленная и беспорядочная жестикуляция; вдобавок унылый, неприятный голос. Словом, сочетание губительных изъянов, которые могли бы постепенно парализовать даже самый закаленный дух, – но на Рока они такого действия не оказали.
В семье Паскье он впервые появился году в тысяча девятисотом, во времена Кретейя и воскресных прогулок на лодке по Марне. При виде его Сюзанна, ребенок, уже тогда отличавшийся редким очарованием, вдруг расплакалась. В то время никто, в том числе и сама девочка, не догадался о причине ее слез. Один только Эжен Рок, чрезвычайно чуткий к впечатлению, которое он производит, и к тому же наученный опытом, понял, в чем дело, и был глубоко огорчен.
Много позже, с настойчивостью людей, которых ничто, даже собственная внешность, не может привести в отчаяние, Рок стал упорно, неустанно ухаживать за Сюзанной, превратившейся к тому времени в прелестную девушку; но она только подшучивала над своим поклонником. Отвергнутый молодой человек в конце концов отступился, не отказавшись, однако, от права возобновить свои домогательства. Он часто писал девушке, и письма его, отлично составленные, говорили убедительнее, чем его лицо. Он посылал ей трогательные подарки. Он появлялся в поле зрения Сюзанны без предупреждения и весьма осторожно. Он поджидал ее, например, у театрального подъезда или приглашал в ресторан. Он настороженно, как собака, ждал перемены в ее отношении к нему, полагая, что нет никаких оснований считать такую перемену невозможной.
Как всегда, Эжен Рок вошел в лабораторию робко и тихо. Он никогда сразу же не снимал пальто и шляпу. Он ждал, чтобы его попросили об этом. У него был такой вид, будто он здесь оказался невзначай. Он никак не может побыть здесь дольше минуты. Потом завязывался разговор, да не без отклонений, и посетитель блуждающим взглядом начинал искать стул. Он вытаскивал из кармана кисет и пытался свернуть папироску; он принимался за это раз по двадцать, ибо то бумага прорывалась, то табак пересох, то в нем оказывался какой-то мусор. Наконец, видя, что Лоран теряет терпение и косится на свои препараты и книги, гость раскрывал рот. Начиналась медленная вереница фраз – бесхребетных, лишенных видимой связи. Мысли Рока представлялись, как и его черты, не предназначенными к тому, чтобы образовать единое целое. Но внимательный наблюдатель начинал понемногу различать в них путеводную нить, еле уловимую, но бесконечно упорную.
Рок говорил что-нибудь приятное, даже дружественное. Он ворчливо шептал нечто, и в этом шепоте слышались скрытые упреки:
– Тебе-то везет. Не возражай. У тебя все кончается успешно, даже твои ошибки, даже заблуждения. Уж такой у тебя дар, вот и все. Это особая благодать.
Тут Рок вынимал перочинный ножик и принимался задумчиво чистить ногти. Он цедил сквозь зубы:
– Орден в двадцать шесть – двадцать семь лет, безо всяких возражений, без хлопот. Ничего не скажешь. А тебе известно, что есть люди, которые и в пятьдесят все еще только ждут ордена? Многие тебе этого не простят вовеки. Они кретины, но это в порядке вещей. Вызывать зависть в двадцать шесть лет – опасно, зато и величественно. Да, знаю, ты на себе самом испробовал вакцину Эрмереля!.. Не отнекивайся, теперь это уже всем известно. И ты от нее не умер, – вот это-то я и называю удачей.
Он щелчком сбрасывал с папиросы пепел, – тот падал на отвороты его пиджака, – и жалобно продолжал:
– Все-таки надо мне идти... У тебя удача во всем, и, главное, вполне заслуженная. Теперь ты ответственный секретарь «Биологического вестника». Ну и ну! Я говорю о «Вестнике», и говорю не зря. Даже такой тип, как Бо-визаж, – сорок лет и важные посты, – и тот не отказался бы от «Биологического вестника». Пойми меня, я не ставлю тебе в упрек то, что ты слишком за. многое берешься, но беда в том, что кое-кто так считает. Все же надо мне отправляться, я ведь заглянул мимоходом. Мне передавали, будто тебя могут избрать членом-соревнователем Комитета по исследованиям. Это поразительно!
Лоран слушал одним ухом, помешивая жидкость в пробирке. Он думал: «Не это он хочет сказать! Не ради этого он пришел. Это только соус. А где же жаркое? Проклятый Эжен!»
Болтун вновь принимался разглагольствовать, уставившись в потолок:
– Обрати внимание, Лоран, я не жалуюсь. С чего мне жаловаться?
– Да и не надо! – воскликнул Лоран. – Я бы очень огорчился.
– Я не жалуюсь, я констатирую. Я своего рода отшельник. Мне нужны только тишина и возможность созерцать. А жизнь вроде твоей, со всеми ее обязанностями, вся эта суета, весь этот шум и даже почести – о, у тебя это только еще начинается, вот увидишь, – жизнь такая была бы мне не по душе. Я люблю тишину. Я отшельник.
Лоран слегка покачивал головой. Он не сердился, скорее сочувствовал. Он прошептал, озабоченно разведя руки в стороны:
– Что ж поделаешь, друг мой? Каждый живет по-своему.
– Да, да, так я и говорю, когда на тебя нападают при мне. Ибо, поверь, я всегда заступаюсь за тебя. Я даже единственный на твоей стороне.
– Спасибо тебе, старина...
– Не благодари, это просто в моем характере. Однако мне пора. Я забежал мимоходом. И даже не к тебе, а к твоему директору.
– К господину Лармина?
– Да, к Лармина. Я решил, что никак нельзя явиться в Институт биологии, не заскочив на секунду к тебе в твою прекрасную лабораторию. А теперь ухожу. Вот только скручу еще папироску. Для такого типа, как я, для кабинетного ученого, нужно одно – приличный оклад. Оклад немаленький. Нет, посредственность я не приемлю. Нужен оклад, который давал бы свободу уму. Я стою за то, чтобы ученые считались чиновниками. Это единственный путь к очищению науки. Да и сам-то ты кто тут такой? Чиновник. Единица, и только. А кто я в Институте Пастера? Мелкий чиновник. Да, правда...
– Что правда?
– Ты сделал какое-то открытие, кажется, насчет аг-лютинина. Но ты еще ничего не напечатал.
– Нет, не напечатал.
– Тем лучше, потому что я собираюсь через месяц опубликовать свою работу. Я так и знал, что ты не станешь перебивать мне дорогу. И даже... Ох, мне надо бежать.
Лоран молчал. Гость улыбнулся.
– Ты сказал, и мне этого достаточно. Вопрос первенства – не последнее дело в нынешней науке, где, в сущности, только тем и занимаются, что обкрадывают друг друга.
Лоран не мог сдержать улыбки. С самого начала их деятельности Рока терзал, как некий недуг, нелепый вопрос о первенстве. Он страшно боялся, как бы его не предали или не опередили. Даже от самых близких друзей он тщательно таил то, что он именовал «своими идеями». Не проходило недели, чтобы он не направил в научные журналы два-три письма, в которых настаивал на своих преимущественных правах на ту или иную научную тему и напоминал о всех своих предыдущих трудах, подтверждая эти притязания бесчисленными цитатами и библиографическими справками.
Рок протянул Лорану не всю руку, а всего лишь указательный палец, следуя примеру их общего учителя г-на Ронера, который, впрочем, обычно подавал два пальца: указательный и средний. Затем Рок принялся теребить ручку двери. Он попытался еще рассказать историю подспудного соперничества Института Пастера и Национального института биологии, уснащенную таким множеством анекдотов и намеков, что Лоран ничего в ней не понял. Стоя у двери и ногою не давая ей захлопнуться, он тяжело вздыхал и сокрушался: «Из-за тебя я опоздаю». Потом толкал дверь и спускался на несколько ступенек. Потом возвращался, хватал Лорана за пуговицы его халата и ворчал: «Я не совсем уверен, что ты слушал меня, Паскье. Ты все умеешь, только не умеешь слушать. Ну, на этот раз удираю».
В общем, в конце-то концов он уходил. Но случалось, что несколько минут спустя он возвращался, чтобы что-то добавить к сказанному, чтобы с равнодушным видом шепнуть какой-то обрывок фразы, смысл и связь которой с предыдущим не всегда удавалось уловить.
На сей раз Рок выпустил из руки перила, обернулся и сказал, резко понизив голос и подмигнув:
– Чем ты мог досадить Лармина?
Вопрос был задан так стремительно, что Лоран с трудом понял его. Он склонился над лестничной клеткой и повторил с удивлением:
– Досадить Лармина?
Но тут Рок действительно скрылся. Его шаги уже доносились из пустынного коридора, который тянулся внизу вдоль всего здания. Лоран смущенно пожал плечами. «Что он хотел сказать, упомянув Лармина? – подумал о н . – Странный малый! Мне кажется, что он ко мне расположен. Но то, как он свое расположение проявляет, несколько смущает меня. Ну, что ж! Ничего! Ничего! Спокойствие и работа!»
Лоран взял перо и раскрыл большой журнал, в который он заносил результаты своих опытов. Но душевное спокойствие, которого он так жаждал, в тот день было глухо к его призывам. Лорану не удавалось сосредоточить внимание, не удавалось заполнить своего рода пустоту, которая иной раз возникает между разумом и его созданием. Ему не удавалось хотя бы немного увлечься привычными, любимыми мыслями, даже не удавалось подыскать слова для выражения истин, обдуманных уже тысячу раз. Охваченный тоской, какую испытывает человек, когда ум его как бы сбился с пути и ждет благоприятного часа, Лоран позавидовал скромным ремесленникам, занятым физическим трудом, которых сам материал учит, побуждает, направляет, а потом и утешает.
Уже который раз взгляд молодого человека обращался к окну, к зелени и аллейкам сада, как вдруг ему почудилось, что шагах в пятидесяти он видит нечто, чем вызваны и огорчение его, и тревога, – причем видит вполне реально и четко.
На самой середине аллеи стоял Ипполит Биро; котелок его был чуть отодвинут на затылок, весенний ветер играл несколькими маслянистыми прядями его шевелюры, красное лицо было еще ярче от обильного пота, живот, казалось, вот-вот выскочит из-за пояса; он стоял на самой середине аллеи, залитый ясными, горячими лучами солнца. Левой рукой он держал под мышкой большой сверток в газетной бумаге. В правой руке у него был желтый конверт.
«Ну что ж, – подумал Лоран, – вероятно, забыл что-нибудь, когда уходил».
Недолго постояв в задумчивости, Биро отправился дальше. Лоран услышал, как он не спеша поднимается по деревянной лестнице. Подбитые гвоздями башмаки стучали по ступенькам, и время от времени чудак испускал стон, словно больной. Он остановился у двери, вытер ноги о половичок, три-четыре раза постучал и повернул ручку двери.
Так как Лоран не проронил ни слова, гость изобразил улыбку, обтер усы тыльной стороной руки и вздохнул:
– Дорогой мосье, это, естественно, опять-таки я. Не кто другой, как я.
Последовало краткое молчание, после чего Биро Продолжал:
– Я не умер, а убить меня как-никак нельзя.
– Что вам угодно, господин Биро? – весьма спокойно спросил Лоран. – Вы что-нибудь забыли?
Господин Биро снова заулыбался.
– Да , – воскликнул о н , – забыл здесь остаться!
Субъект положил сверток на стол. Он утирал потный лоб и продолжал с упреком:
– Сказать по правде, я-то думал удивить вас. Для старого слуги прием, как говорится, довольно прохладный.
– Что вам угодно? – невозмутимо повторил Лоран.
Ипполит Биро протянул желтый конверт, который он держал в руке. То была служебная записка от г-на Лар-мина, записка крайне лаконичная: всего три строки, украшенные пресловутой подписью.
Господин Биро назначается с сего числа помощником лаборанта по изготовлению сывороток в лаборатории Паскье.
Молодой человек с удивлением вертел в руках это неожиданное послание. Г-н Биро обмахивался котелком, держа его двумя пальцами. Он прокашлялся, проглотил мокроту, изобразил одну из своих елейнейших улыбок и произнес целую речь:
– Согласитесь, дорогой мосье, что нельзя же было так просто расстаться. Признайтесь, это было бы уж чересчур грустно. Вас, простите за выражение, тошнило от бедняги Биро. Мне это было тем горше, что сам-то я относился к вам дружелюбно, терпеливо, даже нежно, – что и говорить. Но отклика никакого я не получал. Всю жизнь буду скорбеть об этом. Итак, я не буду обслуживать вас лично, я перехожу в отделение сывороток, Все в порядке. Я стану корпеть над работенкой – один, в своем углу, как ангелочек. И не будем разговаривать друг с дружкой, разве что по делам службы. Не скажу, чтобы это не было огорчительно. Но что же поделать! Надо примиряться... Конец нежностям, дорогой мой мосье.
– Подождите немного, – бросил Лоран, порывисто отворяя дверь.
Сначала молодой человек бросился по лестнице бегом, потом немного замедлил шаг, положил директорскую записку в карман и на несколько мгновений задержался у аллеи, в тени молодых лип, чтобы отдышаться. Он уговаривал себя: «Ведь нельзя допустить, чтобы эта нелепая история отравила мне существование. Все домашние ссоры одинаковы: вблизи они представляются ужасными, издали – ничтожными. Нельзя допустить, чтобы какой-то Биро помешал мне работать. Значит, спокойствие и твердость!»
Господин Лармина был занят, и Лорану пришлось подождать минут десять в приемной с зелеными бархатными креслами. На стене красовалась известная картина, пожалованная правительством и изображающая обнаженную даму, склоненную над умирающим: Наука служит Человечеству. Лоран в двадцатый раз разглядывал это произведение искусства, когда швейцар доложил, что директор ждет его.
Господин Лармина стоял у своего письменного стола из черного дерева и, казалось, уже приготовился к схватке. Он стал наступать, не дожидаясь вызова.
– Не думаете ли вы, господин Паскье, что большую часть вопросов мы могли бы разрешать при помощи письменных обращений? Мне тяжело думать, что столь ценный человек, как вы, тратит время на ожидание в приемной.
У Лорана мгновенно загорелись уши.
– Господин директор, я не терял бы на это время, если бы вы не заставляли меня ждать, – выпалил он одним духом.
Старик сделал примирительный жест и внезапно изменил тон:
– Как видите, господин Паскье, досадная история с Биро наконец разрешилась ко всеобщему удовлетворению. Насколько я понял, этот честный труженик не вызывает у вас симпатии, поэтому я освобождаю вас от него и вместе с тем не выгоняю вон.
– Господин директор, я не питаю к господину Биро ни добрых, ни дурных чувств. После месячного испытания я пришел к убеждению, что он совершенно непригоден для работы в лаборатории. Кроме того, – и это гораздо важнее, – я считаю, что господин Биро в силу некоторых своих прирожденных недостатков представляет собою в лаборатории типа моей нечто опасное и вызывающее тревогу.
– Господин Паскье, даже в разговоре с глазу на глаз взвешивайте слова, которые вы употребляете. Мне довелось долго беседовать с господином Биро. Он не глуп. У него есть опыт. Быть может, он чуточку фамильярен. От вас зависит держать его на должном расстоянии. Вдобавок теперь у вас уже не будет с ним постоянного общения.
– Речь не обо мне, господин директор. Речь идет о безупречной работе моей лаборатории, о строжайших технических правилах, которые должны соблюдаться всеми моими сотрудниками. Речь идет о здоровье больных, для которых мы здесь все сообща работаем.
Господин Лармина величественно, как епископ, воздел руки.
– Мне кажется, – сказал он, – что вы берете на себя смелость преподать мне своего рода урок относительно моих обязанностей.
Лоран ничего не отвечал; воцарилась долгая зловещая тишина, потом директор продолжал, уже тише и спокойнее:
– Сначала я думал, что среди заведующих отделениями вы единственный, кто может быть мне опорою, меня понять и помочь мне поддерживать в Институте порядок и справедливость.
– Простите, мосье, – упрямо возразил Лоран, – на мне лежит весьма тяжкая ответственность, я принимаю ее с радостью и горжусь ею. Но я считаю себя хозяином в вопросе подбора своих сотрудников. Если вы во что бы то ни стало хотите сохранить господина Биро в Институте, то переведите его, господин директор, в какое-нибудь другое отделение.
– Вы говорите так, не подумав, господин Паскье. Либо это человек порядочный, и тогда у вас нет никаких оснований отвергать его, либо он негодяй, и в таком случае вы не осмелились бы подсовывать его, как фальшивую монету, кому-нибудь из коллег.
Сбитый с толку этим аргументом, Лоран молчал, раскрыв рот. Щеки его пылали. Он вдруг смутился, почувствовал себя неловко. Он прошептал:
– Лаборатория сывороток укомплектована. Там у меня два препаратора, конюх, два лаборанта.
– Именно поэтому, – возразил г-н Лармина со спокойным величием, – именно поэтому я и пометил: «помощник лаборанта».
Лоран опустил голову и насупился.
– Господин директор...
– Что, господин Паскье?
– Я не намерен ни нарушать ваши распоряжения, ни подавать в отставку.
– Очень рад, господин Паскье.
– Все же не скрою от вас, что решительно не допущу господина Биро хотя бы к малейшему участию в работе лаборатории. Если Институт может позволить себе держать на жалованье ненужного служащего, то против этого я возражать не могу.
Господин Лармина чуть усмехнулся в нос.
– Несмотря на не вполне корректные намеки, содержащиеся в ваших последних словах, мне кажется, господин заведующий отделением, что вы начинаете относиться к этой совсем незначительной проблеме разумно и по-философски. Подумайте, прошу вас. Для меня выбор весьма прост: либо оставить этого человека временно без дела, что не имеет особого значения, либо вызвать серьезное неудовольствие одного лица, – да зачем скрывать, – неудовольствие министра, которому Институт многим обязан. К тому же пройдет время, и все само собою уладится, время все смягчит и оросит не в меру горячие головы свежей водой. Желаю вам, господин Паскье, чтобы на вас никогда не лежала тяжелая миссия поддерживать согласие среди людей. До свидания, господин Паскье.
Идя с понурой головой, со сжатыми зубами под тенью лип, Лоран думал: «Старик меня, конечно, околпачил. Но ничего. Эта дурацкая история не должна помешать мне выполнять свой долг. Любой ценой я добьюсь покоя».
Глава VIII
Второе письмо к Жюстену Вейлю. Слово о психологии искупления в русском духе. Дело, принимающее досадный оборот. Политика и вакцина. О безличных формах глагола. Малый желает трудиться. Беглый портрет Вюйома. Помощники ученых. Эжену Року известно все. Редакция боевого листка. Лирические излияния скрытного человека.
Дорогой Жюстен, не приписывай мне того, чего я не говорил. Произведения русских романистов показались мне волнующими потому, что они меня взволновали, – простосердечно исповедуюсь в этом. Они все же не превратили меня в полного идиота. Мысль, что люди иной раз могут выйти из состояния, которое кажется для них естественным, что они могут внезапно совершить с блеском неожиданные поступки, например, отказаться от преступления, пасть на колени, бия себя в грудь, – такая идея кажется мне не только прекрасной, но, кроме того, умиротворяющей и ободряющей. Если подобного рода перевороты могут совершаться в душе одного человека, то, быть может, люди в конце концов устанут от своих недостатков, от своих пороков. Совершая без конца все те же преступления, те же гадости, они должны смертельно заскучать. Признаться ли? Если я когда-либо сделаю нечто хорошее, так сделаю это только ради забавы, в виде развлечения, чтобы отдохнуть от дурных мыслей, которые обычно одолевают меня. Сам видишь: то, что я предлагал тебе в предыдущем письме, это смягченный, латинизированный вариант русской психологии искупления. Будь уверен, я никогда не пренебрегаю критическим началом. Мне следовало бы даже добавить, что я пренебрегаю им недостаточно. Что же касается примеров, на которые я решился обратить твое внимание, то я не могу не задумываться над ними. Я писал тебе, что отец, от характера которого я так долго страдал, который терзал меня своими причудами, вспышками гнева, безрассудством, теперь понемногу становится рассудительнее, обходительнее, становится даже очаровательным – именно очаровательным, другого слова не подберу. Жозеф тоже беспрестанно удивляет меня. Он одолжил папе двенадцать тысяч франков на новое предприятие, о котором я расскажу тебе, когда ты будешь в Париже. Жозеф мне сказал: «Я дал двенадцать тысяч франков...» Не надо заблуждаться насчет смысла этих слов: речь идет всего лишь о займе. Жозеф взял с папы расписку. Жозеф никогда ничего не сделает без расписки, без документа, без договора. Как бы то ни было – заем ли это или дар – Жозеф расстался со значительной суммой. Он раскошелился. Даже если он сделал это только ради развлечения, в паскалевом смысле слова, то и тогда это поступок не менее сногсшибательный. К тому же Жозеф не хочет разглашать этот акт, – подобная скромность, как и все остальное, представляется мне прямо-таки чудом. Жозеф просил меня никому не говорить об этой истории, в частности, ни маме, ни Сесили, ни Фердина-ну, которые в конце концов, конечно, всё узнают. Как видишь, мы все-таки еще далеки от публичной исповеди и торжественного покаяния.
Я говорю тебе о Жозефе и об отце потому, что ты по-дружески справляешься о них, но должен признаться, что я вспоминаю их отнюдь не каждый день. Дело Биро принимает весьма досадный оборот, оно начинает занимать в моих мыслях поистине непомерное место. Биро – это тот лаборант, по поводу которого ты, дорогой Жюстен, написал мне несколько глупостей. Биро, поверь мне, не что иное, как ничтожный, несносный человечек, каких встречаешь на каждом шагу; но он превратился в «явление Биро», дальнейшее развитие которого представляется мне совершенно непонятным и чрезвычайно огорчительным.
Я терпел это жалкое создание в своей лаборатории целый месяц и, поверь, не забывал твоих евангельских советов. Я проявил незаурядное терпение. Человечек этот болтлив, бестактен, почти нахален, – что ж, я не обращал на это внимания. Он воровал у меня животных – морских свинок и особенно кроликов. Я все терпел. Положение окончательно омрачилось, когда я понял, что этот негодный помощник не только не знает дела, но к тому же еще и путаник, недотепа, невежда, хвастун. Мне пришлось уничтожить заготовки, на которые я положил много труда и которых ждали наши иностранные заказчики. Тогда я на свою ответственность выгнал этого малого вон и в тот же день имел объяснение с Лармина.
Для психолога вроде тебя Лармина стал бы превосходным объектом изучения. Признаюсь, я не вполне понимаю его. Субъект этот с надменной властностью руководит Национальным институтом биологии, представляющим собою весьма крупное учреждение. Он требует, чтобы все шло по струнке, и это я, в общем, понимаю. Он все время напоминает нам о нашей ответственности, и тут он опять-таки прав. Он вбил себе в голову навязать мне совершенно негодного сотрудника. Когда я этого шалопая выгнал, Лармина попросил меня взять его обратно – я отказался. Кончилось тем, что он назначил Биро в лабораторию сывороток и осмелился толковать мне, чтобы объяснить свою настойчивость, о каком-то министре, министре, который... Какое отношение имеет политика, мерзкая политика, к нашими вакцинам и сывороткам? Какое отношение имеет политика к нашим чисто научным, человеческим спорам? Право же, если политика будет вмешиваться во все наши дела и во все наши мысли, это явится признаком того, что Франция не на шутку больна. Я человек дисциплинированный. К Лармина у меня не было никакого нежного чувства, я уважал его как начальника. А теперь я его презираю и презираю даже свою работу, которую так люблю; теперь она кажется мне как бы оскверненной, не столь прекрасной, не столь чистой.
Между Лармина и мной произошло бурное объяснение из-за назначения Биро в лабораторию сывороток, и я твердо заявил старику, что готов терпеть Биро, но не дам ему никакой работы, буду держать его в стороне, так что он станет всего лишь паразитом. Директор, казалось, был удовлетворен такой развязкой, и мы расстались, обменявшись миролюбивыми словами, – во всяком случае, ему хотелось, чтобы их приняли за таковые, но от них отвратительно несло подлой сделкой.
В общем, Биро почти ничем не занимался во время своего пребывания в моей личной лаборатории. Раз говорят, что я обязан терпеть его присутствие, мне проще всего было напрямик освободить его от каких-либо обязанностей. Я осведомил об этом означенного Биро. Сначала он расхохотался, затем пожал плечами, потом, вздыхая, произнес несколько наставительных и грустных фраз. Из последних перемен в риторике Биро особенно следует отметить склонность к употреблению безличных глаголов, а самое любопытное то, что он пользуется ими, говоря и о себе, и обо мне. Он мне сказал:
– Значит, теперь уже утратили доверие. Француз не доверяет французу. Как ни верти, это весьма прискорбно. А ведь делали все возможное, чтобы добросовестно выполнять свои обязанности.
Тут Биро пустился в рассуждения о долге и о почетности труда. Но я сбежал.
Недели полторы я надеялся, что такое положение сохранится и в дальнейшем. Приближается лето, погода стоит прекрасная, очень теплая. Биро сидел у входа в здание. Он курил трубку и читал газету. Когда я проходил мимо него, он вставал, шурша бумагой, потом взирал на меня с какой-то непередаваемой улыбкой – и насмешливой и скотской. Его большие выпученные глаза наполнялись какой-то мутной влагой, которую люди чувствительные могли бы принять за слезы, – но они ошиблись бы. Он говорил мне: «Здравствуйте, дорогой мосье». Я отвечал односложно, кивком, и, не скрою от тебя, меня охватывало какое-то беспокойство: уж не ошибаюсь ли я? Но нет, нет! Мы не можем, не должны терпеть возле себя недостойных сотрудников, даже если им «покрофительстфует» министр.
«В моей личной лаборатории Биро ловко воровал кроликов, а в лаборатории сывороток не украдет же он лошадь», – думал я. Но это, конечно, слабое утешение.








