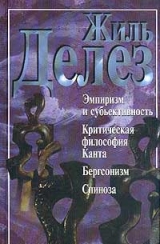
Текст книги "Эмпиризм и субъективность. Критическая философия Канта. Бергсонизм. Спиноза (сборник)"
Автор книги: Жиль Делёз
Жанры:
Прочая старинная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 33 страниц)
Отсюда, все, что является дурным, измеряется уменьшением способности к действию (неудовольствие-ненависть), а все, что является хорошим, – увеличением той же самой способности (удовольствие-любовь). Вот где берет начало та всеобщая борьба Спинозы, то его радикальное осуждение любых страстей, основанных на неудовольствии, – борьба, которая ставит его в один ряд, идущий от Эпикура до Ницше. Бесчестно искать внутреннюю сущность человека в его дурных внешних встречах. Все, что способствует неудовольствию, служит тирании и притеснениям. Все, что способствует мрачным состояниям, должно быть осуждено как дурное, как что-то, что отделяет нас от нашей способности к действию: не только угрызения совести и вина, не только мысль о смерти (IV, 67), но даже надежда, даже безопасность, означающие бессилие (IV, 47). И хотя при любой встрече есть связности, вступающие в композицию, да к тому же все связности неограниченно вступают в композицию в бесконечном опосредованном модусе, тем не менее, вряд ли стоит говорить о том, что все хорошо и прекрасно. Что хорошо, так это любой рост способности к действию. С такой точки зрения, формальное обладание данной способностью к действию, а еще лучше, к познанию проявляется как summum bonum[41]; именно в этом смысле Разум вместо того, чтобы отдаться на милость рискованных встреч, стремится объединить нас с вещами и существами, чья связность непосредственно вступают в композицию с нашей. Следовательно, Разум ищет высшего блага или «собственной пользы», proprium utile, общей для всех людей (IV,24–28). Но как только мы достигаем формального обладания собственной способностью к действию, выражения bonum, summum bonum, слишком пропитанные иллюзиями целесообразности, исчезают, давая место языку чистого могущества или истине («первому основанию», а не последней цели): то есть третьему роду познания. Вот почему Спиноза говорит: «Если бы люди рождались свободными, то они не могли бы составить никакого понятия о добре и зле, пока оставались бы свободными» (IV, 68). Именно потому, что о хорошем говорится лишь в связи с существующим модусом, в связи с вариабельной и еще не обретенной способностью к действию, мы не можем подвести ему итог. Если мы гипостазируем хорошее и дурное как Добро и Зло, то мы превращаем такое Добро в повод для бытия и действия; мы впадаем во все иллюзии целесообразности, мы искажаем не только саму необходимость божественного творения, но и наш способ причастности к полноте божественного могущества.
Вот почему Спиноза фундаментальным образом отстраняется от всех догм своего времени, согласно которым Зло – это ничто, а Добро заставляет быть и действовать. Добро, как и Зло, не имеет смысла. Они суть отвлеченные понятия, или воображения, всецело зависящие от социальных знаков, от репрессивной системы наград и наказаний.
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ, ИЛИ КОНЕЧНОСТЬ [FINALITE]. См. Сознание.
ЧИСЛО. См. Абстракции.
ЭМИНЕНЦИЯ, ИЛИ ПРЕВОСХОДСТВО [EMINENCE]. – Если бы треугольник умел говорить, то он сказал бы, что Бог в высшей степени [eminemment] треуголен (письмо 56, Бокселю). За что Спиноза упрекает понятие эминенции, так это за притязание спасти специфику Бога, наделяя его в то же время антропологическими и даже антропоморфными характеристиками. Мы приписываем Богу черты, заимствованные из человеческого сознания (такие черты неадекватны даже человеку, каков он есть); и чтобы обезопасить божественную сущность, мы довольствуемся тем, что возводим эти черты до бесконечности или говорим, будто Бог обладает ими в бесконечно совершенной форме, каковую мы-то как раз и не постигаем. Значит, мы наделяем Бога бесконечной справедливостью и бесконечным милосердием; бесконечным законодательным разумом и бесконечной созидательной волей, или даже бесконечно громким голосом и бесконечно длинными руками и ногами. В этом отношении Спиноза не делает никакого различия между равносмысленностью [l'equivocite] и аналогией, осуждая их обе с одинаковой решительностью: не так уж важно, обладает ли Бог этими характеристиками в каком-то ином смысле, или же они пропорциональны нашим характеристикам, ибо и в том, и в другом случае не осознается единоосмысленность [l'univocite] атрибутов.
Итак, единоосмысленность – краеугольный камень всей философии Спинозы: именно потому, что атрибуты существуют в одной и той же форме как в Боге, сущность которого они полагают, так и в модусах, заключающих эти атрибуты в собственной сущности, между сущностью Бога и сущностью модусов нет ничего общего, но есть, однако, абсолютно тождественные формы, а также понятия в полной мере общие как Богу, так и модусам. Единоосмысленность атрибутов – единственное средство радикального отличения сущности и существования субстанции от сущности и существования модусов, хотя в то же время сохраняется абсолютное единство Бытия. Эминенция, а вместе с ней равноосмысленность и аналогия, вдвойне не правы в своем притязании усматривать нечто общее между Богом и сотворенными существами там, где нет ничего общего (смешение сущностей), а также в отрицании общих форм там, где эти формы существуют (иллюзия трансцендентных форм): эминенция, равноосмысленность и аналогия одновременно и дробят Бытие, и смешивают сущности. Язык эминенции антропоморфен, поскольку путает сущность модуса с сущностью субстанции; он внеположен, поскольку смоделирован по сознанию и смешивает сущности с особенностями; а также воображаем, поскольку это язык двусмысленных знаков, а не однозначных выражений.
Библиография
ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ СПИНОЗОЙ:
(1663) Первая и вторая части основ философии Декарта, доказанных геометрическим способом, и Приложение, содержащее метафизические мысли (на латинском языке); (1670) Богословско-политический трактат (на латинском языке).
Спиноза также написал, не собираясь публиковать их по разным причинам, следующие произведения:
(1650–1660) Краткий трактат о Боге, человеке и его счастье. (Первоначально он был написан на латинском языке, но мы знаем лишь две рукописи на голландском языке, похожие на авторские примечания, к которым сам Спиноза, может быть, сделал добавления в некоторых разделах. В целом, по-видимому, Трактат составлен из текстов разной датировки, причем Первый диалог, несомненно, наиболее поздний из них.)
(1661) Трактат об усовершенствовании разума. (На латинском языке. Это неоконченная книга. Спиноза также начинает писать Этику, возможно, некоторые положения Этики, в особенности касающиеся общих понятий, послужили причиной того, что он посчитал Трактат уже не актуальным.)
(1661–1675) Этика. (Полностью законченная книга на латинском языке, которую Спиноза собирался опубликовать в 1675 году. Он оставил эту мысль по соображениям осторожности и безопасности.)
(1675–1677) Политический трактат. (Неоконченная книга на латинском языке.) Наконец, Спиноза написал два коротких трактата на голландском языке, даты написания которых не определены: Исчисление вероятностей и Трактат о радуге; и на латинском Очерк еврейской грамматики, оставшийся незаконченным.
В 1677 году опубликованы Opera posthuma. Они содержат большинство писем, а также указанные выше книги. Не включены только два трактата на голландском языке, которые будут опубликованы в 19 веке с вновь обнаруженными письмами.
Имеется два больших издания Спинозы: Van Volten'a и Land'a (1882–1884) и Gebhardt'a (1924).
Основные французские переводы следующие: что касается большей части произведений, то это перевод Appuhn'a (Gamier) и перевод Caillois, Francez, Misrahi (la Pleiade); что касается Этики, то это перевод Guerinot (Pelletan); что касается Трактата об усовершенствовании разума – перевод Koyre (Vrin).
Очерк еврейской грамматики, который содержит несколько чрезвычайно ценных замечаний о субъекте, атрибуте, модусе и истинных формах еврейского языка, переведен Askiinazi с предисловием F. Alque (Vrin).
Выдержки из произведений Спинозы
Данные выдержки из произведений Спинозы соответствуют ранее рассмотренным темам. Мы опускаем здесь те места, где Спиноза – в частности в Этике – отсылает к другим текстам.
А) Критика
1. Критика познания: что поражает – так это тело…
Они не знают, к чему способно тело, и что можно вывести из одного только рассмотрения его природы, а также, что сами они знают из опыта, что по одним лишь законам природы происходит весьма многое, возможности происхождения чего иначе, как по руководству души, они никогда не поверили бы, каково, например, то, что делают во сне лунатики, и от чего сами они в бодрственном состоянии приходят в изумление. Прибавим, что самое устройство человеческого тела по своей художественности далеко превосходит все, что только было создано человеческим искусством, не говоря уже о том, что из природы, как это было сказано выше, под каким бы атрибутом она не рассматривалась, вытекает бесконечно многое.
Что касается до второго, то, конечно, для людей было бы гораздо лучше, если бы во власти человека одинаково было как молчать, так и говорить. Но опыт более чем достаточно учит, что язык всего менее находится во власти людей и что они всего менее способны умерять свои страсти. Поэтому многие думают, что мы только то делаем свободно, к чему не сильно стремимся, так как стремление к этому легко может быть ограничено воспоминанием о другой вещи, часто приходящей нам на ум, и наоборот – всего менее мы свободны в том, к чему стремимся с великой страстью, которая не может быть умерена воспоминанием о другой вещи. Конечно, говорящим так ничего не препятствовало бы верить, что мы и во всем поступаем свободно, если бы только они не испытали, что мы делаем так много, что впоследствии раскаиваемся, и что часто, волнуясь противоположными страстями, мы видим лучшее, а следуем худшему. Точно также ребенок убежден, что он свободно ищет молока, разгневанный мальчик – что он свободно желает мщения, трус – бегства. Пьяный убежден, что он по свободному убеждению души говорит то, что впоследствии трезвый желал бы взять назад. Точно также помешанные, болтуны, дети и многие другие в том же роде убеждены, что они говорят по собственному убеждению души, между тем какие в силах сдержать одолевающий их порыв говорливости. Таким образом и самый опыт не менее ясно, чем разум, учит, что люди только по той причине считают себя свободными, что свои действия они сознают, а причин, которыми они определяются, не знают, и что определения души суть далее не что иное, как самые влечения, которые бывают различны сообразно с различными состояниями тела… Все это, конечно, ясно показывает, что, как решение души, так и влечение и определение тела по природе своей совместны или, лучше сказать, одна и та же вещь, которую мы называем решением, когда она рассматривается и выражается под атрибутом мышления, и определением – когда она рассматривается под атрибутом протяжения и выводится из законов движения и покоя…
Я в особенности хотел указать на то, что мы ничего не можем сделать по решению души, если не вспомним о нем. Так, например, мы не можем произнести слова, если его не вспомним. Но вспомнить о чем-нибудь или забыть не находится в свободной власти души. Поэтому можно думать, что только от свободного решения души зависит сказать или умолчать от том, что мы вспомнили. Но, когда мы видим во сне, будто мы говорим, то мы уверены, что говорим по свободному решению души; однако на самом деле мы не говорим, или, если и говорим, то это происходит по независящему от воли движению тела. Далее, мы видим во сне, будто что-либо скрываем от людей и притом по тому же решению души, по которому в бодрственном состоянии мы умалчиваем о том, что знаем. Мы видим, наконец, во сне, будто мы по решению души делаем что-либо такое, на что в бодрственном состоянии не осмелились бы. Поэтому я весьма желал бы знать, не существует ли в душе два рода решений: одни – решения фантастические, другие – свободные? Если же неугодно доходить до такого безумия, то необходимо согласиться, что то решение души, которое считается свободным, не отличается от самого воображения или памяти и составляет не что иное, как такое утверждение, которое необходимо заключает в себе всякая идея в силу того, что она есть идея. Следовательно, эти решения возникают в душе по той же необходимости, как и идеи вещей, в действительности (актуально) существующих. Таким образом те, кто уверены, что они говорят, молчат или что бы то ни было делают по свободному решению души, бредят наяву. (Этика, III, 2, схолия.)
2. Почему наши идеи изначально неадекватны
Идеи состояний человеческого тела заключают в себе природу как самого человеческого тела, так и внешних тел; и притом они должны заключать в себе природу не только человеческого тела, но и его частей, ибо состояния суть способы внешних воздействий на части человеческого тела, а следовательно, и на все тело. Но адекватное познание тел внешних, равно как и частей, слагающих человеческое тело, находится в боге, поскольку он рассматривается составляющим не человеческую душу, но другие идеи. Следовательно, эти идеи состояний, поскольку они относятся к одной только человеческой душе, составляют как бы заключения без посылок, то есть (как само собою ясно) идеи смутные.
Точно таким же образом можно доказать, что идея, составляющая природу человеческой души рассматриваемая сама в себе, не есть идея ясная и отчетливая; то же должно сказать, как это всякий легко может видеть, и об идее человеческой души и идеях идей состояний человеческого тела, поскольку они относятся к одной только душе. (Этика, II, 28, доказательство и схолия.)
3. Критика закона: невежество Адама
Если, например, бог сказал Адаму, что он не хочет, чтобы Адам вкусил от древа познания добра и зла, то положение, что Адам может вкусить от того древа, содержало бы противоречие, и потому было бы невозможно, чтобы Адам вкусил от древа: ибо то божественное решение должно было содержать в себе вечную необходимость и истину. Но так как Писание рассказывает, однако, что бог предписал это Адаму и Адам тем не менее вкусил от древа, то необходимо следует сказать, что бог открыл Адаму только зло, которое необходимо последует для него, если он вкусит от того древа, но не открыл необходимости этого следствия. В результате этого Адам воспринял то откровение не как вечную и необходимую истину, но как закон, т. е. как постановление, которое влечет за собой выгоду или вред не вследствие необходимости и природы выполненного действия, но благодаря только хотению и безусловному повелению какого-нибудь властелина. Поэтому только по отношению к Адаму и лишь ради недостаточности его познания это откровение было законом, а бог – как бы законодателем или государем. По этой же причине, т. е. вследствие недостаточности познания, Десятисловие только по отношению к евреям было законом: потому что они, не зная о существовании бога как о вечной истине, должны были воспринять как закон то, что им было открыто в Десятисловии, именно: что бог существует и что только бога должно почитать, а если бы бог говорил им непосредственно, не употребляя никаких вещественных средств, то они восприняли бы то же самое не как закон, а как вечную истину.
То, что мы сказали об израильтянах и Адаме, должно сказать и о всех пророках, писавших законы от имени бога, именно: что они воспринимали решения бога неадекватно, не как вечные истины; например, и о самом Моисее должно сказать, что он из откровения или из основ, открытых ему, воспринял способ, которым израильский народ в определенной стране мира может лучше всего объединиться и образовать цельное общество или создать государство; потом воспринял также способ, которым лучше всего можно было привести в этот народ к повиновению, но он не воспринял, и ему не было открыто, что этот способ есть самый лучший, а также и то, что общим повиновением народа в той стране необходимо достигнута была бы цель, к которой они стремились. Вследствие этого он воспринял все это не как вечные истины, но как правила и постановления и предписал их как законы бога, а отсюда произошло, что он вообразил бога правителем, законодателем, царем милосердным, справедливым и пр., между тем как все это есть атрибуты человеческой природы и от божественной природы они совершенно должны быть устранены. (Богословско-политический трактат, глава 4).
4. Есть два типа страстей, сопровождающих неадекватные идеи
Душа может претерпевать большие изменения и переходить то к большему совершенству, то к меньшему, и эти пассивные состояния объясняют нам, что такое аффекты удовольствия и неудовольствия. Под удовольствием, следовательно, я буду разуметь в дальнейшем такое пассивное состояние, через которое душа переходит к большему совершенству, под неудовольствием же такое, через которое она переходит к меньшему совершенству.
Под добром я разумею здесь всякий род удовольствия и затем все, что ведет к нему, в особенности же то, что утоляет тоску, какова бы она ни была; под злом же я разумею всякий род неудовольствия и в особенности то, что препятствует утолению тоски.
Аффект, называемый страстью души, есть смутная идея, в которой душа утверждает большую или меньшую, чем прежде силу существования своего тела или какой-либо его части, и которой сама душа определяется к мышлению одного преимущества перед другим.
Я говорю, во-первых, что аффект или сострадательное состояние духа есть «смутная идея», ибо мы показали, что душа пассивна только постольку, поскольку имеет идеи неадекватные или смутные. Далее я говорю: «в которой душа утверждает большую или меньшую, чем прежде, силу существования своего тела или какой-либо его части» – так как все наши идеи о телах более указывают состояние нашего тела, чем природу тела внешнего; та же идея, которая составляет форму аффекта, должна указывать или выражать состояние тела или какой-либо его части, которое имеет тело или какая-либо его часть вследствие того, что его способность к действию, иными словами, сила существования, увеличивается или уменьшается, способствуется или ограничивается. Но должно заметить, что, когда я говорю «большую или меньшую, чем прежде, силу существования», я не подразумеваю, что душа сравнивает настоящее состояние тела с прошедшим, но что идея, составляющая форму аффекта, утверждает о теле что-либо, на самом деле заключающее в себе более или менее реальности, чем прежде. Атак как сущность души состоит в том, что она утверждает действительное существование своего тела, и так как под совершенством мы разумеем самую сущность вещи, то отсюда следует, что душа переходит к большему или меньшему совершенству тогда, когда ей случается утверждать о своем теле или какой-либо его части что-нибудь такое, что заключает в себе более или менее реальности, чем прежде. Поэтому, сказав выше, что способность души к мышлению увеличивается или уменьшается, я хотел разуметь под этим только то, что душа образовала о своем теле или о какой-либо его части идею, выражающую более или менее реальности, чем она прежде утверждала о своем теле. Ибо превосходство идей и действительная (актуальная) способность к мышлению оценивается по превосходству объекта. Наконец, я прибавил: «и которой сама душа определяется к мышлению одного преимущественно перед другим» для того, чтобы кроме природы удовольствия и неудовольствия, которую выражает первая часть определения, выразить также и природу желания. (Этика, III, 11, схолия; 39, схолия; общее определение аффектов.)
5. Критика мрачных состояний и тех, кто им служит
Никакое божество и никто, кроме ненавидящего меня, не может находить удовольствия в моем бессилии и моих несчастьях и ставить нам в достоинство слезы, рыдания, страх и прочее в этом роде, свидетельствующее о душевном бессилии. Наоборот, чем большему удовольствию мы подвергаемся, тем к большему совершенству мы переходим, т. е. тем более мы становимся необходимым образом причастными божественной природе. Таким образом дело мудреца пользоваться вещами и насколько возможно наслаждаться ими (но не до отвращения, ибо это уже не есть наслаждение)….
Люди суеверные, умеющие больше порицать пороки, чем учить добродетелям, и старающиеся не руководить людей разумом, но сдерживать их страхом таким образом, чтобы они скорее избегали зла, чем любили добродетель, стремятся только к тому, чтобы и другие были также жалки, как и они сами. Поэтому неудивительно, что они большей частью бывают тягостны и ненавистны людям….
Те, которые умеют только бранить людей, более порицать их пороки, чем учить добродетелям, и не укреплять дух людей, а сокрушать его, те служат в тягость и себе самим и другим. Поэтому-то многие из чрезмерной нетерпимости и ложного религиозного усердия желали жить лучше среди животных, чем среди людей, подобно тому как мальчики и юноши, которые не могут равнодушно переносить укоры родителей, ищут себе убежища в военной службе и предпочитают неудобства войны и деспотическую власть домашним удобствам и отеческим увещеваниям и согласны подвергнуться какой угодно тягости, чтобы только отомстить своим родителям….
Но должно заметить, что приводя в порядок наши мысли и образы, всегда должно обращать внимание на то, что в каждой вещи составляет хорошую сторону, дабы таким образом всегда определяться к действию аффектом удовольствия. Если, например, кто-либо заметит, что он слишком увлекается славой, пусть он подумает, в чем ее истинная польза, с какою целью должно к ней стремиться, и какими средствами можно приобрести ее, а не думает о злоупотреблениях ею, о ее пустоте, непостоянстве людей или другом в том же роде, о чем думают только вследствие болезненного расположения духа.
Такими ведь мыслями более всего волнуются честолюбцы, когда они отчаиваются добиться того почета, который стараются снискать, и желают казаться мудрыми изрыгая гнев. Поэтому очевидно, что всего более алчными к славе являются те, которые наиболее кричат о злоупотреблениях ею и о суетности мира. И это свойственно не одним честолюбцам, но вообще всем, кому судьба враждебна, и кто бессилен духом. Так, даже и нищий-скряга не перестает толковать о злоупотреблениях деньгами и пороках богатых, через что он только сам себя мучит и показывает другим, что он не равнодушен не только к своей бедности, но и к чужому богатству. Точно также и те, которые были дурно приняты своей любовницей, думают только о непостоянстве женщин, их лживой душе и других прославленных их пороках; но все это они тотчас же предают забвению, как только снова будут приняты ею. Поэтому-то тот, кто старается умерять свои аффекты и влечения из одной только любви к свободе, должен, насколько возможно, стараться познавать добродетели, их причины и наполнять свой дух радостью, возникающею из истинного их познания, всего же менее обращать внимания на людские пороки, унижать людей и забавляться ложным призраком свободы. Кто будет тщательно наблюдать это (ибо это совсем не трудно) и упражняться в этом, тот в короткое время будет в состоянии направлять большинство своих действий по предписанию ума. (Этика, IV, 45, схолия; IV, 63, схолия; IV, прибавление, 13; V, 10, схолия.)
6. Критика и смысл религии: подчинение
Изучение наук не было целью Писания; отсюда ведь мы можем легко заключить, что оно ничего, кроме повиновения, не требует от людей и осуждает только непокорность, а не незнание… Людей нельзя обязывать знать атрибуты бога по приказанию, но это есть особый дар, предоставленный только некоторым верующим, и нет надобности показывать это множеством свидетельств из Писания. Кто же не видит, что познание о божестве не было равным у всех верующих и что никто не может быть мудрым по приказанию, так же как нельзя по приказанию жить или быть? Повиноваться приказанию, конечно, могут одинаково мужчины, женщины, дети и все [без исключения], но не [могут] быть [одинаково] мудрыми. Если бы кто сказал, что нужно не разуметь атрибуты бога, но совершенно просто и без доказательств верить, тот, конечно, сказал бы вздор. Ибо невидимые вещи и те, которые суть объекты только духа, могут быть видимы не иными какими очами, как только посредством доказательств; следовательно, у кого их нет, те ровно ничего из этих вещей не видят….
Интеллектуальное познание о боге, которое рассматривает его природу, как она есть сама в себе, – а этой природе люди не могут ни подражать известным образом жизни, ни взять ее за образец при устроении истинного образа жизни, – никоим образом не относится к вере и религии откровения и, следовательно, относительно нее люди могут на всю поднебесную заблуждаться – преступления не будет. Итак, не удивительно, что бог приспосабливался к представлениям и предвзятым мнениям пророков и что верующие держались различных взглядов о боге. Потом, не удивительно также, что священные книги говорят столь несвойственно о боге и приписывают ему руки, ноги, глаза, уши, душу и местное передвижение (motus localis) и, кроме того, также душевные движения, например: что он ревнив, милосерд и пр., и что, наконец, рисуют его как судью и сидящим на небесах, как бы в царском троне, а Христа – по правую сторону от него. Действительно, [священные книги] говорят сообразно с понятием толпы, которую Писание старается сделать не ученой, но послушной. Однако богословы обычно утверждали, что все несогласия с божественной природой, какие они смогли усмотреть при помощи своего естественного света, должно истолковывать метафорически, а все, что не поддается их пониманию, должно понимать буквально. Но если все, что в этом роде встречается в Писании, необходимо должно было бы толковать и понимать метафорически, тогда Писание было бы написано не для народа и необразован ной толпы, но только для весьма ученых людей и преимущественно для философов. Вдобавок, если бы благочестиво и в простоте души верить относительно бога тому, что мы сейчас привели, было нечестиво, то, разумеется, пророки должны были бы в высшей степени остеречься подобных фраз – ради слабости толпы по крайней мере – и, напротив, учить прежде всего отчетливо и ясно об атрибутах бога так, как обязан принимать их каждый, а этого нигде не сделано. Стало быть, не следует думать, что мнения, рассматриваемые абсолютно, без отношения к действиям, содержать сколько-нибудь от благочестия или нечестия, но следует сказать только, что человек верит во что-нибудь благочестиво или нечестиво, поскольку он благодаря своим мнениям побуждается к повиновению или на основании их же дает себе волю грешить или бунтовать; так что, кто, веруя в истину, делается непокорным, тот в действительности имеет нечестивую веру, и, наоборот, кто, веруя в ложное, послушен, тот имеет благочестивую веру…. Бог не требовал от людей никакого другого познания, кроме познания божественной своей справедливости и любви, каковое познание необходимо не для наук, а для повиновения. (Богословско-политический трактат, глава 13.)
В) Покорение адекватного
7. Метод: начинайте с какой-либо истинной идеи, чтобы произвести адекватное знание о нас самих, о Боге и о других вещах
Метод не есть само умопостигание, направленное к пониманию причин вещей; но он есть понимание того, что такое истинная идея, посредством различения ее от прочих восприятий и исследований ее природы с целью познать способность (potentia) нашего понимания и так обуздывать дух (mens), чтобы он сообразно с указаниями нормы понимал все, что подлежит пониманию, передавая ему как вспоможение известные правила и также содействую тому, чтобы дух не изнурялся без пользы. Отсюда вытекает, что метод есть не что иное, как рефлексивное познание (cognitio reflexiva) или идея идеи; а так как не дана идея идеи, если не дана прежде идея, то, следовательно, не будет дан метод, если не дана прежде идея. Поэтому хорошим будет тот метод, который показывает, как должно направлять дух сообразно с нормой данной истинной идеи.
Далее, так как соотношение между двумя идеями таково же, как соотношение между формальными сущностями этих идей, то отсюда следует, что рефлексивное познание идеи совершеннейшего существа (Ens reflectissimum) предпочтительнее рефлексивного познания прочих идей, то есть совершеннейшим будет тот метод, который показывает, каким образом должно направлять дух сообразно с нормой данной идеи совершеннейшего существа (бытия).
Из этого легко понять, каким образом дух, больше понимая, тем самым приобретает новые орудия, при помощи которых еще легче расширяет понимание. Ибо, как легко вывести из сказанного, должна прежде всего существовать в нас – как врожденное орудие – истинная идея, поняв которую, мы понимаем вместе с тем различие между таким восприятием и всем прочим.
В этом состоит одна часть метода. И так как ясно само собой, что дух тем лучше понимает себя, чем больше он понимает природу, то отсюда явствует, что эта часть метода будет тем совершеннее, чем обширнее понимание духа, и будет наиболее совершенной тогда, когда дух устремляется или обращается к познанию совершеннейшего существа. Затем, чем больше познал дух, тем лучше он понимает и свои силы и порядок природы, тем легче он может сам себя направлять и устанавливать для себя правила; и чем лучше он понимает порядок природы, тем легче может удерживать себя от тщетного; а в этом, как мы сказали, состоит весь метод (Трактат об усовершенствовании разума, с. 331, 332).
8. Почему общие понятия выступают для нас как адекватные идеи
Идея того, что обще и свойственно человеческому телу и некоторым из внешних тел, со стороны которых тело человеческое обыкновенно подвергается воздействиям, и что одинаково находится как в части каждого из этих тел, так и в целом, будет в душе также адекватна.
Пусть А будет то, что обще и свойственно человеческому телу и некоторым из внешних тел, что одинаково находится как в человеческом теле, так и в этих внешних телах, и что, наконец, одинаково находится как в части каждого из внешних тел, так и в целом. В боге будет находиться адекватная идея этого А, и поскольку он имеет идею человеческого тела, и поскольку он имеет идеи этих внешних тел. Предположим теперь, что тело человеческое подвергается воздействию со стороны внешнего тела через то, что оно имеет с ним общего, то есть через А. Идея этого состояния будет заключать в себе свойство А; следовательно, идея этого состояния, поскольку она заключает в себе свойство А, будет адекватна в боге, поскольку он составляет идею человеческого тела, то есть поскольку он составляет природу человеческой души. Следовательно, эта идея будет адекватна также и в человеческой душе.




