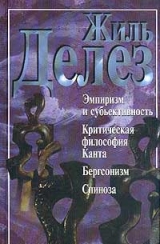
Текст книги "Эмпиризм и субъективность. Критическая философия Канта. Бергсонизм. Спиноза (сборник)"
Автор книги: Жиль Делёз
Жанры:
Прочая старинная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 33 страниц)
Однако сколь ни важны все эти соответствия, они – лишь репрезентация философии и распределение ее результатов. Несмотря на отношение аналогии между двумя установленными областями, мы не должны забывать, какая из них определяет формирование другой как философской темы. Мы спрашиваем о движущей силе, или мотиве, философии. По крайней мере, такое положение дел легко разрешается: Юм прежде всего моралист, политический мыслитель и историк. Но почему?
Трактат [о человеческой природе] начинается с системы рассудка и ставит проблему разума. Однако необходимость такой проблемы совсем не очевидна; у проблемы должен быть источник происхождения, который мы и будем рассматривать как мотив философии. Разум решает проблемы не потому, что сам является какой-то проблемой. Напротив, чтобы имела место проблема разума, соотнесенная с его собственной областью, должна существовать область, которая уклоняется от разума, ставя его изначально под вопрос. Важное и принципиальное положение Трактата таково: Я ни в коей мере не вступлю в противоречие с разумом, если предпочту, чтобы весь мир был разрушен, тому, чтобы я поцарапал палец.52
Противоречие [с разумом] – избыточное отношение. Разум можно поставить под вопрос и можно поднять проблему его природы, ибо он несоразмерен бытию, ибо он не применим ко всему, что есть. Дело в том, что разум не определяет практику: он практически и технически недостаточен. Несомненно, разум оказывает влияние на практику, либо сообщая нам о существовании какой-либо вещи, объекта, свойственного какому-либо аффекту, либо раскрывая связь между причинами и следствиями, раскрывая средство для [достижения] удовлетворения.53 Но нельзя сказать ни что разум производит действие, ни что аффект противоречит ему, ни что разум борется с аффектом. Противоречие [с разумом] подразумевает, по меньшей мере, рассогласование между идеями и объектами, которые эти идеи представляют:
Аффект есть первичное данное или, если угодно, модификация такового; он не содержит в себе никакого представительствующего качества, которое делало бы его копией какого-либо другого данного или другой модификации.54
Моральные различия [вроде порока и добродетели – пер.] уже не порождаются разумом, поскольку возбуждают аффекты, производят или предотвращают поступки.55 Действительно, есть противоречие в краже собственности, в нарушении обязательств, но лишь в той мере, в какой обязательства и собственность существуют в природе. Разум всегда можно применить, но применяется он к предсуществующему миру и предполагает предшествующую мораль, некий порядок целей.56 Значит, именно потому, что практика и мораль в своей природе (но не в своих обстоятельствах) безразличны к разуму, разум ищет собственное отличие. Поскольку он отрицается извне, он будет отвергаться изнутри и раскрываться как безумие и скептицизм. К тому же, поскольку такой скептицизм имеет свой источник происхождения и свой мотив вовне – в безразличной практике, то сама практика безразлична к скептицизму: всегда ведь можно сыграть в трик-трак.57 Философ ведет себя также, как и любой другой: свойство скептика именно в том, что его размышления не позволяют дать ответ и не производят убеждений.58 Следовательно, мы возвращаемся к предыдущему заключению, на этот раз окончательному: и скептицизм, и позитивизм – оба присутствуют в одном и том же философском размышлении. Позитивизм аффектов и морали порождает скептицизм разума: такой внутренний скептицизм, став скептицизмом разума, в свою очередь порождает позитивизм рассудка как теорию практики. Позитивизм рассудка постигается по образу скептицизма разума.59
По образу, а не по подобию. Теперь можно точно понять различие между системой морали и системой рассудка. В случае привязанности различают два термина: аффективную и моральную привязанность, а также выход за пределы как измерение познания. Несомненно, принципы морали, изначальные и естественные качества аффекта выходят за пределы и воздействуют на душу также, как и принципы ассоциации; эмпирический субъект жестко установлен в душе благодаря результату действия всех сопряженных друг с другом принципов. Но лишь под влиянием (впрочем неравным) принципов ассоциации – и никаких других – этот субъект сам может выйти за пределы того, что дано: он верит. В этом точном смысле выход за пределы касается исключительно познания: он выносит идею по ту сторону ее самой, сообщая ей некую роль, утверждая ее объект и устанавливая ее связи. Отсюда следует, что самый важный принцип – в системе рассудка, – воздействующий на разум, будет с самого начала рассматриваться в его активности, в движении субъекта, выходящего за пределы того, что дано: природа каузального отношения схватывается в заключении.60 Что касается морали, тут все по-другому, даже когда она берется по аналогии с формой демонстрации выхода за пределы.61 Здесь не делается никакого заключения.
Мы не делаем заключения, что характер добродетелен, из того, что он нравится нам, но чувствуя, что он нам нравится особым образом, в сущности чувствуем и то, что он добродетелен.62
Мораль принимает идею в качестве единственного фактора собственных условий и принимает ассоциацию в качестве определяющего элемента человеческой природы. Напротив, в системе рассудка как раз ассоциация – определяющий элемент, единственный определяющий элемент человеческой природы. Для иллюстрации такой двойственности, достаточно вспомнить различие, проводимое Юмом между двумя [тождествами] личности [moi],63 и тот другой способ, каким он представляет и трактует соответствующие проблемы.
Итак, есть два типа практики, непосредственно представленных крайне разными характеристиками. Практика рассудка определяет внутреннюю экономию Природы, она действует через экстенсию. Природа – как объект физики – существует последовательно, шаг за шагом. В этом ее сущность. Если мы рассматриваем объекты в их идее, то возможно, что все эти объекты «могут стать причинами или действиями друг друга»,64 поскольку каузальное отношение не является отношением их качеств: логически все, что угодно, может быть причиной всего, чего угодно. Если же, с другой стороны, мы наблюдаем соединение двух объектов, каждый из которых численно отличается [от другого], то один представленный объект независим от другого объекта и каждый из них не оказывает никакого влияния на другой объект; «они вполне разделены по времени и месту».65 Они – только компоненты частей конкретной вероятности,66 фактически, если вероятность предполагает причинность, то достоверность, рождающаяся из причинного рассуждения, также есть некий предел, особый случай вероятности, или, скорее, случай практически абсолютного схождения вероятностей.67 Природа – протяженная величина; следовательно, она годится для физического эксперимента и исчисления. Существенным является упорядочение ее частей: в этом и состоит функция общих правил в области познания. Природа – не целостность; целое не столько открывается, сколько изобретается. Тотальность – это только собрание. «…Я отвечаю на это, что соединение частей в целое… совершается исключительно произвольным актом ума [esprit] и не оказывает никакого влияния на природу вещей».68 Общие правила познания, поскольку их всеобщность касается целого, не отличаются от естественных принципов нашего рассудка.69 Трудность, говорит Юм, не в том, чтобы их изобрести, а в том, чтобы их применить.
Напротив, случай с практикой морали иной. Части здесь даются непосредственно, никакого заключения тут не делается, как нет и необходимого применения. Но вместо того, чтобы быть экстенсивными, эти части взаимоисключают друг друга. Части здесь не состоят из частей, как в природе; они, скорее, пристрастны. В моральной практике трудность состоит в отвлечении от такой пристрастности, в уклонении от нее. Самое важное – изобрести: справедливость – это искусственная добродетель, а «человечество – изобретательный род».70 Самое существенное – установить всю мораль в целом; справедливость – это схема.71 Такая схема и есть главный принцип общества.
Отдельный акт справедливости, рассматриваемый сам по себе, может часто противоречить общественному благу и для последнего может быть выгодным лишь совместное действие всего человечества сообразно общей схеме, или системе, поступков.72
Речь идет уже не о выходе за пределы, а об интеграции. Вопреки разуму, который всегда движется шаг за шагом, чувство реагирует на целостности.73 Вот почему в области морали у общих правил иной смысл.
Глава II. Мир культуры и общие правила
Мы должны теперь объяснить эти спорные моменты относительно морали. Сущность морального сознания состоит в том, чтобы одобрять или не одобрять. У чувства, побуждающего нас превозносить или порицать, у неудовольствия и удовольствия, определяющих порок и добродетель, есть какая-то изначальная природа: они производятся через рассмотрение характера вообще без ссылки на наш частный интерес.1 Но что заставляет нас отказаться от ссылки на собственную точку зрения и вынуждает рассматривать – «путем простого осмотра» – характер вообще, другими словами, что заставляет нас принять нечто и жить с ним, поскольку последнее полезно и для другого, и для личности, поскольку оно согласуется и с другим, и с личностью как таковой? Ответ Юма прост: симпатия. Однако есть парадокс симпатии: она открывает нам моральное пространство, некую всеобщность, но такое пространство не обладает протяженностью, а всеобщность не является количественной. Фактически, чтобы быть моральной, симпатия должна распространяться в будущее, а не ограничиваться настоящим моментом, она должна быть удвоенной симпатией, то есть соответствием впечатлений – соответствием, которое умножается желанием доставить удовольствие другому и предотвратить его огорчения.2 Таково фактическое положение дел: симпатия существует, она естественным образом распространяется. Но такое распространение не утверждается без исключения: симпатию невозможно было бы распространить, если бы нам не помогало какое-нибудь имеющееся налицо условие, очень живо воздействующее на нас,3 исключая те случаи, которые не содержат это условие. Таким условием применительно к фантазии будет сильная степень страдания,4 но применительно к человеческой природе оно – смежность, сходство или причинность. Согласно обстоятельствам мы любим именно тех, кто близок нам, кто наша ровня или родственники.5 Короче, наше великодушие ограничено по природе; как раз ограниченное великодушие естественно для нас.6 Симпатия естественно распространяется в будущее, но лишь в той мере, в какой [указанные] обстоятельства ограничивают ее распространение. Обратная сторона той же всеобщности, к коей взывает симпатия, – это пристрастие, «неодинаковость привязанности», какой симпатия наделяет нас как характеристикой нашей природы: «и всякий значительный выход за пределы известного пристрастия – в сторону чрезмерного расширения или сужения аффектов – нам следует рассматривать как преступный и безнравственный».7 Мы порицаем родителей, отдающих предпочтение чужим, а не своим детям.
Итак, как раз не наша природа является моральной, а именно наша мораль пребывает в нашей природе. Одна из наиболее простых, но наиважнейших идей Юма такова: человек не столько эгоистичен, сколько пристрастен. Иные считают себя философами и глубокими мыслителями, придерживаясь [того мнения], что эгоизм – последнее прибежище любой деятельности. Не слишком ли просто? Разве они не видят, что найдется мало таких лиц, которые не ассигновали бы большую часть своего состояния на удовольствия жен и воспитание детей, оставляя лишь самую малую долю для личного пользования и развлечений?8
Истина в том, что человек всегда принадлежит какому-нибудь клану или сообществу. Согласно Теннису, мы принадлежим определенным типам сообществ, но еще до этого, по Юму, семья, дружба и соседство суть естественные определители симпатии. И именно потому, что сущность аффекта, сущность частного интереса состоит в пристрастии, а не в эгоизме, симпатия, со своей стороны, не выходит за пределы частного интереса или аффекта. «Наше чувство долга всегда следует обычному и естественному течению наших аффектов».9 Пойдем же до конца, даже если мы явно утратим преимущество различия между эгоизмом и симпатией: симпатия противостоит обществу также, как и эгоизм.
Этот благородный аффект, вместо того чтобы приспосабливать людей к большим обществам, почти столь же сильно препятствует этому, как и самый узкий эгоизм.10 Никто не обладает одинаковой с другим симпатией; если определено множество известных пристрастий, то тут имеется противоречие и насилие.11 В этом и состоит ход природы; на таком уровне нет разумных способов общения между людьми.
Каждый отдельный человек имеет особое отношение к другим людям, и мы совершенно не могли бы поддерживать друг с другом разумное общение, если бы каждый из нас рассматривал характеры и людей только так, как они представляются ему с его личной точки зрения.12
Однако если симпатия похожа на эгоизм, то каков смысл замечания Юма о том, что человек – не эгоист, а симпатизирующее [существо]? Дело в том, что если общество находит столько же помех в симпатии, сколько и в самом чистом эгоизме, то абсолютно меняется именно смысл или сама структура общества, в зависимости оттого, рассматриваем ли мы его с точки зрения эгоизма, или же с точки зрения симпатии. Фактически, эгоизму нужно быть только ограниченным. Что касается симпатий, то тут другое дело: их нужно интегрировать – интефировать в позитивной тотальности. В теориях договора Юм критикует как раз то, что они дают нам абстрактный и ложный образ общества, что они определяют общество только негативным образом, что они видят в нем совокупность ограничений эгоизмов и интересов вместо того, чтобы понимать общество как позитивную систему изобретательных усилий. Вот почему так важно помнить, что естественный человек – не эгоист: все зависит от концепции общества. То, что мы находим в природе, – без исключения – суть семейства; конкретное состояние природы – это уже и всегда нечто большее, чем просто некое состояние природы.13 Семья – независимо от всех законодательств – объясняется половым инстинктом и симпатией – симпатией между родителями и симпатией родителей к своему потомству.14 Поймите сначала проблему общества под этим углом, ибо общество обнаруживает собственный камень преткновения в симпатиях как таковых, а не в эгоизме. Несомненно, в своем истоке общество выступает как объединение семей; но объединение семей не является семейным объединением. Конечно, семьи – это социальные единства; но свойство таких единств не в том, что они добавляются друг к другу; скорее, они исключают друг друга, они пристрастны, но не частичны. Родители одного [человека] всегда чужаки для другого: противоречие взрывается внутри природы. В этом смысле проблема общества – это проблема не ограничения, а интеграции. Интегрировать симпатии означает заставить симпатию выйти за пределы своего противоречия, своего естественного пристрастия. Такая интеграция подразумевает позитивный моральный мир и осуществляется благодаря позитивному изобретению такого мира.
Этим сказано, что моральный мир не сводится к моральному инстинкту, к естественным определителям симпатии.15 Моральный мир утверждает свою реальность, когда противоречие на деле рассеивается, когда диалог возможен и заменяет собой насилие, когда на смену жадности приходит собственность, когда, несмотря на такое видоизменение нашей симпатии, мы одобряем одни и те же нравственные качества независимо оттого, проявляются ли они в Китае или в Англии, или, одним словом, симпатия изменяется, а наше уважение остается без изменений.16
Уважение – интегрирующее начало симпатии. Оно – основа справедливости. Такое основание справедливости, а также единообразие уважения – вовсе не то, что выносится из воображаемого путешествия, когда мы мысленно переносимся в самые отдаленные эпохи и страны, дабы установить тех, кого выбираем в качестве своих возможных ближних, ровни и родителей: «невозможно представить, каким именно образом реальное чувство или аффект могут когда-либо возникнуть из известного воображаемого интереса…»17 Моральная и социальная проблема состоит в том, как перейти от взаимоисключающих реальных симпатий к реальному целому, которое включало бы в себя сами эти симпатии как таковые. Речь идет о том, как распространить симпатию.
Мы видим разницу между моралью и природой, или, скорее, несоответствие между природой и моралью. Реальность морального мира – это полагание чего-то целого, какого-то общества, это устанавливание неизменной системы; реальность морального мира не естественна, а искусственна.
Правила справедливости в силу своей универсальности и абсолютной негибкости не могут быть выведены из природы, не могут они быть и непосредственным критерием естественной склонности или мотива.18
Все элементы морали (симпатии) даны естественно, но образовать моральный мир они сами по себе бессильны. Пристрастия или частные интересы не могут объединиться в целое естественным образом, поскольку исключают друг друга. Целое можно только изобрести, так как единственно возможное изобретение – это изобретение целого. Такой вывод легко показывает сущность моральной проблемы. Справедливость – не принцип природы; она, скорее, – правило, закон конституирования, роль которого состоит в том, чтобы организовывать элементы внутри данного целого, организовывать сами принципы природы. Справедливость – это средство. Моральная проблема – это проблема схематизма, то есть действия, посредством которого мы относим естественные интересы к политической категории целого или к не данной в природе тотальности. Моральный мир – это искусственная тотальность, в которой частные цели интегрируются и добавляются друг к другу. Или, опять же, моральный мир – это система средств, позволяющих моему частному интересу, как и интересу другого, удовлетвориться и реализоваться. Мораль может быть равным образом помыслена и как целое по отношению к частям, и как средство по отношению к целям. Короче, моральное сознание – это политическое сознание: подлинная мораль является политикой, также как подлинный моралист – это законодатель. Или еще: моральное сознание – это детерминанта психологического сознания, это психологическое сознание, понятое исключительно в аспекте своей изобретательной мощи. Моральная проблема – это проблема целого, а также проблема средств. Законодательство – великое изобретение; а подлинные изобретатели – не технологи, а законодатели. Не Эскулап и Вакх, а Ромул и Тесей.19
Система направленных средств, упорядоченное целое называются правилом или нормой. Юм говорит: общее правило. У такого правила два полюса: форма и содержание, договор и собственность, система обычаев и стабильность владения. Быть в обществе означает, прежде всего, заменять насилие возможным договором: мышление каждого представляет в себе мышление других. Но при каких условиях? При том условии, что частные симпатии каждого превосходятся особым образом и преодолевают соответствующие пристрастия и противоречия, которые они рождают среди людей. При том условии, что естественная симпатия может искусственно проявляться вне своих естественных ограничений. Функция правила – задавать устойчивую общую точку зрения, прочную, трезвую, независимую от наличной ситуации.
Но при вынесении суждения о характерах единственный интерес или единственное удовольствие, которые тождественны для любого зрителя, – это либо интерес и удовольствие самого лица, обладающего указанным характером, либо удовольствие и интерес лиц, общающихся с ним.20
Несомненно, такой интерес затрагивает нас куда слабее, чем наш собственный или же интересы наших близких, равных нам и родственников; мы начинаем понимать, что интерес должен – из другого места – получать недостающую ему живость. Но в конце концов, он обладает практическим преимуществом – даже когда он бессердечен – быть общим и незыблемым критерием, каким-то третьим интересом, независящим от собеседников, быть ценностью.21 Все то в человеческих поступках, что причиняет нам неудовольствие, именуется нами вообще Пороком.22
Итак, созданное таким образом обязательство, по существу отличается от естественного обязательства, естественного и частного интереса или побудительного мотива действия: оно – моральное обязательство или чувство долга. На другом же полюсе собственность предполагает аналогичные условия. «Я замечаю, что мне выгодно предоставлять другому человеку владение его собственностью при условии, что он будет действовать также по отношению ко мне».23 И здесь указанный третий интерес выступает как всеобщий интерес. Договор о собственности – это нечто искусственное, благодаря чему действия каждого соотносятся с действиями других. Такой договор есть установление схемы и института символической совокупности или целого. Итак, Юм видит в собственности по существу политический феномен – политический феномен по преимуществу. Собственность и договор наконец соединяются, формируя два сюжета общественной науки;24 общий смысл взаимного интереса должен быть выражен, чтобы стать действенным.25 Разум предстает здесь как договор собственников.
Из этих первых определений уже можно увидеть, что роль общего правила двунаправлена, она одновременно экстенсивная и коррективная. Общее правило корректирует наши чувства, заставляя нас пренебрегать наличным положением дел.26 Одновременно, по своей сущности, оно «выходит за пределы тех примеров, которые дали ему начало». Хотя чувство долга «проистекает исключительно из рассмотрения чужих поступков, однако мы все время распространяем его и на свои собственные поступки».27 Наконец, у этого правила есть и исключение; оно заставляет нас симпатизировать другому, даже тогда, когда тот в данной ситуации вообще не испытывают соответствующего чувства.
Человек, не подавленный постигшими его бедствиями, возбуждает особенно большое сожаление благодаря своему долготерпению…; и хотя в данном случае мы имеем дело с исключением, однако наше воображение подчиняется общему правилу… Так, при убийстве отягощающим обстоятельством считается тот факт, что жертвами его пали лица, спящие и уверенные в своей полной безопасности.28
Нам следовало бы спросить, как возможно изобретение такого правила. Это самый главный вопрос. Как мы можем формировать систему средств, общих правил, совокупностей, которые одновременно и коррективны, и экстенсивны? Но теперь мы уже можем ответить на следующее: что же в точности мы изобретаем? В своей теории искусственного Юм предлагает целостную концепцию отношения между природой и культурой, тенденцией и институтом. Несомненно, частные интересы не могут отождествляться, естественным образом тотализироваться. Тем не менее, верно, что природа требует их отождествления. Если нет, то общее правило никогда не может установиться, собственность и договор не могут быть даже помыслены. Альтернатива, с которой сталкиваются симпатии, такова: либо распространяться с помощью искусственного, либо разрушаться через противоречие. То же и для аффектов: либо их искусственное или косвенное удовлетворение, либо насильственное отбрасывание. Позже и гораздо точнее Бентам объяснит, что потребность естественна, ноне бывает удовлетворения потребности, или, по крайней мере, не бывает постоянного и длительного удовлетворения, которое оказывается невозможным с помощью искусственных средств, промышленности и культуры.29 Следовательно, тождество интересов искусственно, но лишь в том смысле, в каком оно упраздняет естественные препятствия для естественного отождествления самих интересов. Другими словами, значение справедливости исключительно топологическое. У искусственного нет никакого другого принципа, кроме симпатии. Принципы не изобретаются. Искусственное изобретение обеспечивает симпатии и естественным аффектам то распространение, в котором их можно будет применять, естественным образом разворачивать и только так освобождать от природных ограничений.30 Аффекты не ограничиваются справедливостью, они увеличиваются и распространяются. Справедливость – это экстенсия аффекта и интереса, и лишь пристрастное движение такой экстенсии отвергается и сдерживается. Именно в этом смысле экстенсия сама по себе является коррекцией к рефлексией.
Таким образом, эгоистический аффект не может быть сдерживаем никаким иным аффектом, кроме себя самого, но лишь при условии изменения своего направления; изменение же это необходимо должно произойти при малейшем размышлении.31
Нужно понять, что справедливость – не рефлексия над интересом, а рефлексия самого интереса, некий вид сворачивания аффекта как такового в душе, подвергающейся воздействию со стороны этого аффекта. Рефлексия – это действие репрезентации, обуздывающее самого себя.
Итак, это средство не дает нам природа; мы приобретаем его искусственно, или, выражаясь точнее, природа в суждении и уме (understending) дает нам средство против того, что неправильно и неудобно в аффектах.32
Рефлексия тенденции – это движение, устанавливающее практический разум; разум – это лишь определенный момент привязанностей души, это безмятежная привязанность или полное спокойствие, «основанное на ином взгляде или на рефлексии».
Подлинный дуализм по Юму пролегает не между привязанностью и разумом, природным и искусственным, а между всей природой в целом, куда включено и искусственное, и душой, на которую воздействует это целое и которая упорядочивается благодаря последнему. Итак, то, что смысл справедливости не сводится к инстинкту, к естественному обязательству, вовсе не препятствует существованию естественного инстинкта и, более того, естественного обязательства быть справедливым, лишь только справедливость устанавливается.33 То, что уважение не изменяется, когда изменяется симпатия, и что оно не ограничивается, когда естественным образом ограничивается великодушие, вовсе не препятствует тому, чтобы естественная симпатия или ограниченное великодушие были необходимым условием и единственной стихией уважения: именно благодаря симпатии мы уважаем.34 То, что справедливость, наконец, способна частично сдерживать наши аффекты, вовсе не означает, что у нее иная цель, нежели их удовлетворение,35 что у нее иное начало, нежели ихдетерминация;36 просто она удовлетворяет их окольным путем. Справедливость – не принцип природы; она – нечто искусственное. Но в том смысле, в каком человек – изобретательный род, искусственное все еще является природой; стабильность владения – это естественный закон.37 Как сказал Бергсон, сами по себе привычки не естественны, но что естественно, так это привычка приобретать привычки. Природа достигает своих целей только с помощью средств культуры, а тенденция удовлетворяется только через институт. Именно в этом смысле история – часть человеческой природы. И наоборот, природа обнаруживается как осадок истории;38 природа – это то, чего история не объясняет, то, что не может быть определено, что даже бесполезно описывать, что является общим для самых разных способов удовлетворения тенденции.
Следовательно, природа и культура формируют совокупность, комплекс. Итак, Юм одновременно отказывается и от положений, приписывающих все, включая справедливость, инстинкту,39 и от положений, приписывающих все, включая смысл добродетели, политике и образованию.40 Первые, поскольку они оставляют в стороне культуру, предлагают нам ложный образ природы; последние, поскольку они оставляют в стороне природу, искажают культуру. Более того, Юм концентрирует свою критику на теории эгоизма.41 Такая теория не является даже психологией человеческой природы, поскольку в равной степени отрицает естественный феномен симпатии. Если под «эгоизмом» мы понимаем тот факт, что все тенденции преследуют собственное удовлетворение, то мы постулируем только лишь принцип тождества, А=А, формальный и пустой принцип человеческой логики, да к тому же логики неокультуренного и абстрактного человека без истории и без различия. Конкретнее, эгоизм может обозначать лишь некоторые средства, организуемые человеком для удовлетворения внутренних побуждении, или тенденций, в противоположность другим возможным средствам. Именно поэтому эгоизм остается на своем – теперь не столь уж важном – месте. И именно тут мы можем постичь смысл политической экономии Юма. Точно так же, как Юм вводит в природу измерение симпатии, он добавляет к интересу множество других, часто противоречивых, мотивов (расточительность, невежество, наследственность, обычай, привычка или «дух скупости и стяжательства, роскоши и избытка»). Предрасположенности никогда не абстрагируются от средств, организуемых нами для их удовлетворения. Ничто так далеко не отстоит от homo economicus, чем юмовский анализ. История – подлинная наука о человеческой мотивации – должна отбросить двойную ошибку абстрактной экономии и фальсифицированной природы.
В этом смысле, концепция общества, создаваемая Юмом, весьма строга. Он разворачивает перед нами критику общественного договора, учитывая, что не только утилитаристы, но и большинство правоведов противопоставляют такому договору «естественное Право», которое следовало бы вновь поднять на щит. Основная идея такова: сущность общества состоит не в законе, а в институте. Фактически, закон – это ограничение начинаний и действий, и он удерживает только негативный аспект общества. Вред договорных теорий в том, что они рисуют нам общество, чью сущность составляет закон, то есть общество, у которого нет иной цели, кроме гарантирования определенных предсуществующих естественных прав, у которого нет иного происхождения, кроме договора: позитивное выводится за пределы общественного, а общественное помещается на другой стороне – в негативном, в ограничении, в отчуждении. Вся критика, которую Юм обрушивает на природное состояние, естественные права и общественный договор, сводится к убеждению, что данную проблему нужно пересмотреть. Сам по себе закон не может быть источником обязательства, ибо законное обязательство предполагает выгоду. Общество не может гарантировать предсуществующих прав: если человек вступает в общество, то как раз потому, что он не обладает предсуществующими правами. В предлагаемой Юмом теории обязательств мы ясно видим, как выгода становится принципом противоположным договору.42 Где же проходит фундаментальное различие? Выгода пребывает на стороне института. Институт – в отличие от закона – не ограничение, а, напротив, модель действий, подлинное начинание, изобретенная система позитивных средств, позитивное изобретение косвенных средств. Такое понимание института по-настоящему переворачивает проблему: то, что вне социального, – это негативное, нехватка, потребность. Что касается социального, то оно основательным образом созидательно и изобретательно, оно – позитивно. Несомненно, мы могли бы сказать, что понятие [notion] конвенции у Юма остается чрезвычайно важным. Но не нужно путать ее с договором. Выдвижение конвенции на основе института означает только, что система средств, предоставляемая институтом, является косвенной, окольной и изобретенной системой – в культурном смысле слова.




