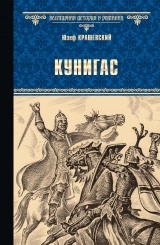
Текст книги "Кунигас"
Автор книги: Юзеф Игнаций Крашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Постучали в дверь… Бернард удивился столь поздним посетителям, однако, пошёл и отворил. На пороге, осторожно и медленно переступая, показался с костылём в руке сгорбленный и очень старый человек, одетый в орденское платье. На нём была монашеская ряса без плаща, без креста, без иных отличительных эмблем; но с первого же взгляда чувствовалось в посетителе сознание собственного достоинства, как бы заявление о правах на нечто, ему не предоставленное.
Из-под чёрной скуфейки, которую посетитель не снял при входе, серебрились белые, как снег, волосы; коротко подстриженная бородка и седые усы обрамляли красивое лицо, изрезанное глубокими рубцами.
Один из них кровавой лентой пересекал нос и щёки; другой глубоким шрамом зиял на виске. Одну из ног, полупарализованную, старец грузно влёк за собой; костлявые пальцы рук были опухлы и искривлены.
Весь он представлял развалину; но развалину красивую, вызывающую уважение. Углы рта, изборождённые морщинами, сохранили гордое и мужественное выражение. Но к гордости примешивалась горечь, дышавшая сарказмом и тоскою.
Гость был старейший из рыцарей-крестоносцев, подвизавшихся на литовской границе: Курт, граф Хохберг, родом с Рейна. Несколько десятков лет тому назад, после семейных неурядиц и бурной жизни, он выбрал себе уделом борьбу с язычниками и остался здесь на всю жизнь.
Израненный в боях, неоднократно остававшийся лежать на поле битвы в числе павших, всегда искавший смерти и чудом от неё спасавшийся, он потерял всякие земные связи и точно прирос к своему каменному гробу. Братья неоднократно хотели избрать его комтуром или казначеем; сам он, несомненно, мог претендовать на звание великого магистра; однако, подобно Бернарду, он всегда открещивался от бремени начальственного положения и почти в равной с Бернардом степени горячо интересовался только судьбами немецкой колонии меченосцев в этом крае, близко принимая к сердцу её интересы.
Но Бернард жил ещё кипучей деятельностью; Курт уже только жаловался и ворчал, да усердно выслеживал всякие измышленные новшества. Старинные заслуги заставляли братию выносить его причуды, хотя порой он подносил им слишком печальные истины.
Старый граф редко выходил из своей комнаты; а осенью или зимою, когда в особенности ныли поломанные кости, он целыми днями просиживал у камелька, закутанный мехами. Визит его к Бернарду был событием, и тот сейчас же догадался, что приход графа находится в связи с нападками великого магистра.
Курт счёл долгом, раз брата постигло огорчение, придти к нему с выражением сочувствия.
– А что! А что! – воскликнул он с порога. – Мастер Людер показывает зубы! Не терпит, чтобы кто-либо, помимо него, смел проявлять здесь инициативу! Уж придрался к вам!
Бернард равнодушно пожал плечами.
– Жаль мне вас! – продолжал шепелявить монотонно старец. – Жаль сердечно!.. И конца этому не будет! Молодые станут теперь переделывать на свой лад наш старый орденский устав, пока не обратят святые правила в посмешище.
И дрожащею рукой он делал в воздухе угрожающие жесты. Бернард, видя, с каким трудом он держится на больных ногах, пододвинул ему единственную скамейку. Курт сел со стоном.
Хозяин знал, что будет: предстояло выслушать от начала до конца всё, что накопилось в измученном сердце и наболевшей голове старого крестоносца за много лет молчания.
– Помню, – начал граф, отплёвываясь и не давая Бернарду сказать слова, – другие времена, других людей… помню исконный устав наш, такой, каким принесли его сюда из Палестины… одно только могу теперь сказать: его ведут к погибели! Бога уже нет… устав в пренебрежении… рыцари разбойничают… Разврат! Заносчивость!.. Чем дальше, тем хуже!
– Будущее представляется мне далеко не таким мрачным, – начал Бернард.
– Потому что ты сам слишком добр! – перебил Курт. – А, по-моему, дела очень плохи! Моим глазам не суждено уже увидеть… но орден падёт, как мул в пустыне, отягчённый золотом; и враны выклюют ему бока и растащат внутренности…
Бернард собирался выступить в защиту ордена, но старик не дал ему сказать слова.
– Ты мало помнишь былые наши годы, – начал он, – времена были иные, лучшие. Дух был иной; мы на самом деле были рыцарями Креста Господня и настоящими монахами… а теперь мы рыцари-разбойники! К походу мы готовились постом; шли, величая в песнях Богородицу; не надо нам было ни удобных постелей, ни золотых цепей на шее, ни вина для подкрепления в пути, ни компанов, ни толпы слуг для несения оружия и тяжестей. Все были равны… а ныне?!
– Мы и теперь не чувствуем неравенства, – молвил Бернард.
– Вот тебе на! – вставил Курт. – А откуда взялись серые плащи? У кого в восходящем поколении нет четырёх гербов, ведь должен носить серый? А такой же дворянин, как и другие! Герб гербом… а кто не богат и кому никто не ворожит из сильных, так будь он расхрабрец, а на него напялят серый! А эти серяки дерутся лучше беляков! Вот тебе на! – повторил ещё раз, ворча, старик. – Давно ли великий магистр завёл компана… а теперь уже всем бе-лоплащникам они понадобились… да не по одному, одного будет скоро мало. В давние времена только в великие праздники давали кубок подкрепительного, а теперь его разносят флягами по кельям. Прежде ни у кого не было даже собственного одеяния, а теперь ни один белый не пойдёт в гости без шейной цепи, а у иных туго набиты сундуки. Прежде нельзя было слова молвить с женщиной, а теперь?.. Хе! Теперь у начальства по городам завелись лапушки…
– Отче! – перебил Бернард с упрёком.
– Брате! – сказал старик. – Я не лгу и не осуждаю, а говорю правду, как Бог свят! И только потому, что у меня сердце разрывается, потому что любил и люблю святой орден Креста Иисусова и гнушаюсь орденом Вааловым…
Он вздохнул.
– Какой конец! – воскликнул он после нескольких минут молчания, вперив в пол угасшие зрачки. – Такой же, какой постиг храмовников! Возможно, ещё худший! Короли польстятся на наши богатства, а папа отречётся от своих заблудших сыновей.
– Но ведь, слава Богу, мы ещё не богоотступники и не идолопоклонники, как тамплиеры, – возразил Бернард.
– Формально, нет; на деле, да! – воскликнул старец. – Кто не живёт по Божьему, тот отступил от Бога.
Измученный, Курт задыхался и прижал руку к бурно колыхавшейся груди.
– Благодарю вас за сочувствие, – вставил, пользуясь перерывом, Бернард, – только я не так сильно принимаю к сердцу слова Людера. Пусть действует и думает, как хочет; я буду продолжать начатое дело.
– А я своё, – сказал старик, – смелые речи также на что-нибудь да пригодятся, раз уже не хватает сил в руках.
Он вздохнул и спросил более мягким голосом:
– Что ж значит? Гневается из-за того юнца, которого вы воспитывали по человечеству и по христианству и поступили вполне разумно! Он и этого понять не хочет!
И Курт засмеялся иронически.
– На беду он у меня расхворался, – сказал Бернард.
– Поправится! – ответил равнодушно старец. – В его возрасте болезнь не страшна. Пусть подрастёт. В нём бунтует кровь. Посадить его на коня и дать перебеситься!
– Отец-госпиталит сказал, что на коня ему уже не сесть, – грустно молвил Бернард.
– Отдайте его на службу кому-нибудь из комтуров: пусть будет ему немного повольготней, – пробурчал старик.
– Я также о том думал, – сказал Бернард, – давал такие же советы….
И не кончил… Старик явно не придавал болезни особого значения. Он, который сам перенёс столько и остался цел, не мог понять, чтобы какая-то болезнь могла угрожать жизни. Он торопился всласть наворчаться и нажаловаться на всё, что стало ему поперёк горла в замке.
Бернард слушал больше из уважения, нежели из сочувствия огорчениям старца; он дал ему высказаться, позволил выплакать горе. А когда Курт собрался уходить, потому что начал мёрзнуть в комнате Бернарда, тот взял его под руку и по коридорам проводил в собственную его келейку.
В стенах монастыря все кругом притихло; наступил час успокоения; белые рыцари ложились спать, и только челядь ещё продолжала хлопотать.
Бернард, проводив Курта, не вернулся в свою комнату, а после минутного раздумья вышел на двор и направился в нижний замок, где находился госпиталь. Здесь жил великий госпиталит и его помощники. Бернард знал, что не только в такие поздние часы, но иногда и всю ночь напролёт усердный и подвижный старичок Сильвестр не ложится отдохнуть.
Никто никогда не знал, в какое время он спит и когда просыпается. По старинным орденским правилам он ложился одетый, часто ухитрялся вздремнуть сидя, а когда прислуга думала, что он заснул, Сильвестр внезапно появлялся со светильником в руке у постелей больных или в таких местах, где должны были дежурить при них служители.
Избрание Сильвестра на единственную в ордене выборную должность, на которой удостоенные доверия избранники имели право никому не отдавать отчёта ни в своих действиях, ни в своих расходах, было в высшей степени удачно. Выбор, павший на него, был так справедлив, так единогласен, что даже те из его собратий, которые завидовали свободе действий брата-госпиталита, не смели осуждать в чём-либо Сильвестра.
Он был воплощённым христианским милосердием. Вид людских страданий – смягчал его сердце и делал его безгранично чутким и податливым, а так как в болезнях люди бывают более сами собой, чем в иное время, то Сильвестр лучше знал своих пациентов, нежели вся остальная братия. И, зная их, не негодовал, а глубоко сожалел о них.
Хотя Бернард во многом был не похож на брата-госпиталита, однако уважал его, как и все прочие.
Было истинным чудом, что он застал старичка в его келейке, пахнувшей какими-то восточными бальзамами и наполненной множеством различной утвари, одежд, полотен, склянок и горшочков.
Сильвестр отдыхал, но беззвучные шаги Бернарда всё же разбудили его, и он вскочил. Привыкший спать урывками, он всегда сразу приходил в себя: проводил рукою по лицу, и признаки дремоты исчезали.
– Надоедаю вам? Не правда ли? – сказал Бернард, входя. – Простите! Меня гнетёт тревога о том мальце.
Госпиталит развёл руками, давая понять, что не может сообщить ничего утешительного.
– Но ему не хуже? – спросил Бернард.
– И не лучше, – шепнул старик.
Гость пытливо смотрел на озабоченное лицо хозяина.
– Нет, не лучше! – повторил Сильвестр. – Вчера я не был ещё вполне уверен в происхождении болезни: от крови ли она, или от духа? Ибо источники болезней двоякие. Сегодня же я, кажется, не ошибусь, если скажу, что причиною болезни тоска по чём-то…
– Но по чём? – пытливо подхватил Бернард.
– Трудно разгадать, – ответил монах, – юность, как вы знаете, полна неразрешимых загадок. Во Франции говорят, что когда молодые вина бродят, старые им вторят в бочках, а когда лозы зацветают, сок, выжатый из ягод, бурлит с тоски в лоханях.
Он сразу замолчал.
– Да говорите же, говорите! – стал просить Бернард, живо заинтересованный неоконченною параллелью.
– Вы же знаете, кто он такой, – зашептал Сильвестр. – Кто знает, не закипает ли в нём кровь литвина, когда родному гнезду грозит беда?
– Но ведь он ничего о себе не знает! – воскликнул рыцарь.
– А если, ничего не зная, он всё же чувствует в душе, кто он такой?
– Как же это может быть?
– А разве кто-либо из нас знает, что может и чего не может быть? – спокойно возразил Сильвестр. – Sunt arcana ierum[1]1
Многое для нас сокровенно.
[Закрыть], – сказал он, как бы про себя.
Бернард задумался.
– Сегодня он был не так спокоен и молчалив, как вчера, когда мы были у него вечером, – продолжал госпиталит, – он метался в тесной каморке, как в клетке; на лице был румянец, в глазах лихорадочный блеск. Издали мне послышалось, будто он что-то напевал, а когда я спросил о песне, он зарёкся.
Брови Бернарда насупились.
– Ксёндза бы ему да молитву, – сказал он, – душа у него в смятении. Пошлём к нему отца Антония.
Госпиталит не возражал.
Разговор прекратился, потому что в мыслях они были не согласны друг с другом. Бернард вернулся к себе в келью, не выразив желания повидать юного питомца.
III
У подножия холма тихо струится старый Неман. Он веками промыл себе глубокое русло и спрятался в нём. Пусть весна несёт с собою половодье, пусть дожди мечут сверху на откосы потоки воды, он, старик, никогда не оставит своё ложе, не распалится гневом на прибрежные луга, не совершит набег на соседние нивы. Только на поверхности его гуляют курчавые волны, водовороты да белая пена, которая, как танцовщица, вертится на одном месте и разлетается в пыль о камни. Изредка вода подымается, будто чему-то грозит… но скоро, покорная року, возвращается вспять, спешно катя свои волны к морю по проторённому пути.
Молодые реки шалят, он – никогда: старый батюшка-Неман всегда добр, как родной отец.
Здесь он со всех сторон опоясал песчаную косу и пригорок, приник к ним, точно преисполнен любви и желания быть им защитой. Оно и понятно: на пригорке стоит старинное литовское городище, едва ли не такое же древнее, как сам батюшка-Неман, оберегающий его от напасти. Только теперь, когда немцы стали глубоко внедряться в чужие земли, малое городище обратилось в сильную крепость. Литвины видели, как строились немцы, и кое-чему от них научились. Прежде здесь не нуждались в таких окопах и стенах: достаточен был вал да частокол. Ныне от закованных в железо врагов не спасают и каменные кладки… Впрочем, кому придёт на ум лепить и ставить мурованные стены, когда Господь Бог вырастил твёрдые и толстые, как скалы, дерева?
Страшно было даже издали взглянуть на Пиллены. Казалось, что только исполины могли нагромоздить тяжёлые колоды, в обхват человека, связанные в лапу, точно сращённые одна с другой. Никто раньше не покушался на Литве строить стены такой вышины. Если бы поставить друг на дружку десять человек, то и тогда они бы не дотянулись доверху. И сколько бы ни ходить, нигде бы не найти ни ворот, ни окон, ни малейшей щели. Всё было точно вытесано из одного целого куска.
Только посреди огромного сруба высился громадный деревянный столб, с верхушки которого, вглядевшись, можно было видеть на многие мили вдаль луга, поля, леса и Неман; как он величаво изгибается, течёт, даёт излучины, чтобы везде, где нужно, защитить родную землю, напоить народ, принести на волнах чёлн, приволочь водою камень.
Замок стоял на горке, а горка образовала остров, соединённый с твёрдою землёй только узенькою перемычкой. Да и самую косу Неман иной раз возьмёт да и зальёт водой, точно отовсюду опояшет своё детище руками.
Здесь же, под защитой замка, как грибы, толпятся на земле избушки, хаты, шалаши, землянки – целый мирный городок, пустеющий перед войной, так как жители его спасаются в Пиллены. То там, то здесь растёт среди солнца старая ракита или уцелевшая от бора осиротевшая сосна. Над водой сплелись ветвями густые дебри лозняка, а среди них то здесь, то там виднеются ракиты, точно стерегущие расшалившуюся детвору.
Старая ракита стоит, как ветеран, помнящий страшные побоища, оставившие на ней свои следы. Ствол, нередко смолоду искривлённый бурями, разбитый молнией, весь в трещинах от засухи, дуплистый, изъеденный червями, полугнилой, и ветер пронизывает его насквозь. А корни, как судорожно скрюченные пальцы, цепляются за землю, а на пальцах, точно раздувшиеся жилы, наросла узловатая кора…
Голова утрачена… её давно сорвала буря; наросли только юные побеги, прикрывшие зарубцевавшиеся раны. С одной стороны торчит оголённая от листвы ветка, точно рука, протянутая за подаянием; с другой – сук, как обнажённая от мяса кость. Вокруг пня молодое поколение внуков. И ветви, и сухая поросль, и валежник, и дуплистые стволы – все сплелось в чудовищно-дикую картину. Не то умирает, не то возрождается к новой жизни; не то валится, не то стоит, не то сохнет, не то живёт… а по ночам пугает и животных и людей. А здесь, в Пилленах, со стороны земли таких ракит не одна и не две, а целый ряд, как сторожевое войско! Издали кажется, будто великаны вышли на защиту городища… А те, которых ветер положил в лоск, так что расселись желтоватые их внутренности, прильнули к самой земле и дают молодую поросль…
Было утро, не то осеннее, не то зимнее; серое небо; резкий ветер; кругом все мертво; тишина, и ни живой души. Даже в хатах и клетях не было видно жизни.
Одна из верб, стоявшая совсем на отлёте, прапрабабка остальных, со стволом, разодранным пополам в длину, вся раскоряченная, казалось, проявляла больше жизни, чем остальные. У её торчавших поверх земли перепутанных корней как будто развевалось что-то, а за этим лоскутом или завесой не то примостился зверь, не то приютился человек.
В посёлке из одной из землянок выглянула женщина, заметила существо, копошившееся у ствола, посмотрела, покачала головой и опять скрылась.
Тогда из той же двери вышел человек, одетый в вывороченный полушубок, и стал внимательно присматриваться к трепыхавшемуся на ветре лоскуту. Потом взял стоявшую у притолоки палку с кремнёвым наконечником и осторожно, тихим шагом, пошёл к раките.
Чем ближе он подходил, тем яснее видел сидевшего в дупле маленького, толстого человечка, одетого в простую сермягу, в ушастой шапке, с торбой на спине и узелками у пояса. Из-под надвинутого на лоб козырька виднелось круглое, загорелое, старое, некрасивое лицо. Почти вровень с головой торчали сутуловатые плечи, а ниже какая-то толстая, бесформенная колода с парой человеческих рук… и ноги, опутанные лохмотьями и кусками кожи.
На земле лежала толстая дубинка, а возле неё серый мешок.
Отдыхавший под вербой всё время бросал вокруг пытливые взгляды. Он видел и женщину, которая первая его заметила, и подходившего теперь к нему мужчину. Но отнюдь не испугался. Он ютился и жался к вербе, точно к матери. Весь свернулся в клубок, засунул пальцы за пазуху, втянул голову между плеч и равнодушно глядел на подходившего.
Вслед за хозяином вылез из землянки и уселся на пороге рыжеватый пёс с взъерошенною шерстью. Собака постояла, потянула воздух, залаяла и заворчала. Потом, после минутного колебания, пошла вслед за хозяином, все ускоряя шаг, как будто торопясь ему на помощь.
Чем дальше, тем больше ерошилась и становилась дыбом её шерсть; глаза выпятились, губы поднялись, обнажив оскал зубов.
Хозяин оглянулся на собаку и крепче стиснул палку, так как у псов хороший нюх: сразу чувствуют врага.
Только враг ли это? Видом он был литвин, и хотя приближавшийся хозяин хатки явно питал недружелюбные намерения, пришлец не принимал мер к самозащите: не делал никаких попыток ни к нападению, ни к обороне.
В нескольких шагах от вербы и хозяин и пёс остановились, хозяин опёрся о палку, собака села, подняла морду и завыла.
– Дурной знак!
Сидевший на земле пришлец зашевелился, вытащил руки из-за пазухи, вытянул ноги и встал. Он оказался маленьким, толстым, неуклюжим, сильным, но совсем не страшным человеком.
– Ты кто такой? Что тебе здесь надо? – спросил пилленский житель.
Странник сначала добродушно рассмеялся.
– Не видишь что ли? Чего спрашивать? – отозвался он весёлым голосом. – Я бедный свальгон; туго нам пришлось: даже таким, как я, приходится таскаться по миру, нищенствовать да побираться. Много забрали у нас немцы и народу, и земли… Вуршайтам и свальгонам[2]2
Свальгоны и вуршайты – непосвященные помощники жреческого класса вейдалотов; нищенствовавшие паразиты, занимавшиеся ворожбой, гаданьем и знахарством.
[Закрыть] теперь смерть: хоть с голоду помирай, а делать нечего. Если где и уцелел священный дуб, так наших вокруг него, что муравьёв; сколько ни нанесут жертвенных даяний, все съедим и того мало… Да разразит Перкун наших гонителей!
Собака, прислушиваясь к голосу свальгона, не переставала выть, так что поселянин, обернувшись к ней, должен был пригрозить ей и заставить замолчать. Сам же он не знал, что сказать свальгону.
Правда, и в прежние времена достаточно бродило по свету таких ворожеев, гусляров и наёмных жрецов, перекочевывавших из усадьбы в усадьбу, из посёлка в посёлок. Их встречали гостеприимно, так как всегда находилось то то, то другое, что надо было либо освятить, либо очистить, либо разрешить, либо посоветовать. Теперь же такие побродяги очень уж размножились, так как много священных дубов и урочищ было уничтожено; служители их рассеялись по всей земле и так зачастили к поселянам, что посещениям их не так уж очень радовались.
– А ты откуда? – спросил хлоп, надумавшись.
– Лучше спроси, где я не бывал? – ответил свальгон. – Хожу я больше здесь, по Неману, так как тут родился; бывал и в Пилленах, но давно… Сколько свадеб вам сыграл, сколько песен на них понапевал!
– Хм! Свальгон! – проворчал поселянин. – Свальгон, говорите, значит свальгон вы и есть… только почему ты не одет как свальгон, нет ни пояса, ни…
– Чему ж тут удивляться? – живо подхватил свальгон, осторожно подходя к хозяину. – Ограбили меня немцы на границе и повесили бы, кабы я не дал себя крестить. Бросили в воду, и я спасся.
– Вырвался из немецких рук! – изумился пилленец. – Это диво! Они никому не дают пощады, ни молодым, ни старым, и хотят всех нас перебить. А тут ещё свальгон…
И туземец недоверчиво покачал головой.
– Я им не обязан жизнью, – объяснил пришлец, – не уцелеть бы мне, если бы не всемогущий Перкун. Когда они бросили меня в воду, раздался какой-то треск… немцы испугались, не засада ли… мигом разбежались, а я выплыл.
Собака уже не выла, а только ворчала.
Свальгон, подняв дубинку, мешок и узелки, лежавшие у ног, подошёл к поселянину, вполне уверенный в гостеприимстве, о котором даже не просил.
Оба пошли к хате.
– Присяду обогреться, – сказал свальгон, – когда вы подошли, я стучал от холода зубами. Раненько собирается зима. Хотите, сумею спеть любую песню и погадать потрафлю: на пиве, на воде, на воске, как кто хочет. Болезни заговариваю… скотинке помогаю…
Хлоп не отвечал, но и не гнал навязчивого гостя. Они потихоньку приближались к хатам и мазанкам, из которых выглядывали и выходили люди, выбегали собаки, а за ними босые и полуголые ребята.
Околица, до того безлюдная, вдруг оживилась. Всем было любопытно поглазеть на чужого человека, хотя бы даже на такого же литвина, как они сами.
Рядом была граница, за которой хозяйничали и грозили немцы; всякому хотелось знать, не принёс ли бродяга известий о готовившемся нападении, захвате или хотя бы зарубежном настроении. Люди, шатающиеся век по свету, обыкновенно много знают.
Те, которые заметили, что странник направляется к мазанке Гайлиса, потянулись туда же всей громадой. Не такие теперь были на Литве счастливые времена, как в старину!
Правда, всегда бывали у Литвы враги; но они не забирались в глубь страны. Там, за пущами, за трясинами, были ещё благословенные края, не видавшие вражеской ноги. Здесь с незапамятных времён осели люди как в гнезде, почти не зная о зарубежном крае. Тут росли священные дубы и божьи рощи; текли живые и лечебные источники; царил мир, и раздавались над лугами и лесами выкрики литовских женщин и бубенчики у подола литовских девушек, мешавшие им схорониться. Теперь же много изменилось, с тех пор как крестоносцы осели железным станом над границей и стали воевать, опустошать и всячески тревожить землю братьев пруссов, и горных, и низинных.
В самых непроходимых пущах нельзя было от них укрыться; священные урочища подверглись осквернению: выжгли Ромнове, вырубили Баублисы, избивали и изгоняли население. Всегда приходилось быть на страже, держать ухо востро, при малейшем подозрительном шуме уходить либо стекаться под защиту старых городищ.
Потому пограничные округи постепенно пустели; земледельческие общины переселялись за болота и леса, а кунигасы сидели только в городах, вооружённые с ног до головы, вечно начеку, готовые до последней капли крови оборонять могилы предков и наследственные земли.
Все понемногу изменилось под натиском врага; свобода, исстари царившая в лесах, пала жертвой первая, так как война властно ставила вождей и требовала беспрекословного повиновения от подвластных… Тоскливая завеса опустилась на страну…
Те, которые ещё недавно ничего не знали и не хотели знать о соседях и о чужбине, настораживались при малейшем шорохе, долетавшем с запада. Появление ободранного свальгона, которого никто не знал в посёлке, возбудило любопытство: ведь и от него можно было узнать новинки.
Как только свальгон вошёл с Гайлисом в его убогую лачугу, наполовину вросшую в землю, с очагом в середине, на котором пылал на камнях неугасимый огонь на домовом жертвеннике, а вокруг лежали, вместо лавок, принесённые с поля глыбы валунов, так вслед за хозяином и гостем стали ломиться в двери ближайшие соседи. Внутренность лачуги была такая же печальная, как её внешность, видом напоминавшая большую кротовину.
Дым, с трудом выбивавшийся через небольшое отверстие над очагом, стлался сине-серым пологом между крышей и стенами.
То же помещение служило и людям и домашнему скоту, как бы составлявшему часть семьи. В глубине стояла корова с телёнком, пара исхудалых волов и две маленькие, приземистые, толстенькие лошадки, уже одетые зимней, лохматой шерстью. За ними, по соседству, лежали чёрные и коричневые овцы, а под ногами доверчиво прогуливались куры и гуси. Все население явно свыклось друг с другом: и люди, и животные. Они понимали друг друга, сторонились, а в суровые зимы грелись, сбившись в кучу. Босые и полуголые дети сосали иной раз ярок наперебой с ягнятами. И волы и дети одинаково повиновались голосу хозяина и хозяйки. А собака одинаково сторожила всех, оберегая младенцев от зверей, а зверей от издевательства подростков.
По одну сторону избы, на стенах, тщательно проконопаченных мхом, висели всякие хозяйственные орудия и приборы; другие были расставлены на полках; а то, что подороже, было спрятано в углу, в осыпях зерна и кадях. Под крышей сохло всевозможное зелье: от болезней, худобы, чар и дурного глаза. Небольшой стол и скамьи, вместо которых, большей частью, употреблялись камни, были грубо вытесаны из брёвен. За маленькой полуоткрытой дверцей виднелась низкая кладовка, а в ней орала, разобранные телеги и колёса.
Свальгон уселся поближе к огню на камне; отпустив наушники, завязанные узлом под подбородком, и расставив руки, грел их перед очагом, протягивая над слабо горевшим пламенем.
Заметив это, маленькая девочка, с любопытством глядевшая на странника, подбросила на очаг несколько сухих ветвей, чтобы согреть пришельца.
Гайлис пошёл в далёкий угол хижины зачерпнуть пива, которое велел дочурке подогреть. Все молчали, не решаясь заговорить с озябшим странником, смотревшим осовелыми глазами на огонь, в глубокой думе, как будто на душе его лежала тяжесть.
Когда пиво слегка согрелось, Гайлис подал его гостю и спросил:
– А не слыхать ли что о проклятых немцах?
– А разве бывает так, чтобы о них ничего не было слышно? – проворчал свальгон. – Разве они могут хоть день просидеть спокойно? У них, как в улье: без устали жужжат да суетятся… Мало ли что болтают люди, говорят: придёт зима, замёрзнут топи, и немцы тут как тут…
Гайлис вздохнул.
– О, если б не наш замок, да не княгиня, которая должна и хочет защищать его, – сказал он, – и нас при себе держит, то мы давным-давно бы разбрелись по пуще.
Свальгон прислушался.
– Э? – спросил он. – Значит, вы без кунигаса?
– И есть, и нет его… – промолвил Гайлис, – старик-отец кунигасовой вдовы давно лежит и не встаёт… Муж помер от ран, полученных в сражении; молодого сына схватили и убили немцы; она рядит и судит здесь одна, под стать и мужу и вождю… Разве без неё кто бы удержался на границе? Сумел бы выстроить такую грозную твердыню?
– Диво-баба! – буркнул свальгон.
– Не таковская была она при жизни мужа, – прибавил другой поселянин, – только когда немцы отняли у неё единственного ребёнка, малолетку, да убили мужа, месть сделала её такой… Люди помнят, как она по целым дням певала да рядилась, да сынка цветами убирала, да на руках носила… А как не стало у неё хозяина да мужа, да ребёнка… так она и сделалась как будто и не женщина, а страшная-престрашная, точно богиня с неба…
– Чудеса над чудесами! – перебил свальгон. – Давненько я об этом слышал; однако, хоть и говорят, будто крестоносцы отняли ребёнка, а только не слыхать было, чтобы они его убили!.. Много, бают, таких мальцов воспитывается у них в замках; а потом их направляют проливать родную кровь…
Гайлис недоверчиво покачал головой.
– Пустяки болтают, – сказал он, – разве мы не знаем, как они расправляются в походах? Никому не дают пощады!.. Молоденьких девчат и тех подержат несколько дней в лагере, а потом зарубят… детям разбивают головы о печи… стариков насмерть давят лошадьми… даже креститься не дают и издеваются над теми, которые просят помилования…
– Тех, кто постарше, правда: сам видел, как они с ними расправляются, – сказал свальгон, – но малюток, мальчиков они порой берут живыми, и хотя в хлеву, а всё-таки выращивают…
– Наша кунигасыня, Реда, – подхватил один из стоявших у дверей, – знала бы, что сын жив!.. Она мстит за его смерть…
Свальгон тряхнул головой.
– Матери должны бы лучше знать судьбу детей, а если и не знать, то чувствовать… А я всё-таки скажу, что слышал, и не раз, как люди говорили, будто её малыша оставили в живых… Один у них старик сжалился над младенцем, взял его к себе и сделал немцем…
Гайлис вздрогнул и воздел руки к небу.
– О, Перкун, всемогущий боже! – воскликнул он с негодованием. – Разрази их молнией и громом!.. Родного сына готовы они натравить на мать… а грудь сына подставить под меч матери!! Да разверзнется под ними мать сыра земля!!
Свальгон весь затрясся… рот его искривился… он замолк.
У порога, среди собравшейся толпы, стоял всё время молчавший посетитель, вокруг которого остальные немного расступились и выказывали знаки уважения. Одеждою он мало разнился от прочих. На нём был полушубок, кожаный пояс, суконные штаны и тёплые на меху кожаные валенки; на голове остроконечный шлык, обрамленный лисьим мехом; в руках железная секира… Немолодой, с круглым лицом и выдающимися скулами, выцветшими, но зоркими глазами, он одновременно казался и воином и княжеским дворовым человеком.
Он внимательно прислушивался к рассказу свальгона о сыне вдовой Реды, а когда тот кончил и все замолкли, он продвинулся от порога поближе к середине хаты и уселся на камень рядом с пришельцем.
Оба пристально взглянули друг другу в глаза. Свальгон первый поздоровался… потом притворился равнодушным и уставился глазами в огонь… Однако временами искоса с любопытством разглядывал соседа…
– А давно ль ты слышал эту сказку о нашем мальце? – спросил сосед.
– О, не сегодня и не вчера, – бесстрастно сказал свальгон, – а удивительней всего, что я слышал то же из разных мест и много лет подряд…
– Диво!! – буркнул собеседник. Потом помолчал.
– Хм… – прибавил он, – что я вам скажу: наша Реда и её старик-отец, калека Вальгутис, очень любят людей, знающих старинные сказки да песни… Надо бы вам заглянуть на княжий двор… там и напоят, и накормят лучше, чем здесь у бедняков… и угостят, и подарками осыпят… Реда таровата… Пусть бы рассказали вы ей ещё раз всё, что знаете…








