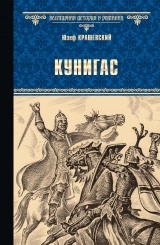
Текст книги "Кунигас"
Автор книги: Юзеф Игнаций Крашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Раздались испуганные крики, потом в толпе произошло движение, и придворные, схватив безумную на руки, поспешно вынесли её из горницы. Некоторое время ещё слышались её жалобные крики, сначала громкие и напряжённые, потом все затихающие по мере удаления и, наконец, превратившиеся в глухой стон, затерявшийся где-то в глубине замка.
Маслав, с вытаращенными от испуга глазами, стараясь придать своему лицу подобие улыбки, опустился на своё место.
На вопрос кунигаса он холодно ответил, что это была бедная старая помешанная, и, налив себе кубок, выпил его залпом, но, как он ни старался принять равнодушный вид, он не мог удержать охватившей его дрожи.
Часть гусляров вышла за дверь, и после этого шумного приключения вдруг настала странная тишина; князь сделал знак, чтобы подали мёд, но и это не помогло, – так как все были испуганы и смущены появлением несчастной женщины. Скоро все умолкло, а некоторые из тех, которые особенно много пили, захрапели, положив головы на стол. Наконец, и сам Маслав, приказав проводить своих гостей на отдых в предназначенные для них горницы, двинулся неверным шагом из столовой, предшествуемый коморниками, которым он приказал нести перед собой меч. Начали расходиться и остальные, за исключением уснувших за столом.
Вшебор, не имевший понятия о своих дальнейших обязанностях, остался почти в одиночестве. Из памяти его не мог изгладиться образ странной бабы, испортившей своим появлением весь пир.
Откуда она могла взяться здесь, при дворе? Кто она была и чего хотела? Догадаться самому было невозможно, хотя из её криков и отрывочных фраз можно было понять, что она пришла с какой-то просьбой к Маславу. Князь тоже, видимо, был более напуган её видом, чем рассержен, из уст его не вырвалось ни одного проклятья, он, – такой смелый и суровый до жестокости, – не имел на этот раз силы вымолвить слово!
Вшебор, расхаживая взад и вперёд по горнице, раздумывал об этом, когда вошёл Губа.
Лица придворных имели, после этого приключения, то же самое выражение, которое Вшебор подметил у Маслава. Губа был угрюм и озабочен.
– Что это была за женщина? – спросил его Вшебор.
Губа взглянул на него и пожал плечами.
– Да старая баба какая-то, я не знаю, – отвечал он, но видно было, что он знал больше, чем хотел сказать. И чтобы избежать дальнейших расспросов, тотчас же удалился.
Вбежал мальчик, посланный за Вшебором, которого князь приказал привести к себе.
Горница князя, куда ввели Вшебора, была убрана по образцу Мешкова двора, – с видимым желанием произвести впечатление богатства и пышности. Маслав нагромоздил в ней огромное количество всякой посуды, ковров и материй, как бы умышленно выставляя их напоказ.
Вшебор, войдя, застал его лежащим на кровати; увидев его, князь быстро поднялся и сел.
Лицо его странно изменилось. Румянец сошёл с него, губы посинели, глаза сверкали диким огнём, морщины сдержанного гнева избороздили щёки и лоб. Он всматривался в лицо Вшебора, как бы желая узнать по его выражению, с чем он пришёл.
– Видели, – заговорил он, – как мне испортили праздник! Эта глупая челядь! У дверей не было стражи!
Вшебор молчал.
– Сумасшедшая старая ведьма! – продолжал Маслав. – Только из жалости приютил её. На неё иногда что-то находит, духи её мучают, и тогда она сама не знает, что делает и что плетёт.
Он встал и, опустив голову, заходил по горнице.
– Я уж давно приказал держать её взаперти!
Он, видимо, был разгневан и с трудом сдерживал себя, потом, как бы сделав над собой усилие, подошёл к нему с просветлённым лицом, на котором ещё ясно видны были следы плохо скрытого волнения.
– Вот ты видишь, шлют ко мне послов и просят вступить с ними в союз те самые, с которыми не мог справиться Болеслав! Стоит им кликнуть клич, и поднимутся тысячи мне на помощь, а я выгоню немцев.
Вдруг голос его дрогнул, словно он что-то вспомнил, и он прибавил:
– Если захочу срубить кому-нибудь голову или повесить, из-за стола прямо отдам палачу, виновных могу строго наказать. Что захочу, то могу. Вшебор все молчал и слушал. Тогда Маслав спросил настойчиво:
– Ну, что же вы скажете?
– Присматриваюсь и дивлюсь вашей силе, – отозвался Долива. – Всюду виден у вас достаток. Могу вас поздравить.
– Может быть, ты думаешь, – живо спросил Маслав, – что я не имел на это права? Ты слышал басни, которые рассказывали при дворе? Всё это одна ложь и клевета, во мне течёт кровь старых мазурских князей. Как у Лешков, так и у нас Пясты украли наследство, а мы теперь отберём его у них. Моя кровь стоит Пястовской.
Проговорив это, он опустился на сиденье, покрытое шкурой, перед огнём и в задумчивости облокотился на руку.
– Пясты не вернутся уж никогда, – заговорил он, как будто сам с собой. – Казимир не захочет подставлять свой лоб, и никто ему не поможет… А с чехами…
– Что же вы думаете начать с чехами? – спросил Вшебор, вынужденный так или иначе поддерживать разговор.
– Против чехов направлю пруссаков и мазуров, а в конце концов поделюсь с ними.
– Бржетислав не захочет делиться.
– Захочет! – возразил Маслав. – Я дам ему Силезию, пусть уж возьмёт и Краков, и вместе пойдём на императора.
Всё это, высказанное отрывочными фразами, походило скорее на горячечные фантазии, чем было ответом на вопрос: казалось, он себе самому бросал эти мысли в ответ на рождавшиеся в нём сомнения, надеясь отогнать их.
– Я объявлю себя королём, – продолжал он. – Рыкса увезла с собою все короны, но я в тех и не нуждаюсь, пусть император хранит их у себя. Мне выкуют новую, – ещё дороже и красивее. И не ксёндз наденет мне её на голову, а я сам! Я сам!
Он засмеялся, блеснув глазами, но вдруг оглянулся тревожно и нахмурился. Откуда-то издалека долетел заглушённый крик.
Маслав вздрогнул и прислушался: всё было тихо; он вздохнул свободнее. Мысль его продолжала свою работу.
– Если бы даже чехи и немцы оттягали у меня все земли за Вислой, здесь я останусь паном. Отсюда меня никто не прогонит, я здесь – дома. Тут и пруссаки, которые идёт со мною рука об руку. На собственных кучах мы сильны.
– Почему же бы мне не жениться на девке прусского кунигаса? Разве он отказал бы мне? Даст за ней в придачу землю, все, как следует. Мы будем везде поддерживать старую веру! Говорят: крещённая Русь, крещённая Польша, крещённая Чехия! Ложь всё это! Окрестили их под страхом и угрозой. Народ будет с нами, потому что мы отдадим им старых богов. Разрушим костёлы, а монахов прогоним.
Вдали послышался слабый крик, – и все снова стихло.
Маслав побледнел, оглянулся осоловевшими глазами и умолк.
Вшебор тоже не посмел заговорить или спросить его.
Вдруг князь обратился к нему.
– Ведь ты – христианин? – дрожащим голосом спросил он.
– Да, я христианин, – сказал Долива, – и вам это хорошо известно, потому что и вы вместе со мною ходили в костёл и к исповеди.
– Правда, – прибавил он, – на свете ещё много не крещённых людей, да и таких, которые, окрестившись, всё ещё тайно держатся старой веры – тоже, должно быть, не мало, но и христиан ведь множество, а там, где надо постоять за веру и крест, – все пойдут вместе.
– И много у них хорошего оружия, – вырвалось у задумавшегося Маслава. – У нас рук-то хватит, но не хватит мечей.
Он потёр лоб, как бы стараясь стереть с него назойливую мысль и, понурив голову, сказал:
– Они умеют делать чудеса!
– Христиане? – спросил Вшебор.
– Нет, их чёрные монахи, – таинственно шептал Маслав. – Как они это делают? Никто не знает. Никого не щадили, всех приказано было убивать, и мало кто из них уцелел. Что это, колдовство?
Маслав содрогнулся, словно охваченный внутренней тревогой.
– Всё это россказни глупых людей, – шепнул он, прерывая себя самого. – Басни, для запугивания людей, – ложь и клевета.
Он взглянул на Вшебора и, подойдя к нему, взялся за конец золотой цепи, спускавшейся к нему на грудь.
– Ты поступай, как знаешь, только будь мне верен, – сказал он, – а своим христианством не хвались. Мы здесь не хотим знать этой веры! А завтра, – прибавил он, – выбери мне людей, молодец к молодцу и вели выдать им всем одинаковую одежду, чтобы у меня была, как пристало князю, своя дружина. Ты будешь начальником её и охмистром при моём дворе. Понял? Вшебор молча поклонился и вышел.
Глава 5
Очутившись один в сенях, Долива горько усмехнулся сам над собой. Вот чего он дожидался! Быть слугой и охмистром холопского сына, которого он помнил мальчишкой для услуг при княжеском дворе. Всё, что он видел здесь, вызывало в нём гнев и возмещение, и он не рассчитывал остаться здесь надолго, но всё же надо было ко всему присмотреться, чтобы разузнать, в каком положении было дело Маслава. Ему это было тяжело, он принуждён был притворяться, но, раз попав в это осиное гнездо, надо уж было держаться смирно. Он ещё не знал даже, к кому обратиться и куда направиться, когда Собек, поджидавший его, молча поклонился ему.
Почти весь двор уже спал, только немногие бродили ещё по тёмным углам и переходам, через которые должны были пройти, чтобы попасть во второй двор. Вышли и Собек с Вшебором, и здесь Собек, как будто почувствовал себя в безопасности от подслушивания, обратился к Доливе и сказал ему:
– Вам отвели плохую хату, но что делать? Весь двор полон пруссаков и поморян… Я просил для вас отдельную, чтобы вы могли выспаться, но где там! Едва нашлась какая-то каморка. Хотели дать клетушку, где даже нельзя было развести огня.
Говоря это, он провёл Вшебора к строению, в котором с одной стороны слышался женский голос, а с другой – несколько пруссаков охраняли покои своих панов. Из узких сеней Собек провёл Вшебора в маленькую горницу, в которой Собек уже развёл огонь. Узкая, грязная, пахнувшая смолой комнатка эта, видимо, только что была освобождена для княжеского охмистра. В ней была только одна лавка, в углу лежала охапка сена, покрытая шкурой, а по стенам было вбито множество деревянных гвоздей, очевидно, оставшихся от прежних постояльцев, которые развешивали на них одежду.
Собек, проводив Вшебора, имел явное намерение кое-что рассказать ему и спросить самому, но он удержался и даже приложил палец к губам в знак молчания. В хате были ещё другие жильцы, и говорить было не безопасно. Только по выражению лица старого слуги Вшебор мог догадаться, что ему не особенно нравился этот двор. Собек сказал ему, что идёт к лошадям, а Вшебор, задвинув деревянный засов на ночь, в задумчивости уселся перед огнём.
О многом надо было ему подумать.
На всём, что он здесь видел, лежала печать дикой, но несомненной силы, с которой по численности её не могло сравниться пястовское рыцарство, хотя бы оно и противопоставило ей смелость и мужество.
В ушах у него звучали ещё крики и возгласы пирующих, песни гусляров и жалобный плач сумасшедшей старухи, нарушившей веселье, он вспомнил всё, что говорил ему Маслав, и сердце его сжалось печалью и тревогой. Неужели и им суждено было покориться звериной силе этого человека, отрёкшегося от веры и стремившегося обратить народ в прежнее варварское состояние? Вспомнилось ему и Ольшовское городище с горсткою укрывшихся в нём людей, которых ждала верная гибель, потому что не было средств к спасению их.
Так раздумывал он, когда вдруг рядом с ним послышался чей-то жалобный голос. Вшебор замер на месте, боясь пошевелиться, и стал прислушиваться. За тонкой, деревянной перегородкой шёл какой-то отрывочный разговор. Вшебор различил женский голос. Он потихоньку подвинулся ближе к перегородке и приложил ухо. Теперь он ясно слышал женский жалобный голос и другой, всё время прерывающий и заглушавший его.
Подойдя вплотную к стене, Вшебор только теперь заметил, что в ней было отверстие в форме окна, соединявшее между собою обе половины хаты. Отверстие это было закрыто деревянным ставнем. Долива попробовал осторожно отодвинуть едва державшийся, ссохшийся ставень, и он легко подался его усилиям. Таким образом, в образовавшуюся широкую щель он уже мог заглянуть в соседнюю горницу и рассмотреть, что там делалось.
Сначала, пока глаз не привык к полумраку, царствовавшему в обширной горнице, освещённой только слабым отблеском догоравшего пламени, он не различал ничего. Но, всмотревшись внимательнее, он заметил две женские фигуры, из которых одна сидела на земле, а другая стояла над ней. В первой из них Вшебор узнал ту старую помешанную, которая ворвалась во время пира; теперь она сидела на земле, на соломе, успокоенная, изменившаяся, обхватив руками колени. Дрожащий свет пламени падал на её сухое, морщинистое лицо. Вшебору показалось, что на глазах её блестели слёзы.
В грубой рубахе, едва прикрывавшей её тело, босая, полуобнажённая, она сидела, устремив взгляд в огонь, и покачивалась всем туловищем, как плачея, причитающая над покойником.
Другая женщина, стоявшая над ней, молодая, стройная, красивая и нарядно одетая, смотрела на старуху с выражением скуки и равнодушия. Не было в её лице ни сострадания, ни участия, а только нетерпение и досада.
– Послушай-ка ты, тётка Выгоньева, – говорила она, наклонившись над ней, – ты своим безумием доиграешься до того, что тебя бросят в яму и заморят голодом. О чём ты думаешь? Что ты забрала себе в голову?
Старуха даже головы не повернула к говорившей, она, по-прежнему покачиваясь, смотрела в огонь и, казалось, не слышала обращённых к ней слов.
– Ты должна поблагодарить меня за то, что тебе не дали сегодня ста розг. Князь был в бешенстве.
При имени князя старуха слегка повернула голову.
– Что он говорил? – спросила она.
– Сто розог старой ведьме! – отвечала молодая женщина, поправляя волосы на голове. – Сто розог дать сумасшедшей бабе!
– Это он так говорил? Он? – с расстановкой спросила старуха. – И справедливо, справедливо! Почему нет у бабы разума? – язвительно пробормотала она.
– Ага, видите, вот вы и сами говорите! – подхватила молодая.
– И не будет у неё разуму, хотя бы дали ей сто и даже двести розог.
– Что это вы выдумываете, – начала другая, – зачем заступаете дорогу князю? Если бы он был такой злой, как другие, да он давно велел бы вас повесить! – Ну, что-же! – сказала старуха. – Пусть прикажет, и пусть вешают.
Она опустила голову и после небольшого молчания затянула охрипшим голосом:
Люли, малый, люли
На руках матуни,
Спи, детка золотая,
Молочком вспоенная,
Кровью моею вскормленная,
А живи счастливо,
Люли, малый, люли.
– Так я певала ему, когда кормила его вот этой самой высохшей грудью, – прибавила она, судорожно раздирая на груди рубаху, – а теперь! Повесить старую суку! Сто розог ведьме! Эй, эй, вот как он вырос мне на счастье!.. Старуха подпёрлась рукой и задумалась.
– Ну, что же в том, что вы его кормили грудью? Если бы даже так и было, – заговорила молодая, топнув ножкой о землю. – Разве мало мамок кормит чужих детей, когда нет матери.
– Мамка!!! – крикнула старуха, подняв на неё грозный взгляд. – Ты, ты, кто ты такая, что смеешь меня называть мамкой? Не была я мамкой никогда! Ты позволяешь себя целовать, хоть и не жена… на то ты такая уродилась, а я прикладывала к своей груди только собственное моё дитя! Ах, ты негодница.
Молодая женщина в гневе отскочила от неё прочь.
– Ах, ты, старая ведьма, страшилище проклятое! А тебе какое до меня дело? Ты видела, как он меня целовал?
– Кто и не хочет, так увидит, у тебя на лице написано, – заворчала старуха, откидывая седые волосы. – Ну-ка, посмотри на меня, – написано на моём лице, что я могла кормить чужое дитя?
– Там написано, – рассмеялась молодая, – что домовой взял у тебя разум и спрятал его в мешок, вот что! Но, смотри, старая, ты дождёшься того, что тебя повесят…
– Ну, что же, хотя ветер высушит мои слёзы! – забормотала старуха.
Она умолкла, и голова её снова стала покачиваться из стороны в сторону ритмическим движением… Молодая, надувшись и нахмурив брови, стояла над ней.
– Меня прислали к вам в последний раз, – заговорила она. – Поумнеете ли вы, наконец, или нет? Сидите спокойно, тогда доживёте без печали до смерти, и ни в чём не будет у вас недостатка… Вы и так не можете ходить… Разве вам плохо в хате? Дают вам есть, пить, и всё, что душа захочет. Есть у вас лён для пряжи, прядите, сколько сил хватит. Не холодно, не голодно! Чего вам ещё? Сидели бы смирно.
– Для вас, Зыня, было бы довольно, только бы ещё парень приходил, – заговорила старуха. – А я взаперти и без солнца не выживу здесь… Нет!
– Уже, конечно, – прервала её Зыня, – если бы вам открыли дверь, как сегодня, когда слуга забыл её закрыть, вы побежали бы пугать людей и лезть князю на глаза.
– Потому что у меня есть на то право. Слышишь ли ты, бесстыдная ветренница! – крикнула старуха. – Я имею право быть там, где он, сидеть там, где он сидит, и ходить, куда он пойдёт… Понимаешь?
Зыня разразилась язвительным смехом.
– Видно, старухе надоела жизнь!
– Ой, надоела, надоела! – повторила старуха, обращаясь не то к огню, не то к самой себе. – Зажилась я на свете, все глаза выплакала, руки поломала, всю грудь от стонов разбило мне. Не мила мне жизнь, ой, не мила! А тебе, бесстыдница, не желаю ничего, ничего, только моей судьбы и моей старости!
Зыня невольно вскрикнула… Её напугали эти слова, которые старуха произнесла, как проклятие.
– За что же вы мне этого желаете? За что вы меня проклинаете, – возразила она, – разве я по своей воле так говорю… Я делаю, что мне приказывают…
– Уж молчала бы лучше, – прервала её старуха.
Зыня отступила от неё на несколько шагов и принялась ходить по горнице. Выгоньева даже не взглянула на неё. Несколько раз молодая женщина бросала на неё боязливый взгляд, но та не оглянулась и не промолвила ни слова. Старуха, погруженная в своё горе, казалось, ни о чём, кроме него, не хотела знать. Слёзы, высохшие было на её щеках, потекли снова.
В то время все боялись старых ведьм и их колдовства; и этим объяснялось то, что Зыня, услышав проклятие старухи, теперь старалась как-нибудь умилостивить её, чтобы она не произвела над ней заклятия. Покружившись по горнице, Зыня присела на полу возле старухи и изменившимся голосом заговорила:
– Ну, не сердитесь на меня. Чем же я виновата? Меня посылают, и я должна идти. Зла я вам не желаю, а говорю вам для вашей же пользы. Вы сами себе портите жизнь. Сидите спокойно, и вы будете счастливы.
Выгоньева повернула голову.
– Счастлива? – повторила она. – Я – счастлива? Счастье и дорогу ко мне потеряло. Не бреши, брехунья, а лучше помалкивай.
Она отмахнулась от неё рукой, а испуганная Зыня двинулась от неё дальше.
Огонь угасал в очаге, молодая женщина встала и подбросила в него несколько щепок; она уже не пыталась больше заговаривать со старухой и молча ходила по горнице, бросая на Выгоньеву тревожные взгляды.
– Дать вам воды? – спросила она.
Выгоньева затрясла головой.
– Может быть, мёду?
– Дай мне яду, – шепнула старуха, – да такого, чтобы скоро убивал, долго не мучил; принеси мне дурману, приготовь зелье; – вот за это я тебя поблагодарю!
– Рехнулась старуха, – тихо пробормотала Зыня.
Наступило молчание, а так как и во дворах и в замке князя все уже спали, то в наступившей тишине можно было уловить малейший шорох. Вшебор, с любопытством наблюдавший и прислушивавшийся, услышал быстрые и неторопливые шаги вблизи хаты, испугался, уж не к нему ли кто-нибудь идёт…
В эту минуту широко раскрылись двери, которые вели в помещение женщин, кто-то вошёл к ним и торопливо задвинул за собой засов. Старая Выгоньева устремила на вошедшего пристальный взгляд, а молодая женщина, словно испуганная, отбежала в дальний угол, вся зарумянившись.
Вошедший стоял в тени и не был виден Вшебору. Но вот он очутился в полосе света и остановился перед старухой, которая, вскрикнув и подняв руки кверху, распростёрлась перед ним лицом к земле. Это был Маслав в простом плаще поверх одежды, с гневным и беспокойным выражением лица.
Он стоял, не будучи в силах вымолвить слово, потом оглянулся вокруг и дал знак Зыне, чтобы она вышла; испуганная девушка, пробираясь вдоль стены, осторожно приблизилась к двери, выскользнула из неё и исчезла. Старуха, подняв голову, заплаканными глазами смотрела на Маслава; на её лице сменялись выражения радости, гнева, отчаяния и счастья. Маслав стоял перед ней разгневанный, но и встревоженный в то же время.
– Послушай, старуха, – заговорил он слегка охрипшим голосом. – Я сам пришёл к тебе, чтобы ещё раз сказать тебе, береги свою голову! Маслав терпелив до поры до времени, но в гневе – хуже бешеного волка. Велит засечь, велит убить!
– Говори, – шепнула старуха. – Я хоть послушаю твой голос, говори ещё! Я дала тебе жизнь, а ты мне за это дашь смерть!
– С ума сошла баба! – крикнул Маслав. – Как ты смеешь называть меня, княжеское дитя, своим сыном! Ах, ты!
– Говори, сынок, говори, – сказала Выгоньева, – приятно мне слушать твой голос… Я всегда говорила над твоей колыбелькой, что ты заслуживаешь быть князем и королём!
Она протянула к нему руку.
– Я называю тебя королём, я – старая помешанная! Вспомни, – тихо говорила она. – Вспомни только… Пощупай свой лоб… на правой стороне у тебя есть шрам… Ты был ещё маленький тогда, упал и разбил себе голову о камень, я, как пёс, лизала тебе рану, а ты… укусил меня… это было предвещанием того, что будет с тобой и со мной… Я лижу свои ноги, а ты меня топчешь ими!
Старуха закрыла лицо руками и залилась горькими слезами. Маслав все стоял. Вшебор видел, как он бледнел, как менялось у него лицо, как он слабел и снова овладевал собою.
– Плетёшь ты небылицы, старуха! – сказал он. – Нет у меня никакого шрама на лбу, и я не знаю тебя! Мне только жаль тебя… Хочешь уцелеть, так сиди себе смирно и молчи. Придержи язык за зубами и не смей говорить, что ты – моя мать.
Помолчав, он прибавил тихо:
– Если бы ты была моей матерью, ты бы не портила мне жизнь, не стыдила бы меня перед людьми. Я – князь и князем буду… а ты – пастухова дочь.
– А ты, милый мой князь, пастуший сын! – печально сказала старуха. – Лучше бы тебе было ходить с бичем за коровами, чем приставлять меч к чужому горлу, чтобы потом подставить своё горло другим! Что тебе это княжество, ну, что?
Маслав бормотал что-то, чего нельзя было разобрать.
– Будешь ли ты молчать? – спросил он.
Выгоньева задумалась.
– Выпустите меня отсюда, – печально вымолвила она, – я уйду и буду молчать. Не скажу никому, что ты – мой сын. Будь себе королём, если хочешь! Но выпусти меня на свободу! Туда, в старую хату, пустите меня, пустите! Пусть глаза мои не видят, сердце не обливается кровью… Не скажу никому, только пустите меня.
Она стала на колени и руки сложила. Маслав, нахмурив брови, пощипывал рыжеватую бородку.
– Что тебе, плохо здесь? Не хватает только птичьего молока! Ты вернёшься на чёрный хлеб и нужду, а сама всё равно не выдержишь, будешь своё болтать… Нет… нет!
– Тогда прикажи убить меня! – говорила старуха. – Пусть убьют разом, как умеют это свои люди. Я с ума сойду в неволе, я к ней не привыкла… Я дала тебе жизнь, а ты возьми мою.
С плачем она упала на землю, но потом быстро подняла голову и начала жадно всматриваться в Маслава; видно, какая-то мысль вдруг пришла ей в голову, она делала усилие, чтобы подняться. Князь отступил от неё, но она, с трудом поднявшись, вперила в него взгляд, точно забыв о себе. Глядела на него и не могла наглядеться. Взгляд её пронизывал князя, и он с беспокойством отшатнулся от неё.
– Постой, – промолвила она, – я ни о чём тебя больше не прошу, дай только насмотреться! Так давно я не видела тебя! А, а, вот что из него вышло! Как тело то побелело! Как выросло дитя! Каким важным паном стал мой сын! Думала ли я, нянча его на руках, что выращу такого богатыря!
Она медленно приближалась к нему; лицо её из гневного становилось умилённым, вот она упала на колени и, охватив его ноги, стала целовать их. Маслав дрожал, как в лихорадке.
– Князь мой, голубок мой, уж не совы ли выели своё сердце, не вороны ли выклевали твои очи!… Ты не знаешь своей матери? Ох, золотой ты мой, ничего я не хочу от тебя, пусти ты старую на волю; меня здесь душат эти стены, не дают мне шагу ступить, слова вымолвить не позволяют… Сжалься ты надо мной!
Когда она окончила говорить, князь быстро повернулся и пошёл к дверям. С порога он повернулся к ней.
– Не глупите, если хотите остаться целой! Я вам это в последний раз говорю. Сидите, где вам велят, слышите?
Послышался шум отодвигаемого засова, старуха, как лежала на земле, у ног его, так и не двинулась с места, закрыв лицо руками и распростёршись на земляном полу.
Она ещё лежала и плакала, когда вошла ещё женщина, но не Зыня, а старуха в грубой и бедной одежде, с засученными по локоть рукавами, с растрёпанными волосами, прикрытыми грязным платком, на вид ещё крепкая и сильная. Нахмурившись она смотрела на лежавшую.
– Эй, ты, слышишь? – громко закричала она. – Пора тебе на покой, старая ведьма! Довольно этих глупостей!
Говоря это она обхватила старуху сильными руками, приподняла её и бросила без всякого сопротивления с её стороны на соломенную подстилку в углу. Потом сняла с гвоздя сермягу, покрыла её, постояла ещё и пошла затушить огонь.
Вшебор, не слыша больше ничего, кроме глухих стонов и храпа, задвинул ставень. Испугавшись, как бы завтра не догадались, что он мог подслушать, он повесил на ставень своё платье и улёгся в углу на приготовленную ему постель.
На другой день, чуть свет, кто-то постучал в дверь; Вшебор открыл её и увидел Собка, который пришёл развести огонь. В замке уже начиналось движение. В то время день начинался с рассветом и кончался с наступлением сумерек. Когда Вшебор открыл ставень у окна, выходившего на двор, он увидел, что Маслав был уже на коне посреди двора и сам уставлял своих людей, подбирая их по росту, осматривал оружие, а тех, что сидели на конях, заставлял гарцевать перед собой.
Войско это, набранное отовсюду, необученное ещё и дикое, казалось всё же отважным и способным к выучке. Теперь ему ещё не с кем было воевать, потому что рыцарство короля разбежалось во все стороны, а с чехами, превосходившими их в числе и отлично вооружёнными, они ещё не решались померяться силами. Казалось, Маслав готовился к борьбе, которую он предвидел в будущем. В окно было видно, как князь, объезжая новые полки, то обращался с ними по-княжески, то вдруг, забыв, превращался в простолюдина, каким он и был, и в гневе своём давал волю рукам, уча непонятливых.
Вшебор и Собек, стоявший на ним, наблюдая эту сцену, покачивали головами. Старый слуга то улыбался невольно, то хмурился. Грозный и крикливый голос князя долетал и до них.
Так молча стояли они некоторое время, пока Собек не отвёл Вшебора в сторону, тихо говоря ему:
– Нам тут нечего долго оставаться… осмотритесь… и едем назад… Вы уже видели, что у него есть… Это всё, что нам надо было знать.
– У него большая сила, а у нас – никакой, – вздыхая, возразил Вшебор. – А мы всё же не пристанем к нему, – шепнул старик. – Своими глазами видел то, о чём люди рассказывали… Нам тут нечего больше делать.
Вшебор только кивнул утвердительно головой.
В дверь постучали, и с поклоном вошёл Губа.
– Во дворе собраны люди, из которых вам надо выбрать дружину для князя, – сказал он. Кладовая открыта. Князь велел всем слушаться вас, Вас ждут.
Долива волей-неволей должен был следовать за Губой.
Во дворе стояла толпа избранной молодёжи, молодец к молодцу, с весёлыми лицами, крепкие и самоуверенные. Все они были оторваны от плуга и секиры, не обучены и не усмирены, как дикие кони, только что взятые из стада.
Долива сначала осмотрел их всех, потом начал выбирать. Одни шли охотно, другие убегали, но тут же стоял Губа с дубинкой в руке, и никто не смел ослушаться.
Скоро дружина князя была подобрана, и Вшебор повёл её к вчерашней избушке, где было собрано платье и оружие, и где ждал их старый надсмотрщик. Всего было здесь вдоволь, но подобрать для всех одинаковую одежду и вооружение не было возможности. Награбленное из разных домов и от разных хозяев добро лежало кучами без всякого порядка, и очень трудно было подобрать более или менее сходную одежду для всех. Не успел ещё Вшебор покончить с этим, как его позвали к княжескому столу. Здесь снова были пруссаки, которых приветствовали ещё более шумно, чем накануне, и с которыми ударяли по рукам в замке вечного союза.
Вшебор наблюдал издали за этим братаньем и слышал, как кунигас рассказывал Маславу, сколько у него войска, и условливался с ним относительно дальнейших походов. Маслав не скрывал своих планов и намерений.
– С пястами у меня ещё не покончено, – говорил он кунигасу.
– Их нет в стране, мы их выгнали, но они заодно с немцами и могут вернуться вместе с ними. Чернь вырезала рыцарство и подожгла их замки, но вся эта погань только разбежалась, а как только оправится, снова соберётся вместе. Это ещё не конец! Ещё есть много нетронутых замков, и не все головы попадали с плеч…
Вшебор побледнел, услышав эти слова и заметив, что Маслав, произнося их, взглянул на него. Итак, завязывалась дружба с пруссаками, а старая вера и языческие боги брали верх над христианством.
Мёд шумел в головах, и шум увеличивался; пир продолжался до самого отъезда кунигаса, которого Маслав и его приближённые проводили во двор, где стояли кони. Когда пруссаки, сев на коней, выезжали из замка, множество народа и гусляры с приветственными кликами провожали их за валы. Вшебор стоял, глядя вслед отъезжавшим и прислушиваясь к разговорам толпы, когда Маслав подозвал его к себе и велел привести к нему напоказ подобранную им дружину. Он тотчас же пошёл исполнять приказ, но в это время в те двери, через которые он хотел выйти, вошло новое посольство, и князь взглядом приказал ему остаться.
Новоприбывшие имели ещё более странный вид, чем дикие, но воинственные прусские послы. Это была толпа черни, посланная в качестве депутатов от разбойничьих шаек взбунтовавшихся крестьян, грабивших страну. В окровавленных сермягах, с разгорячёнными и возбуждёнными мёдом и пивом лицами они ворвались со смехом и шумом, без всякого почтения к княжескому двору.
Начальник их, высокий детина, на голову выше всех остальных, с густыми падающими ему на плечи волосами, увидев Маслава, снял, не спеша, баранью шапку и слегка склонился перед ним. Ни он, ни его товарищи, весело поглядывавшие вокруг, не испытывали ни малейшего страха в этой торжественной обстановке княжеской столовой… Опустошения, которые они чинили по всей стране, научили их ничего не ценить, они чувствовали свою силу…
– Ну, вот мы и пришли к вам, князь наш, – заговорил начальник, – посоветоваться и порадовать тебя. Ты наш! Ты наш!
И вся толпа весело замахала шапками, приветствуя его громкими восклицаниями. Маслав хмурился и молчал.
– Там, за Вислой, мы уже очистили тебе почти весь край. Иди и наводи порядок… Восстанови старые храмы, верни старых богов немцам и их богам на погибель!







