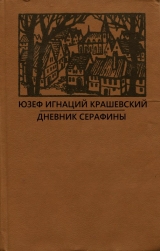
Текст книги "Сумасбродка"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
– Какая такая жертва, – запротестовала Мадзя, не давая ей договорить, – мои усилия служить тебе стократно вознаграждены тем удовольствием, с каким я это делаю.
Зоня иронически рассмеялась в ответ, а затем живо обратилась к Эваристу:
– Непонятная, вещь! Я написала Теофилу, наверно, десять писем – никакого ответа. Не знаю, что и думать. Может быть, он решил, что расквитался со мною за пулю и пора искать счастья в другом месте.
И, нахмурив брови, прибавила с горечью:
– Все может быть! Но нет, нет, – тут же одернула она себя, – я несправедлива! Это простая открытая натура, он бы тогда не обещал мне вернуться, я его ни к чему не принуждала… Он сам дал мне слово, добровольно.
– Письма могли затеряться, – вставил Эварист.
– Нет, – возразила Зоня. – Хоть одно-то должно было дойти. Уезжая, он был не совсем здоров, но он сильный, он врач. И почувствовал бы, если б это было что-то серьезное… Не знаю!
Замолчав, она хмуро уставилась в пол. Потом прошептала:
– Всегда надо ждать наихудшего. Зло, во всяком случае, наиболее вероятно, на хорошее рассчитывают только дети. Так уж устроен мир – это огромная пыточная камера, а всему живому мудро предназначено убивать, есть в мучить друг друга. На том все и держится. Пыточная камера!
– Зоня! – взмолилась младшая сестра.
– Ах ты, наивный ребенок! – рассмеялась Зоня. – Для тебя мир – это преддверие рая, где людям чистят забрызганные ботинки и приглаживают волосы, чтобы доставить их к месту назначения в наиболее респектабельном виде.
Мадзя, пришибленная, не умея найти ответа, посмотрела сквозь слезы на Эвариста.
Но и ему Зоня казалась страшнее, чем была, каждое ее слово источало горечь отчаяния…
Впрочем, не удивительно: книга, за которой он застал ее в раздумьях, была знаменитым кредо Шопенгауэра.
Чтобы унять поток этой горечи, Эварист стал рассказывать Мадзе о доме, откуда привез ей приветы и всякую забытую мелочь. Жена хорунжего прислала списки покупок, которые на обратном пути должна была отвезти в Замилов упряжка Эвариста. Зоня этих разговоров о прозе жизни даже не слушала. Единственное, что ее интересовало, была она сама, а горячо преданная сестра не будила в ней никаких чувств, разве что известное сожаление о ничтожности этого существа. Она взирала на Мадзю с высот своей мудрости, не замечая ангельской доброты сердца, с которой разум не в силах был состязаться. А Мадзя, которая не переставала дивиться убийственному уму сестры, горячо жалела ее за недостаток чувствительности, за омертвевшее сердце. Таким образом, взаимная жалость оказалась единственной связующей нитью между ними.
Когда Эварист выходил, Мадзя, со слезами на глазах и натянутой улыбкой, поспешила за ним в прихожую. Она чувствовала, что при Зоне не может говорить с ним откровенно.
– Когда думаешь вернуться? – спросил молодой человек.
– Сама не знаю. Зоня с минуты на минуту ждет возвращения или известий от… – тут девушка стыдливо запнулась, – …от мужа, – проговорила она наконец, не умея найти другого слова.
– В Замилове только и знают, что ждут вас.
– А я! Я так тоскую по Замилову! – вырвалось у девушки, и она опустила глаза, опасаясь, видимо, как бы Эварист не вычитал в них больше, чем следует.
На вопрос о Зоне она ломая руки ответила:
– Не могу сказать, как мне жалко ее, но я слишком слаба, слишком… глупа, – покорно прибавила Мадзя, – и ничем не могу ей пригодиться. Я пробовала, ах, все пробовала! В костел она со мной идти не хочет, говорить о религии с ней невозможно… Ах, какая она несчастная!
Девушка разрыдалась.
Так ничем и не кончились их тихие переговоры в прихожей, Мадзя ушла к сестре, а Эвариста поджидала внизу неумолимая вдова, в надежде, что сможет от него узнать о сроках возвращения в Замилов.
Ее до слез волновали цыплята, оставленные без присмотра…
В течение первых дней Эварист почти не виделся с сестрами и не встречал пани Травцевич; он только позаботился о том, чтобы Мадзя и ее компаньонка могли отправить с его коляской письма и покупки.
Так прошла целая неделя, а затем Эварист получил от Мадзи записку с просьбой встретиться с ней; она не хотела, чтобы он приходил к Зоне, поэтому Эварист был вынужден назначить ей свидание в каморке вдовы, которая, на счастье, отправилась в это время к обедне.
У Мадзи было побледневшее и какое-то испуганное, измученное личико, видимо, нелегко доставалось ей пребывание в Киеве. Она, собственно, и не жаловалась, однако не сумела наигранной веселостью скрыть то, что ей приходится терпеть.
– Ах, пан Эварист, – сказала она, здороваясь, – я, право, не знаю, не смею… а все-таки должна и поплакаться и спросить у вас совета. Сама я с этим не справлюсь.
Взволнованная, смущенная девушка то опускала то поднимала, краснея, глаза, нетрудно было догадаться, как дорого стоит ей этот разговор.
– Пожалуйста, будь со мной откровенна, – сказал Эварист.
– Ведь я ее так люблю, так жалею, так хотела бы все объяснить ее сиротством, несчастьями, – говорила девушка, – мне было бы так больно винить ее…
– Случилось что-нибудь?
– Нет, нет! – воскликнула Мадзя, как бы оправдываясь. – Ничего не случилось, только мне это так странно… и право, не знаю, сколько еще смогу я тут выдержать, хотя всей душой хочу быть при ней… – Говоря это, она все время краснела, и в глазах ее стояли слезы. – Наверно, пан Эварист, в этом нет ничего дурного, только я такая ограниченная, трусливая, не знаю света и всего боюсь…
Робость мешала ей высказаться яснее, Эварист настаивал.
– Не знаю, но мне бы казалось, что женщина, живущая одна-одинешенька, а хоть бы и с сестрой, и в таком печальном положении… не должна бы принимать у себя… молодежь. И раньше несколько приятелей ее мужа иногда заходили осведомиться, но теперь, в последние дни, их столько приходит к нам каждый вечер, и столько шуму, разговоров, смеха… Хоть беги от них куда глаза глядят, они такие дерзкие, эти молодые люди, невоспитанные, я весь вечер сижу как на углях и почти не понимаю, что они говорят, но они так пристают…
У Мадзи, которая продолжала поминутно краснеть, мять в руках платочек и запинаться, под конец стеснилось дыхание в груди, и она замолчала.
Эварист слушал ее с чувством, очень похожим на гнев. Это было выше его разумения. Как могла Зоня, при ее обстоятельствах, искать подобного рода развлечений?
Он спросил, о чем разговаривали.
– Ах нет, пересказать я не сумею, знаю только, что мне это непонятно и странно. Разговоры они ведут ученые, хотя иногда там упоминаются… вещи, о которых я прямо слушать не могу, так мне стыдно и страшно.
– Пойдем к Зоне, – заявил Эварист.
– Ах нет, нет! Она скажет или подумает, что я ее обвиняю перед вами, – воскликнула Мадзя, ломая руки, – а я жалею ее! Переубедить ее невозможно, и я только спрашиваю, как мне… советуете ли вы мне пробыть здесь подольше… Но я эти вечера с этими господами не могу перенести!
Эварист задумался.
– Да, – с грустью сказал он. – ты уже, мне кажется, сделала все, что могла, и ни к чему тебе больше мучиться. Не надо слишком винить Зоню, она привыкла к этому обществу, к обсуждениям, спорам, и, может быть, ей это теперь необходимо. Для нее это развлечение в печали, для тебя – мука мученическая. Возвращайся в Замилов.
Мадзя расплакалась.
– А ее так и оставить на погибель… Одну… одну-одинешеньку! Нет, это никуда не годится.
Бедная девушка, выплакав свои обиды, теперь уже жалела, что винила Зоню, и была готова покорно прозябать в атмосфере, в которой задыхалась.
Эварист ушел с неприятным чувством в душе.
Прошло еще около двух недель. От Мадзи – он виделся с ней иногда, и она всякий раз была все бледней, все грустней – Эварист узнал, хотя девушка многого не досказывала, что вечерние собрания становятся все многочисленней, Мадзя уже не жаловалась, но по ее осунувшемуся лицу видно было, что ей тяжело.
Эвариста всегда влекло к несчастной Зоне, хотя он порицал себя за это и под разными предлогами избегал видеться с предметом своей страсти, а все-таки время от времени захаживал «на чердачок». Теперь он мог оправдываться перед собой необходимостью заботиться о Мадзе.
Только по вечерам он почти никогда не показывался у Зони: в обществе молодежи, которая тут собиралась, он чувствовал себя чужим и, не желая вызывать лишних споров, молча страдал, выслушивая всякие глупости.
Однажды, как бы повинуясь указанию свыше, он зашел в предобеденную пору, в минуту, когда, быть может, был самым желанным гостем, по крайней мере, для Мадзи.
Уже с порога он заметил, что случилось что-то необычное. Зоня сидела во второй комнате, бледная, как мертвец, со стиснутыми губами, уронив сжатые в кулаки руки на стол. Перед нею лежал измятый лист бумаги. Рядом стояла Мадзя, тоже бледная и испуганная. Увидев вошедшего, она бросилась к нему:
– Идем, идем! Надо ее спасать… Ах, это письмо…
Эварист не мог понять, в чем дело.
Вдруг Зоня встала словно подброшенная пружиной, и с горящими глазами подошла к Эваристу.
– Умер, – сказала она, протягивая ему бумагу, – умер.
Проговорив это, она рухнула на стул и обхватила голову руками. Мадзя плакала навзрыд.
Эварист пробежал глазами написанное чьей-то неумелой рукой письмо, к которому было приложено официальное свидетельство о смерти. Из этих бумаг он узнал, что Теофил Загайло приехал к семье больной, проболел две с лишним недели и умер от тифозной горячки.
Плакать Зоня не могла, глаза ее горели как угли, она захлебывалась клокотавшим в груди рыданием, но слезы из глаз не текли. Ее губы были искривлены дикой иронической улыбкой. Иногда она что-то бормотала, какие-то бессвязные слова.
Утешать, успокаивать ее в эту минуту было невозможно, да она бы и не допустила до этого.
Оставалось одно: окружить ее нежнейшим вниманием, а для этого у нее была Мадзя, которая теперь самым буквальным образом не отступала от сестры ни на шаг.
Погруженная в мрачную печаль, Зоня, казалось, никого не видела, сидела окаменелая, немая, не слыша, что говорят, не отвечая на вопросы.
Временами она отнимала руки от лица, и тогда были видны ее сухие, лихорадочно горящие глаза, запекшиеся губы и наморщенный лоб.
Эварист просидел тут несколько часов. Наконец, переговорив с Мадзей, он тихо ушел.
Одно из двух: либо эта боль убьет Зоню, либо, как всякая человеческая боль, она постепенно смягчится, растает в растворителе всех человеческих несчастий и счастий, имя которому – время.
Сам характер первой реакции, столь неистовой, подсказывал, что она не может быть длительной.
В городе все, кого бы Эварист ни встретил, говорили ему о смерти Теофила, так как в это же время известие о ней получила администрация университета. Студенческая молодежь сокрушалась об утрате своего коллеги, человека больших способностей и сильной воли, и жалела бедную Зоню.
Беспокойство долго не давало Эваристу уснуть, ему не терпелось узнать, что происходит у Зони и Мадзи. Едва рассвело, как он поднялся и побежал к пани Травцевич.
Там ему сказали, что часа два назад ее вызвали из соседнего дома, где, должно быть, что-то случилось, потому что беготня была невообразимая, но любопытствующие ничего не могли узнать о причине.
С самыми дурными предчувствиями взбежал Эварист но лестнице в мезонин и на пороге столкнулся с выходившим оттуда доктором Б., профессором университета, с которым его как-то познакомили.
– Отравилась опиумом, – флегматически произнес профессор в ответ на его «что тут случилось?». – К счастью, своевременно обнаружили пустую бутылочку, и смертный исход удалось предупредить. Обойдется недомоганием.
В комнате у Зониной постели Эварист застал Мадзю, всю в слезах, с перепугу дрожавшую как в лихорадке. Зоня полулежала, опершись на локоть, с гневным лицом.
– А, вы не дали мне умереть! – восклицала она с язвительной горечью, – вот уж правда совершили благодеяние. Вам надо, чтобы я жила! Буду жить, но не знаю, порадую ли я вас… Дурацкая жизнь!..
– Зоня! – поминутно останавливала ее сестра.
– Молчи! – неистовствовала больная. – Ты спасла меня, так это у вас называется… По твоим благочестивым понятиям это значит – дать время на покаяние… Ладно, увидишь, как я стану каяться!
Голос у нее прерывался спазматическими рыданиями. Мадзя пыталась обнять сестру – та ее отталкивала гневно, безжалостно.
Эварист наблюдал эту сцену с невыразимым волнением; он присел в первой комнате, уже и сам не зная, что ему делать со спасенной Зоней и с этой бедной Мадзей, к которой сестра относилась с явной неприязнью и без конца срывала на ней сердце.
А Мадзя, которую ничто, казалось, не обескураживало, ни на шаг не отступала от постели и заставляла больную принимать лекарство, умоляя об этом на коленях…
Зоня уже и смотреть на нее не хотела; спустя несколько часов раздражение больной при виде Мадзи возросло до такой степени, что, рванувшись с постели, она начала кричать:
– Да освободите же меня от этого ангела, да, я – дьявол и поэтому ангелов не переношу! Клянусь всем на свете, что рук я на себя не наложу, только пусть она не отравляет мне жизнь своим ангельством… Пусть едет, если хочет, отмаливать мои грехи, а меня оставит одну.
Эварист подошел ближе, желая как-то умилостивить больную, она бросилась к нему с мольбой:
– Даю слово, клянусь, ручаюсь головой, больше я не буду кончать с собой, хватит с меня этой глупой попытки, но Мадзя пусть уезжает туда, откуда приехала, я с ней жить не могу.
Сестра целовала ей руки, просила прощения – не помогало.
– Да, ты ангел, ты сама доброта и самоотверженность, – страстно восклицала Зоня, – я обязана тебе жизнью, но именно поэтому мне тошно тебя видеть… Уезжай! Со мной ты умрешь, а я сойду от тебя с ума!
Что можно было возразить на это? Мадзя, не желая мозолить ей глаза, убежала к пани Травцевич, чтобы выплакаться там и лечь в постель, так как чувствовала, что сама заболевает, и Эваристу пришлось немедленно отправиться за доктором.
Около Зони посадили женщину, которая обещала не оставлять ее одну.
К вечеру Мадзя металась в жару, и Эварист целую неделю сильно тревожился о ней; только молодость и спокойствие, с каким она переносила свои страдания, спасли ей жизнь.
Зоня на третий день уже была на ногах; ее страдания значительно поубавились за это время.
Она знала, что сестра больна, но сама чувствовала, что не может показаться ей на глаза после того, как обошлась с ней так жестоко.
Мадзя, едва поднявшись с постели, стала думать об отъезде в Замилов; она была так грустна и подавлена своей неудачей, так страдала душой, что старая Травцевич, позабыв о цыплятах, плакала над ней целыми днями. Эварист из-за двери ежедневно справлялся о Мадзином здоровье и, как только врач разрешил, сам начал торопить с возвращением.
Настал день выезда. Мадзя не могла уехать не простившись. Отложив на дорогу лишь самое необходимое, она собрала остатки денег, с тем чтобы передать их Зоне, и, во избежание какой-нибудь неприятной сцены, упросила Эвариста пойти вместе с ней.
Зоню они застали погруженной в книги. Чтобы забыть свою боль, она наново с жаром набросилась на науку; исхудавшая, с лихорадочно горящими щеками, небрежно одетая, непричесанная, она производила впечатление какого-то одичавшего существа.
Увидев на пороге Мадзю, Зоня рывком отодвинула от себя книгу и подошла к сестре. Даже не зная об этом, она не могла бы не заметить, что Мадзя тяжело болела. Изменившееся лицо говорило об еще не миновавшей опасной слабости, девушка пошатывалась на каждом шагу, а при виде сестры пришла в такое волнение, что должна была тут же у двери присесть, чтобы собраться с духом и силами.
Зоня смотрела на нее как бы свысока и одновременно с сожалением.
– Жаль мне тебя от души, – проговорила она, стоя перед Мадзей, – напрасно ты сюда приехала обращать меня, не имея на это сил, и пришлось тебе расплачиваться за мои грехи. Слабое ты создание. Посмотри на меня: я потеряла ребенка, потеряла любимого человека, потеряла надежду на жизнь и желание жить, а, как видишь, держусь, и лучше, чем ты! Извини меня, милая Мадзя! Такой меня создал господь бог, и другой я быть не могу.
– Незачем передо мной извиняться, – возразила Мадзя, которая постепенно приходила в себя. – Я сделала то, что должна была сделать, и не моя вина, если мне так мало Удалось. – Она вздохнула. – Это ты не сердись за то, что я была, может быть, не всегда тактична, но всегда и всем сердцем хотела тебе помочь.
– И напрасно, мне ничего не поможет, – сухо ответила Зоня.
– Я уезжаю, – проговорила Мадзя тихим голосом, – хочу попрощаться.
И, рыдая, бросилась к сестре на шею.
– Зоня, милая, – говорила она, всхлипывая, – обратись к богу, молись, покаяние вернет тебе покой, молитва утешит, примирившись, легче будет терпеть… Ты много перенесла, это тебе зачтется… Родная моя! Зоня сухо рассмеялась.
– Обо мне не беспокойся, – сказала она небрежно, – я сумею найти себе путь в жизни. Вы велели мне жить, значит, надо постараться сделать эту жизнь сносной.
Мадзя воспользовалась удобной минутой, чтобы незаметно сунуть Зоне в руки узелок с деньгами и шепнуть ей:
– Если любишь меня, возьми, мне они не нужны. Поколебавшись, Зоня, однако, приняла подарок сестры, помолчала, затем задумчиво поцеловала ее в лоб.
– Сочтемся когда-нибудь, – добавила она, – я не отчаиваюсь, я еще расплачусь со своими долгами!
Эти слова были сказаны с гордостью, даже как бы с угрозой.
Потом обе сестры ненадолго удалились в другую комнату, Мадзя хотела просить Зоню еще о чем-то наедине, а все ее просьбы сводились к богу и молитве, ибо иного способа утешиться и спастись она не знала.
Зоня отвечала ей саркастической усмешкой, пожимала плечами, отмалчивалась или повторяла одно и то же:
– Не беспокойся обо мне, я не пропаду.
Казалось, мысленно она уже намечала линию своего поведения в будущем.
Когда обе вместе они вышли в первую комнату, где их ждал обещавший проводить Мадзю Эварист, Зоня подошла к нему.
– Хотя Мадзя и уедет, ты все-таки мог бы навещать меня время от времени, – сказала она. – Правда, теперь этот скелет уже не вызовет в тебе былой страсти, ну и тем лучше, ты перестанешь мне надоедать, а сам – страдать. Заходи просто так, как к доброму приятелю. Я собираюсь налечь на науку и буду это делать, пока хватит сил. Мне это нужно хотя бы для того, чтобы зарабатывать себе на хлеб.
Мадзя снова расплакалась и бросилась обнимать сестру. Зоня приняла ее объятья холодно; могло даже показаться, что именно Мадзина чувствительность побуждает эту склонную к противоречиям натуру к холодному сопротивлению и насмешке.
У порога Эварист, следовавший за Мадзей, отстал от нее на несколько шагов, и Зоня, указывая на сестру, шепнула ему на ухо со странной усмешкой:
– Ты, должно быть, ослеп! Вся эта сестринская нежность – неужели ты не понимаешь? – все это было ради того… чтобы сблизиться с тобой. Она, бедняжка, безнадежно в тебя влюблена.
И захлопнула за ним дверь, а Эварист, возмущенный и удивленный, поспешил догнать бедную Мадзю. Внизу их уже поджидала старуха Травцевич, одетая по-дорожному, вполне готовая тронуться в путь.
– А все-таки смилостивился надо мной господь бог! – воскликнула она. – Выведет-таки нас из этого пекла.
* * *
После Мадзиного отъезда Эварист долго не виделся с Зоней, даже мало что и слышал о ней. Кое-кто из коллег рассказывал ему, что Зоня, чудесным образом оправившись от своего удара, похорошела, оживилась и снова горячо занялась науками, а еще больше – общественными вопросами; жаркие споры на эти темы часто затягивались на ее собраниях до поздней ночи.
Собиралась у нее обычно молодежь, самые горячие головы. Пили чай, курили сигары и вели весьма оживленные разговоры. Видывали там также пани Гелиодору и еще двух-трех дам, таких же передовых и эмансипированных, как хозяйка. Молодым людям так нравилось это общество, что они почти ежедневно ходили туда целыми стаями.
На приемах у Зони, рассказывали Эваристу, ведут себя с редкой бесцеремонностью. Студенты приходят одетые кто в чем, чай подают по очереди, так как не хватает стаканов. Папиросы каждый приносит с собой и садится, где сам хочет или на первое попавшееся место, словом, в обеих Зониных комнатах царит истинно студенческий беспорядок.
Прошло добрых несколько недель, прежде чем Эваристу случилось встретить свою кузину, и он едва узнал ее. Когда он виделся с нею в последний раз, она была желта, бледна и худа, а теперь перед ним стояла молодая цветущая женщина со свежим, веселым, вызывающим лицом, с ясным и смелым взглядом. Она так необычайно изменилась, что Эварист не мог не выразить ей своего удивления.
– Правда? Ты находишь, что я снова похорошела? – ответила она, смеясь и поправляя свои прекрасные волосы, не без кокетства уложенные со студенческой небрежностью. – Ну что ж. Вечно грызть себя невозможно. Жизнь это глупая штука, так надо хоть разумно распорядиться ею. Я научилась ни о чем не заботиться. Борьба… да, это борьба, и тот, кто проиграл, тот сам виноват.
Она посмотрела на Эвариста – он молчал.
– Ну загляни же как-нибудь! – прибавила Зоня. – Ведь ты был влюблен в меня, правда? Теперь это прошло, но у меня была и до сих пор осталась слабость к тебе. Мне хотелось бы сделать из тебя человека!
Зоня рассмеялась и подала ему руку.
– Ну, до свидания! Да?
И, не дожидаясь ответа, весело пошла дальше.
Эта новая метаморфоза, случившаяся с Зоней, разбудила в Эваристе неприятные воспоминания о былом. А он с такой гордостью твердил себе, что уже все забыл, совершенно разочарован и охладел к ней! Увы! Нет ничего опаснее тлеющих под пеплом углей. Эварист вернулся домой, погруженный в мечты о женщине, которая влекла его к себе с силой, непонятной ему самому.
Что в ней могло ему нравиться, что возбуждало влечение, которому противились и разум его, и сердце, которое – находило себе место лишь в чувственном воображении? Эварист не мог объяснить себе этого и сам собой возмущался.
Она не заслуживала любви, разве что сожаления, а он был влюблен в нее без памяти. Он чувствовал, что, если бы позволил этой женщине вступить с ним в более короткие отношения, она подчинила бы его своей воле и даже – он дрожал при одной мысли об этом – могла бы свести его с сурового пути долга, привить ему свое безверие и издевку надо всем на свете.
Короче, Эварист решил всячески избегать встреч с Зоней, и это удалось ему тем более легко, что через несколько дней пришло известие о болезни отца с наказом немедля выехать в Замилов.
Тревога заставила его не терять ни минуты, и однако, уже садясь в почтовые дрожки, он поддался все той же непонятной слабости и заехал к Зоне, чтобы сообщить ей о своем отъезде.
Она была одна, сидела, задумавшись, у окошка.
– Еду в Замилов, – быстро сказал Эварист, входя, – отец тяжело занемог, я должен торопиться. Вот решил сообщить тебе… Когда вернусь, не знаю. Что прикажешь передать Мадзе?
– Кланяйся ей от меня, если хочешь, – равнодушно ответила Зоня. – Признаться, мне неприятно, что ты уезжаешь, хотя мы почти не видаемся. Не знаю почему, но я как-то привыкла рассчитывать на тебя… хотя бы на случай похорон, – прибавила она с горькой усмешкой. – Ты теперь меня избегаешь, а я часто думаю о тебе. Те, что меня окружают, вся эта орава немногого стоит. Возвращайся же, пожалуйста, и не забывай о Зоне.
Она протянула ему руку. Эварист с волнением пожал ее.
– Еще два слова, – добавил он, – раз уж ты рассчитываешь на меня, так позволь спросить, не нуждаешься ли ты? Говори откровенно.
Зоня слегка смутилась, покраснела, поправила волосы.
– Нужды мои невелики, но… если можешь…
Она не успела договорить, как Эварист вынул из бумажника все, что там было, и положил на стол. Зоня помолчала, затем еще раз, как-то стыдливо протянула ему руку.
– Спасибо, – тихо проговорила она прерывистым голосом и требовательно прибавила: – Возвращайся же… прошу тебя.
Обращенный к нему взор был увлажнен слезами, в голосе слышалось подавленное рыдание.
Эварист тоже был растроган и, желая скрыть волнение, поспешил проститься.
Усаживаясь в бричку, он увидел на галерее дома Зоню, в знак прощания махавшую ему платком.
Все это, вероятно, подействовало бы на него самым опасным образом, если бы не тяжесть, лежавшая на сердце, не мысль об отце, о том, что застанет он дома.
Обещая платить вдвое, Эварист гнал на перекладных день и ночь, нигде не останавливаясь, почти не высаживаясь из экипажа, до последней перед Замиловым станции. Его мучили ужасные предчувствия.
Местечко, куда он прибыл на следующий день вечером, встретило его как раз тем известием, которого он так боялся. Старый Пиус, поджидавший паныча, смотрел на него заплаканными глазами. Со вчерашнего дня хорунжего не было в живых.
– Ох, паныч, – бормотал, утирая слезы, старый слуга, – так умирать, ей же богу, лучше, чем жить. Как святой он скончался, пан хорунжий… Чуял свою кончину, готовился к ней и умер со свечой в руке, с божьим именем на устах, помолился и словно уснул…
Эварист, опасаясь за мать – он знал о ее привязанности к отцу, – еще пуще заторопился в Замилов. Мысль о том, в каком состоянии найдет он там бедную вдову и весь этот дом, внезапно погрузившийся в траур, пугала его невыразимо.
Уже была ночь, когда они остановились перед воротами. В усадьбе, как обычно, царили тишина и покой, лишь в окнах дальней комнаты, куда положили покойника, был виден сквозь легкие занавески окружавший погребальное ложе свет, а до ушей доносились оттуда протяжные звуки пения, полного скорби и вместе с тем надежды.
Эварист прошел прямо к гробу отца; там он застал мать. Вся в слезах, склонившись над молитвенником на низеньком пюпитре, она на коленях читала молитву с той тихой печалью истинной христианки, с тем достоинством глубокого горя, какие даются лишь глубокой верой.
Увидев сына, она встала. Тот опустился на колени и припал к ногам отца, а когда поднялся, мать молча обхватила его обеими руками и долго не размыкала объятий, как бы чувствуя в нем свою единственную жизненную опору.
Эварист с изумлением отметил ее сверхчеловеческое спокойствие и присутствие духа; она уже полностью овладела своим горем.
– Дитя мое, – говорила мать, выходя с ним из комнаты, – ты не услышал его последнего благословения, не успел, но он благословил тебя отсутствующего. Да охранит тебя отцовское слово от зла, да будет оно тебе в жизни щитом. О, какой прекрасной смертью он умер, какой благословенной! За всю жизнь награда… Теперь, дитя мое, – добавила она, – ты тут хозяин…
– Нет, мама, милая, не я, не я! – прервал ее Эварист, – упаси меня бог даже думать об этом, единственная хозяйка – это ты.
И, растроганный, он припал к ее коленям.
На следующий день были назначены вынос и погребение тела; благодаря распоряжениям хорунжего все было так облегчено, что никому этот торжественный акт не доставил ни малейших хлопот. Только жена его, взяв это на свою ответственность, всеми силами старалась, чтобы похороны были пышнее, чем хотел этого покойный.
Во время похоронной речи ксендз Затока, приятель хорунжего, перечисляя его достоинства, сам разрыдался, как дитя, и, хотя никогда не отличался красноречием, у всех вызвал слезы.
Пани Эльжбета, которая следовала за похоронным шествием, поддерживаемая с обеих сторон сыном и Мадзей, мужественно выстояла до конца и вернулась в Замилов, с тем же мужеством в сердце готовясь принять свою новую сиротскую долю.
Эварист тоже остался на время в Замилове, чтобы служить ей помощью и утешением.
Матери, которая по старинке не придавала особого значения наукам и куда больше ценила практическую, деятельную жизнь, хотелось совсем отвадить сына от киевских университетов и осадить его в деревне. Сама она намеревалась жить при нем, пока он не женится, а потом, когда можно будет о нем не беспокоиться, поселиться на другом фольварке и дожидаться конца; она уже начинала по нем тосковать.
Отсутствие старого хорунжего в этом доме, которому он служил незримой опорой и который так внезапно лишился его, ощущалось на каждом шагу, о нем вспоминали ежеминутно, и однако все было оставлено в таком заранее продуманном порядке, что, казалось, бразды правления по-по-прежнему находились в его руках.
Только и слышно было:
– Так хотел покойный пан… Так пан Элиаш распорядился…
Когда в доме немного успокоились после похорон и все вошло в привычную колею, Мадзя – только тогда, – осмелилась спросить у Эвариста про сестру. И, спрашивая, краснела от смущения, как будто в ее естественном любопытстве было что-то постыдное.
– Как она там, бедняжка? – робко пробормотала девушка.
– Я мало ее видел, – ответил Эварист, тоже смутившись, – был у нее только перед самым отъездом. По-моему, там ничего нового, никаких ухудшений.
Мадзя смотрела на него испытующе, явно желая прочитать по его лицу больше того, что он мог сказать ей. Эварист быстро добавил:
– Верь мне, Мадзя, я не теряю надежды… Бедная Зоня, в ее несчастьях виновато ее воспитание, но они же послужат ей лекарством. Я не отчаиваюсь! – повторил он.
– Ах, дай бог, – сказала Мадзя, – чтобы твои надежды оправдались.
Больше они не разговаривали в этот день, но в следующие Мадзя при всяком удобном случае, при каждой встрече старалась половчей выпытать кузена. Однако тот и в самом деле немного мог ей сказать, кроме все тех же утешительных слов.
Почти два месяца длилась побывка Эвариста в деревне, но больше мешкать с отъездом он, несмотря на уговоры матери, не мог; надо было закончить наконец университетский курс и сдать экзамены. Все это вместе должно было занять не слишком много времени, и пани Эльжбета заранее радовалась тому, что это путешествие будет последним и что, вернувшись, Эварист прочно осядет в деревне. Одной-единственной мыслью жила она теперь: устроить сыну удобную и приятную усадебную жизнь, оставив себе лишь самое необходимое. За время его отсутствия она хотела вычистить, перестроить и убрать его комнаты. Теперь, по ее убеждению, он был главой дома.
Напрасно Эварист просил, чтобы его оставили в прежних комнатках, пани Эльжбета даже не отвечала ему.
Наконец день отъезда, который столько раз откладывался, был назначен окончательно. К тому времени уже огласили завещание и прочли в нем запись в пользу Мадзи и Зони, таким образом, Эварист имел возможность под предлогом частичной выплаты по дарственной (хоть она и была обусловлена вступлением получательницы в брак) отвезти какую-то сумму Зоне. К этому еще и Мадзя, подкараулив его в канун рождества, украдкой добавила что могла из своих, попросив захватить с собой еще и письмо.
По прибытии в Киев Эварист на следующий же день отправился к Зоне, пошел утром, так как хотел застать ее одну.
Зони не было дома, но словоохотливая новая служанка уверяла, что пани вот-вот придет. Эварист решил подождать.








