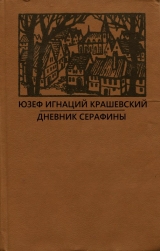
Текст книги "Сумасбродка"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
Вторая часть
На пасхальные праздники Эварист приехал в Замилов, где его всегда ждали и встречали с нетерпением.
В этом году старый отец его, как это часто бывает с пожилыми людьми, которые всю жизнь чувствовали себя здоровыми, вдруг сильно расхворался. Причиной была незначительная простуда, сама болезнь не носила угрожающего характера, однако последствия оказались куда печальнее, чем можно было предвидеть. Пролежав долгов время в постели, пан Элиаш встал с нее, опираясь на палку; ноги у него опухли, он сильно ослабел. Его бедная жена обливалась слезами, сам он, однако, прикидывался веселым, много шутил и всячески старался скрыть от жены свои страдания.
Но про себя он хорошо знал, что конец его близок, и по старому обычаю, никого не тревожа, в полном спокойствии ума и духа, начал заблаговременно распоряжаться своим имуществом и прочими делами, чтобы, не дай бог, не обременять свою Эльжуню лишними хлопотами; он даже обдумывал порядок собственных похорон, оберегая ее, бедную, и от этой заботы.
С той деликатностью, какую дает лишь сила великой любви и сила характера, хорунжий производил эти приготовления так, чтобы жена даже не догадывалась о них.
Единственными посвященными были старый Пиус и ксендз Затока, помогавшие пану Элиашу в его святой лжи.
Ксендз напрасно пытался доказать хорунжему, что спешить ему нечего.
– Зря ты, пан хорунжий, тревожишься, – говорил он ему с глазу на глаз, – отойдут ноги, вернутся силы, и будешь себя чувствовать как рыба в воде, а это все пустое.
– Не зуди, не зуди, ваше преподобие, – слегка усмехаясь, отвечал хорунжий. – Коли даст господь бог здоровья, буду благословлять его имя, а велит явиться к нему на суд, что ж, да исполнится воля его. Я сам ничуть не тревожусь, просто на всякий случай хочу оставить дела в порядке… У бедной Эльжуни будет и так трудов невпроворот, надо уберечь ее от лишнего беспокойства. Да и всякому во вред коли ладу в деле нет.
Для составления завещания призвали чиновника, и какие же понадобились ухищрения, чтобы скрыть от обожаемой супруги истинную причину его приезда в Замилов.
Отвозил бумаги ксендз Затока, вручал их ему в строгом секрете старый Пиус, присутствие судейских в доме объясняли какими-то спорами о межах.
Словом, хорунжий все обдумал, с завидным вниманием не упускал из виду ни малейшей мелочи.
– Вот помру, – говорил, – и вы все тут головы потеряете. Все пойдет шаляй-валяй, держи-хватай, объявятся всякие бездельники и много шкоды наделают.
Уже и гроб стоял в сарае, сделанный по мерке и сухой, и загодя был куплен ящик свечей, который хорунжий велел хорошенько обить железом и поставить повыше, чтобы уберечь его от крыс.
Ксендз Затока имел распоряжение насчет похорон; хорунжий велел устроить их скромно, без излишеств. Пиус знал, где и как, в какой посуде оставить поминальное угощение.
Разумеется, в завещании не были забыты ни Мадзя, ни Зоня. Впрочем, поскольку о судьбах последней почти не было сведений, так как Эварист даже с ее сестрой старался не разговаривать на эту тему, хорунжий сделал в своей записи оговорку, в силу которой наследница не имела права пользоваться основным капиталом, пока не выйдет замуж.
Когда все эти формальности были завершены, разумеется втайне, старый помещик успокоился и, очевидно желая увеселить себе и близким остаток своих дней, неизменно выказывал отличное расположение духа и такие откалывал словца, что его благоверная не могла надивиться.
Сына хорунжий встретил с особенной нежностью; его мучили дурные предчувствия, он боялся, что они уже не увидятся, а ему хотелось потолковать с Эваристом с глазу на глаз, как мужчина с мужчиной, о будущем, о всяких вещах, о которых распространяться в письмах не пристало.
С не меньшим нетерпением поджидала сына мать, веря, что прибытие сына сразу поставит отца на ноги. Ну, а Мадзя, та ждала Эвариста как брата, который наконец расскажет ей о сестре; то, что она так мало знала про Зоню, заставляло ее теряться в наихудших домыслах.
Когда Эварист приехал, семья нашла его возмужавшим, мать, однако, утверждала, что он похудел, осунулся, что лицо у него какое-то грустное, и хотелось ей, по старопольскому обычаю, положив конец наукам, оставить сына в деревне, выделить ему фольварк да уж заодно чуть ли и не женить его.
Хорунжий в ответ лишь кивал головой; высказать свои мысли жене он не мог, но в душе говорил себе: «И к чему выделять один фольварк, когда скоро и так все свалится ему на голову». Да, бывает у старых набожных людей ясное предчувствие своего конца, только дается оно избранным.
Во время праздников в Замилов постоянно наезжали гости, было много хлопот и мало возможностей для тихих задушевных разговоров. С начала католической пасхи почти не было дня, чтобы кто-нибудь не приезжал, не ночевал, а иногда принимали в Замилове и по нескольку гостей зараз, что больше всех радовало пани Эльжуню, ведь они развлекали ее старика.
Напрасно Мадзя подъезжала к кузену, стараясь вытянуть из него сведения о сестре. Эварист отделывался общими словами, явно избегая долгих разговоров. Наконец однажды вечером девушка изловила его и так прижала к стене, что он уже не мог отвертеться. Ладно, раньше ли, позже ли, решил он, испугавшись, как бы ее, неподоготовленную, случайное известие о Зоне не поразило подобно грому небесному.
А Мадзя, побуждаемая привязанностью к своей единственной, продолжала допытываться, да и любопытство в ней разгоралось: что же это такое, если это скрывают даже от нее, родной сестры?
– Сама знаешь, милая Мадзя, – сказал Эварист, когда она со слезами снова стала к нему приставать, – знаешь и понимаешь: будь у меня хорошие вести, я бы их давно тебе передал.
– Но что же это может быть, боже мой! – восклицала девушка, – лучше уж знать, чем додумываться до наихудшего…
– Ты никогда не додумаешься до такого, что превзошло бы печальную правду, – отрезал Эварист.
Мадзя расплакалась, но сквозь рыдания продолжала твердить, что хочет знать все как есть, всю историю своей сестры.
Рассказать напрямик «все как есть», не упоминая о влиянии ложных понятий и пылкого темперамента, Эварист не мог; голые факты показались бы Мадзе еще более ужасными, чем были в действительности. Он должен был хотя бы в общих чертах объяснить девушке, выросшей в деревне, воспитанной в страхе божьем и почитании традиций, какими новыми идеями питаются молодые головы и в каком превратном свете видят весь мир.
Мадзя, то и дело восклицавшая: «Но этого не может быть!», слушала недоверчиво. Надо было наконец приступить к сути дела. С тяжким сердцем, о многом умалчивая, Эварист сначала описал дом Озеренько, где Зоня выросла, а затем Гелиодору Параминскую, у которой она довольно долго жила, собиравшееся там общество, влияние пропаганды Евлашевского, отношения с Зорианом и наконец, дружбу с Теофилом Загайло и пресловутый выстрел…
Изумление Мадзи дошло в конце концов до полного остолбенения, она уже ничего не понимала, кроме одного: сестру надо спасать.
Эварист не все выявил ей, не сказал, что спасти Зоню невозможно, так как после выстрела в Теофила она, переселившись к нему, открыто жила с ним, «на веру», как это там называлось.
Правда, Загайло обещал жениться, но о свадьбе никто ничего не слышал; наоборот, Зоня, бросая вызов всему миру, выставляла напоказ свою любовь и характер их отношений. Свое странное поведение после выстрела она объясняла тем, что хотела сама распорядиться сердцем своим и своей рукой. Ее победило сострадание к раненому.
Доверительный разговор закончился слезами. Эварист как умел утешал и успокаивал Мадзю, но его добрые слова мало чему помогли.
Наутро бедная девушка с покрасневшими глазами объявила Эваристу, что имеет непоколебимое намерение поехать к сестре и, повторила она, спасти ее.
Эварист был вынужден наконец признаться, что говорить о спасении поздно да и раньше это было напрасным трудом. Загайло, выздоровев, уехал с согласия Зони на Жмудь или там в Литву, к родным, якобы для того, чтобы подготовить их к своей женитьбе. Зоня осталась одна-одинешенька и ждет его возвращения.
– Грустный это был бы вид для тебя: Зоня, можно сказать, покинута, больна… ждет того, кто обещал ей быть мужем…
– Но ведь если кого-нибудь из семьи свалила зараза, – возразила Мадзя, – или за какой-нибудь проступок он томится в тюрьме, наш долг не оставлять его в беде, помогать… Чем больше бед у несчастной Зони, тем больше я там нужна.
– Но как же ты можешь уехать отсюда, не выдавая родителям тайны, которая наверно огорчит их?
– Долг есть долг! – упрямо повторяла девушка. – Перед пани Эльжуней упаду на колени и расскажу ей… не все. Она меня поймет и позволит ехать, пан хорунжий тоже не станет противиться. Так или иначе, я должна быть там.
Эварист напрасно старался отвести ее от этого намерения. Мадзя, такой обычно послушный, покорный ребенок, была неузнаваема.
– Двое нас на свете, – говорила она, – и сироты мы. Ничего и никого нам господь бог не дал, кроме друг друга. Ах! Как же я могу ее оставить?
Несмотря на уговоры Эвариста, пани Эльжбета на следующий же день знала если не все, то, по крайней мере, то, что Зоня несчастлива и, быть может, нуждается в своей сестре. Она тут же призвала к себе сына, попросив объяснить ей, как обстоят дела. И пришлось Эваристу, хотя и в значительно смягченном виде, посвятить мать в кое-какие подробности.
Дошло это и до старого Дорогуба, а тот с глазу на глаз учинил сыну форменный допрос, справедливо догадываясь, что там, должно быть, было еще кое-что сверх того, в чем сын признался женщинам. От отца Эварист не мог таиться, да и хорунжий экзаменовал его так, что без лжи ему бы не вывернуться. И он рассказал все как есть по правде, только просил не передавать этого женщинам.
У старика слезы потекли из глаз, он долго молчал.
– Зачем же Мадзе туда ехать, – проговорил он наконец. – Ту уже разве что один бог спасет, а эта хлебнет там лиха и, что еще хуже, сама измарается, доброе дитя, ухаживая за той несчастной замаранной.
Однако в конце концов все согласились, что Мадзе с ее жертвенной любовью к сестре не следует так уж сопротивляться, а запретить ей ехать и подавно нельзя.
– Да творится воля божия, – сказал хорунжий, – это ее бесспорный долг, пусть едет! Только как отпустить ее одну!..
Несколько дней они с женой втайне советовались о том, кого бы дать Мадзе в попутчицы. Заодно пан Элиаш прикидывал, сколько денег понадобится на эту поездку, с тем чтобы его воспитаннице не пришлось считать каждый грош.
Было у Мадзи две-три тысячи злотых, оставленных покойными родителями и хранившихся у хорунжего в процентных бумагах, о них девушка и попросила; старик покачал головой, покрутил усы и из своей шкатулки выложил тысячу злотых, не требуя никаких расписок.
– Пусть пользуется во славу божию, – сказал он, – зачем ей тратиться из своих сиротских.
Жена его, опасаясь, что ее любимице может не хватить на сестру, добавила небольшую сумму из своих огородных и молочных доходов. Словом, Мадзю провожали из дому, как родное дитя. В попутчицы и компаньонки ей определили старую вдову покойного эконома, жившую на хозяйских хлебах в соседнем фольварке. Пани Травцевич, женщина еще весьма подвижная, побывавшая в свете, разговорчивая, была очень привязана к дому хорунжего, и ей можно было доверить Мадзю; по ее словам, она многое испытала в жизни, пока наконец не прибилась к тихой супружеской пристани, отдав руку покойному Травцевичу. Свою девичью фамилию – Маковская, – которую сама почитала сенаторской, она вскоре сменила, выйдя замуж за поручика с какой-то немецкой фамилией; вторым браком она была за мелким арендатором Рабчицом, который оставил ее прозябать в нищете, пока не появился вышеупомянутый Травцевич; этот оказался честным человеком, пошла она за него с горя, а была с ним счастлива. Детей она никогда не имела, в молодости была, как говорили, красавицей и часто подолгу рассказывала, как бегали за ней мужчины, над интригами которых она неизменно торжествовала. Еще и теперь это была представительная матрона, высокого роста, с прекрасной осанкой, полная, с завитыми, несмотря на седину, волосами и сложенными сердечком губами в сетке мелких морщин.
Единственным недостатком бывшей обладательницы сенаторской фамилии была ее чрезмерная словоохотливость. Пищу для рассказов она черпала из сокровищницы своего богатого прошлого.
Хотя Эварист тоже должен был вскоре возвратиться в Киев, Мадзя, умиравшая от нетерпения и тревоги, рвавшаяся исполнить свою миссию, отказалась ждать его. Пани Травцевич тоже не терпелось воспользоваться случаем, чтобы прокатиться в Киев, в котором она давно не бывала.
Собирались чуть ли не целую неделю. Из такого дома, как дом хорунжего, никогда не уезжали без припасов, и любимую свою воспитанницу пани Эльжбета тоже не могла отпустить без всего необходимого в дороге. А необходимым записным домоседам представляется великое множество вещей.
Мадзя рвалась ехать, но уезжала в тревоге и тоске по тем, кто оставался здесь. Мало она выезжала в своей жизни, а уж о том, чтобы одной оставить замиловские пороги, даже не помышляла; первая поездка, да с такой целью, не могла ее не беспокоить. Долгим было ее прощание со старой опекуншей, обе обливались слезами, а пани Эльжбета не уставала твердить Мадзиной компаньонке:
– Береги же мне Мадзю, прошу тебя, она так легко теряет голову…
На что достойная матрона неизменно отвечала:
– Можете, пани, не беспокоиться, с кем-с кем, а уж со мной она будет в полной безопасности. Буду ее беречь как зеницу ока.
Хорунжий, которого не оставляли дурные предчувствия, благословил свою воспитанницу без слов, только под конец проронил:
– Ты исполняешь свой долг – дай тебе бог удачи. Счастливого возвращения!
Через несколько дней должен был уехать и Эварист, с наказом помогать вдове в опеке над Мадзей.
После молебна в домашней часовенке, который отслужил ксендз Затока, груженная доверху бричка с плачущей девушкой тронулась; хорунжий из окна и его жена с крыльца провожали ее крестным знамением. Мадзя обещала писать и докладывать о себе.
Пусто сделалось в Замилове, когда не стало там веселой девушки, занимавшей на первый взгляд такое незначительное место в доме. Пани Эльжбета задумчиво пересчитывала вслух остановки и ночлеги: сегодня Мадзя переночует там-то, завтра, бог даст, должна доехать до той корчмы… и т. п.
О том, что ее грызло больше всего, о Мадзином приезде в Киев и встрече обеих сестер, таких непохожих одна на другую, она не говорила. Эварист тоже был до крайности обеспокоен, он просто не мог себе представить, как смогут они примириться и найти общий язык. Ему не терпелось уехать, чтобы в случае необходимости служить помощью неопытной Мадзе.
В самом деле, девушка еще никогда в жизни ничего не предпринимала самостоятельно, по своей воле. Но любовь дает нам отвагу и стократ умножает силы.
В Киев Мадзя приехала, измученная не столько дорогой, сколько непрерывными рассказами пани Травцевич, в девичестве Маковской, особенно об одном гусарском офицере, которого эта дама покорила.
Теперь, когда Мадзя оказалась у цели, она в полной мере почувствовала трудность своей задачи и своего положения. Переночевав в заезжем доме, она с раннего утра отправилась в костел, а оттуда велела себя везти прямо к сестре. Пани Травцевич очень хотела сопутствовать ей, однако Мадзя решительно заявила, что должна поехать одна. Компаньонка сослалась на наказы пани Эльжбеты, даже как бы обиделась, но Мадзя обняла ее, стала упрашивать, и та смягчилась.
С бьющимся сердцем поднималась Мадзя по ступенькам указанного ей дома. Неряшливая служанка, подозрительно приглядываясь к гостье, ввела ее с черного хода в бедную темноватую квартирку. В маленькой прихожей с неподметенным полом и с кучами старья во всех углах, царил редкостный беспорядок. Следующая комнатенка, что-то вроде гостиной, была так запылена, что казалась нежилой. Через нее надо было пройти в спальню, где, но словам служанки, лежала больная хозяйка. Все, что здесь видела привыкшая к аккуратности и сельскому достатку Мадзя, свидетельствовало об убожестве и запустении.
В комнатке с одним окном, на застланной какой-то дерюжкой кровати, сидела бледная Зоня, держа в руках украшенный голубыми ленточками детский чепчик.
Около нее стояла пустая колыбель. На лице больной застыло выражение отчаяния, замкнутого в себе, безразличного ко всему окружающему. Увидев незнакомую женщину, которая в тревоге и волнении переступала порог, Зоня уставилась на вошедшую, явственно давая понять, что не переносит навязчивых визитов. Взгляд ее говорил: «Зачем ты здесь?»
Она не узнала сестру, даже не догадывалась, кто это, а та была так смущена и убита, что должна была постоять на пороге, чтобы перевести дыхание и собраться с силами.
Зоня, не выпуская из рук чепчика, молча смотрела на незнакомку, готовая вспыхнуть при первом ее слове. Не сестру видела она в ней, а какое-то не в меру жалостливое создание, в утешениях которого не нуждалась.
Наконец Мадзя опомнилась, быстро шагнула вперед, обошла колыбельку и, раскрыв объятья, воскликнула:
– Зоня, милая, это я – сестра твоя, Мадзя! Это я… И упала на колени перед кроватью.
Зоня вздрогнула и еще пуще побледнела, казалось, этот рвущийся из сердца крик найдет отклик и в ее сердце. Один бог ведает, что в ней творилось, но она протянула сестре руку.
– Ах! Это ты? Мадзя!
Мадзя бросилась ей на шею, с минуту обе молчали.
– Я ведь приехала к тебе не просто так, – начала Мадзя, присаживаясь около Зони, в то время как та сидела задумавшись и угрюмо молчала, – Я знала, что ты, может быть, нуждаешься в утешении, в сестринском участии.
– Утешение, утешение! – пробормотала Зоня, вертя в руках детский чепчик. – Нет на свете утешения никому и ни в чем. Жизнь это сплошная мука… и ничего больше.
– Зоня, родная, жизнь – это испытание, испытание человеческой души. Но господь бог…
Тут Мадзя замолчала, заметив, как губы сестры искривились в усмешке, – такой желчной, полной такой горечи и неверия, что девушка испугалась кощунства.
– Понимаю, – медленно проговорила Зоня, – ты, набожное дитя, приехала не столько с утешением, сколько с желанием обратить меня на путь истинный. Хочешь спасти заодно и мою душу, и свою. Мне очень неприятно, но предупреждаю: со мной у тебя ничего не выйдет. Однажды я прозрела и назад во тьму не вернусь. Напрасны твои старанья!
– Зоня, родная моя, – живо откликнулась Мадзя, – если бы я могла отдать тебе мою веру и мое счастье и душевный покой – ох, видит бог, отдала бы не задумываясь, но пришла я прежде всего с тем, чтобы служить тебе, помогать, облегчить…
– В чем? Как? – возразила Зоня ироническим тоном. – Сама видишь, пусть худая, но крыша над головой есть, с голоду я не умираю, а остальное…
– Ты больна? – спросила Мадзя, краснея.
– Видишь, – подняв руку, державшую чепчик, и указывая на колыбель, ответила Зоня, – я перенесла тяжелую болезнь, одна – его не было, – для того, чтобы произвести на свет ребенка, первый крик которого был и последним. До сих пор стоит он у меня в ушах и в сердце, я слышу, как отчаянно рванулся этот ребенок к жизни, а потом… умер… умер!.. Я предчувствовала, что он не будет жить, но боролась с собой, надеялась отвоевать его у смерти…
Две тихие слезы скатились по ее щекам. Мадзя слушала, не смея сказать ни слова.
– О, счастливое дитя, оно умерло, – продолжала Зоня. – Вернуться в небытие, в ночь молчания и смерти, – это еще счастье по сравнению с нашими судьбами: борьба без цели, бесконечные разочарования, повальное разложение вокруг и как бы в насмешку среди этой мусорной кучи – какая-то искра в человеке, которая ярко горит и светит, показывает, объясняет и побуждает к мечтам о том, чего никогда не было и не будет. Судьба ангела, превращенного в отвратительного скота, который, чувствуя себя ангелом, вынужден быть животным…
С опущенными глазами прислушивалась Мадзя к этим выкрикам боли, но улавливала только звук слов; скорее встревоженным сердцем, чем разумом, догадывалась она об их безбожном, кощунственном смысле. Мудрый инстинкт подсказывал ей, что увещания были бы тут бесполезны, что единственно подвиг любви мог свидетельствовать о вдохновлявшей его вере. Состязаться с Зоней в словесных поединках, к которым та привыкла, не посмела бедная селяночка и покорно смолчала.
А Зоня, однажды начав свои горькие излияния, уже не могла остановиться.
– Жизнь? Ты называешь ее испытанием? Счастлив тот, кто выходит из него непобежденным. Это действительно испытание, в особенности для разума, который, ничего не умея понять, способен превратиться в безумие.
Не скоро и с большим трудом удалось терпеливой Мадзе оторвать Зоню от мыслей, в которых та витала, и навести на житейские события, более близкие ее пониманию.
– Теофил, то есть тот, что должен быть моим мужем, – смело откликнулась Зоня на вопрос потупившейся сестры, – поехал навестить семью. Мы будем жить бедно, мне кажется, что его родители – на Жмуди или там в Литве – простые крестьяне. Впрочем, не знаю, мне это безразлично. Хорошо, что ребенок умер, нам и вдвоем-то трудно будет прожить. Почти все, что мне досталось от Озеренько, растрачено. О, уроки жизни дорого стоят! – язвительно прибавила Зоня. – Я была слишком доверчива, участлива, каждый, кто хотел, пользовался моей ребячливостью.
– Не беспокойся об этом, – вставила Мадзя несмело, – я тебе привезла все, что у меня было. Зоня, притихнув, глядела на нее.
– Ничего от тебя не приму, – сказала она помолчав, – не пристало мне пользоваться твоим добродушием и легковерием. Ты сирота, и тебе, как и мне, придется когда-нибудь жить самостоятельно.
– Э, у меня есть пани Эльжбета, она меня не оставит, они оба добрые и любят меня как родную дочь.
– Да, и используют тебя, как бесплатную служанку, как рабу, – возразила Зоня. Обе замолчали. У Мадзи выступили слезы на глазах, но она, уважая сестринскую боль, понимала, что сопротивляться Зоне нельзя.
Немного погодя она поднялась и стала скидывать с себя все, что могло помешать ей работать.
– Позволь мне, пока я здесь, – просительным тоном обратилась она к сестре, – заняться твоим хозяйством. Твоя служанка, вижу я, занята чем-то другим и немножко запустила дом.
Зоня пожала плечами.
– Не все ли равно, как выглядит подстилка, на которой лежит нищий, – почище она или погрязней.
Но Мадзя, не слушая, уже принялась хлопотать. Служанка, которая, сложа руки, приглядывалась из другой комнаты к посетительнице и прислушивалась к разговору, исчезла, и Мадзя, которой нужно было посоветоваться с ней, пошла ее искать. Лежавшая на своей постели Зоня проводила сестру долгим взглядом. Она смотрела на нее как на диковину, это тихое создание явно казалось ей загадкой.
Хаос, царивший в доме, превосходил всякое понимание. Денег не было совсем, последние Зоня истратила на похороны ребенка и могильный камень. Торговцы, которым давно не платили, не хотели отпускать в кредит. Прежде всего надо было снабдить служанку деньгами и отправить ее в город за покупками.
Мадзя, велев ей поторопиться, сама тут же взялась приводить в порядок невероятно запущенную квартиру. Зоня, поглядывая то на нее, то на чепчик, который не выпускала из рук, пожимала плечами.
Между делом Мадзя время от времени вставляла слово о доме в Замилове, о своих опекунах, упомянула и об Эваристе, который должен был вскоре приехать.
– А, Эварист, – подхватила Зоня усмехнувшись. – Стоило мне захотеть, он стал бы и моим опекуном, он ведь был влюблен в меня, как многие другие… Ах, эта их любовь, – прибавила она, – да и он не лучше других. Думал, что легко вскружит мне голову.
Мадзя, которой ничего подобного не приходило в голову, густо покраснела и воскликнула с возмущением:
– Он? Эварист? Да это же благороднейший человек на свете. Если бы он был в тебя влюблен, он сказал бы об этом родителям и женился бы на тебе.
Зоня презрительно фыркнула.
– На мне! Он! Ну и парочка бы вышла, худшей не придумаешь. Святоша он, как все вы там, а я язычница и дикарка!
– Но, Зоня… – начала было сестра.
– Да, да! Я не умею ни лгать, ни притворяться, ни скрывать свои чувства и мысли, как учат вас с детства! – восклицала Зоня. – Потому я и выбрала себе человека такого же дикого, как я сама.
– Эварист любил тебя как сестру, – вставила Мадзя.
– Немножко больше, – не без гордости возразила Зоня, – он мне сам в этом признался. Среди всех этих молодых повес, что вертелись вокруг меня, он был самым сносным, но хотел он того же, что и другие, только просил иначе.
Мадзя вся задрожала, услышав эти слова.
– Эварист – благороднейший из людей! – горячо воскликнула она.
– О, ты, кажется, сама в него влюблена, – вспыхнув, прервала ее Зоня. – Смотри же, как бы его благородство не воспользовалось твоей слабостью. О, все они одинаковы!
– А тот, кого ты выбрала? – осмелилась тихо спросить Мадзя.
Зоня ответила не сразу.
– Тот?.. Не знаю… – начала она, помолчав. – Он, по крайней мере, был искренен, ничего мне не обещал… Да я ничего и не требовала. Если теперь он бросит меня, посчитает, что я ему в тягость, это не будет изменой. Я знала, на что иду.
Для бедной Мадзи весь этот разговор с сестрой был чем-то вроде пытки каленым железом. Каждое слово приводило ее в ужас, ей хотелось кричать, протестовать, но холодная язвительность Зони заткнула ей рот.
Можно себе представить, как беспокоилась пани Травцевич, сидя одна-одинешенька в заезжем доме. Ей не с кем было перекинуться словом, она опасалась за Мадзю, не знала даже, где ее искать, и так должна была просидеть до вечера.
Мадзя, проследив за приготовлением обеда, сама накрыла на стол около Зониной постели, что послужило ей предлогом для того, чтобы вынести пустую колыбель, а затем объявила Зоне, что должна сходить в заезжий дом проведать свою спутницу, но на ночь вернется ухаживать за ней.
– Ты мне совсем не нужна, и я никаких долгов благодарности брать на себя не хочу, – возразила Зоня. – Тебе тут и спать-то негде.
– А, неважно, я привыкла спать на полу… – воскликнула Мадзя, – и пока я здесь, я хочу быть с тобой. Пожалуйста, не гони меня. Впрочем, я такая же упрямая, как ты, и прогнать меня будет не легко.
С этими словами она обняла сестру, которая не могла прийти в себя от удивления, накинула на голову платок и убежала, крикнув на ходу:
– До свиданья!
* * *
Вернувшись в Киев, Эварист на следующий же день направился к дому, где жила Зоня.
Он хотел сразу осведомиться об обеих, так как беспокоился о Мадзе не меньше, чем о старшей, однако долго не решался войти, не зная, в каком застанет их виде. Тут ему подвернулась возвращавшаяся из города пани Травцевич с огромным, туго набитым мешком.
Эварист обрадовался ей безмерно, а она ему еще больше, ей уже не терпелось поскорее выговориться, выплакаться, рассказать о своих переживаниях, обо всем, что приключилось.
– Ах, сам господь бог послал нам вас во спасение, – начала бывшая носительница аристократической фамилии, отводя Эвариста в сторону и ломая руки. – Если бы вы только знали, что тут у нас делается! Чего только не терпит моя несчастная панночка от этой бедной сестры своей. Нет, богом клянусь, долго тут не проживешь, не выживешь!
Поток ее слов лился неудержимо, Эваристу оставалось лишь молча слушать.
– Эта Зоня, дорогой пан Эварист, это ведь ужас что такое! И не девушка, и не замужняя, и ни во что не верит, и надо всем смеется, и говорит такие вещи, смилуйся над ней, боже, что у меня, старухи, волосы на голове встают дыбом, а бедная панночка сгорает от стыда, а та знай себе кощунствует, ни упросить ее, ни рта ей не заткнуть. Как назло!
Наша панночка, говорю вам, пан Эварист, это святая, у нее ангельское терпение, последнюю рубашку готова с себя снять, лишь бы облегчить той ее судьбину. Застали мы ее всю в долгах, почти без хлеба, тысяча с лишним злотых уже ухнуло, фью-у… а конца не видно!
И что меня беспокоит больше всего: когда мы домой-то вернемся? Как подумаю, прямо нож в сердце. Ведь я, признаться, и бельишком не запаслась на такие сроки, а уж что там с моими цыплятами, один бог ведает. Их всех, должно быть, ястреб похватал. Что ж, божья воля. Ничего не поделаешь.
– Как чувствует себя больная? – спросил Эварист.
– Мы застали ее в постели, она еще оплакивала ребенка, которого потеряла… Просто счастье, что бог взял младенчика к себе, хотя, по чести, не знаю, окрестили ли его… Теперь она уже на ногах, встала, ходит, но выглядит ужасно. Ждет известий от своего, ну, от жениха, что ли, хотя, между нами, это вилами по воде писано. Уехал от нее, бросил, сказал, куда-то на Жмудь, к семье торопится, а поди его там найди и спроси с него.
Старуха покачала головой.
– Чего уж там, погибшая душа. Если б они и хотели, благодетели наши, взять ее к себе в Замилов, что с ней там делать? Язык у нее – не дай бог, и как начнет плести неприличности, прямо волосы дыбом, волосы дыбом!
– Мадзя у нее? – спросил Эварист.
– Не оставляет ее ни на минуту, золотое сердце у этой девушки. Но что толку? Наслушается всякой ереси, только уши вянут, а ту и так не переделаешь. Мне тут рядом сняли комнатенку, а Мадзя днюет и ночует у той, и конца этому не видно. Я уже несколько раз спрашивала, а она знай свое твердит: «Как же я могу ее бросить?» Пусть бы уж этот приехал, жених-то, да где там, дождешься ли его и когда?
Кто знает, сколько еще жалоб было в запасе у словоохотливой вдовы, но Эварист, тяжело ступая, уже поднимался на верхний этаж. Тихо было в квартире, когда он вошел, Мадзя, с чулком в руках, сидела, опустив глаза, в первой комнате у окна, а во второй, за столиком, заваленным бумагами и книгами, он обнаружил Зоню, которая, опустив голову на руки, утопавшие в ее кудрях, читала или, может быть, размышляла над раскрытой книгой.
Увидев Эвариста, Мадзя с легким вскриком подбежала к нему; все, по чему она тут тосковала, любимый Замилов, это спокойное гнездо, из которого выгнала девушку буря, вдруг встал перед ее глазами.
Зоня, чье прекрасное лицо, бледное, со свежими следами страданий, показалось Эваристу еще более привлекательным, тоже медленно поднялась со своего места. Слабый, еле заметный румянец на мгновение окрасил ее щеки, она оттолкнула книжку и направилась в первую комнату, где дрожавшая от радости и волнения сестра уже засыпала Эвариста вопросами. Холодно и как-то надменно поздоровавшись, Зоня указала на Мадзю.
– Очень хорошо, что вы приехали, – сказала она, – это бедное существо примчалось сюда на помощь сестре, которой ничем нельзя помочь, и тратит свои силы впустую. Сожалею об этой напрасной жертве, да я и не заслужила ее, потому что сама была бы к ней не способна…








