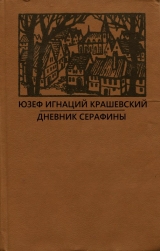
Текст книги "Сумасбродка"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
Квартира была все та же, особых изменений он тут не нашел и, однако, на него дохнуло другой, как бы новой жизнью. Стало чище, больше порядка. На подоконнике стояли цветочки, которых прежде никогда не бывало… Это стремление к элегантности особенно удивило Эвариста.
Среди разбросанных по столику книг он заметил и сборник стихов, и романы о любви, правда, в вызывающе ярких обложках, но говоривших о другом мире.
Он сидел и разглядывал все это, когда вошла Зоня и с порога приветствовала его радостным восклицанием. Видя его в трауре, она, конечно, догадалась о понесенной им утрате.
Зоня, которая уже тогда, во время их последнего свидания, выглядела гораздо лучше, показалась Эваристу еще красивее прежнего; следы былых страданий исчезли совершенно, щечки пополнели, глаза глядели смело и весело, одета она была не без кокетства, на полумужской манер и держалась свободно, с задором, что было ей к лицу.
Она и не думала скрывать радость, охватившую ее при виде Эвариста, схватила его за обе руки, вглядывалась ему в глаза и с волнением повторяла:
– Ах, так ты все-таки вернулся! Я думала, знаешь, я правда думала, что уже никогда тебя не увижу, и чувствовала, что ты мне нужен, и даже сердилась на себя за это!
Эта неожиданная декларация нежности привела Эвариста в неописуемое беспокойство. Ему захотелось убежать отсюда, Зоня будила в нем ощущение опасности.
– Я тебе уже говорила, когда мы виделись в последний раз, – продолжала она, помолчав, – что эти люди, эта молодежь, за исключением тебя одного, вызывают во мне отвращение. Все это такая мелюзга, ребячливая, фальшивая, надутая, хитрая, противная! Не знаю, что за люди из них вырастут.
Она говорила живо, почти не давая Эваристу вставить слово, ей не терпелось исповедаться перед ним.
– Меня уже не забавляют эти молокососы. Куклы, набитые опилками. Как громко они заявляют о своей вере в принципы, от которых завтра отрекутся ради куска хлеба. Помнишь моего уважаемого наставника и отца, Евлашевского, – ты как-то спас меня от его поцелуев. Ведь это был наш вождь, наш пророк, наша звезда ясная… Не знаю, откуда на него пролился золотой дождь, но пророк превратился в препотешного трутня, который избегает своих учеников как прокаженных. Поглядел бы ты на него теперь! Он нас не знает! Боится посмотреть в нашу сторону, скомпрометировать себя боится.
Его alter ego, Зыжицкий, стал управлять какой-то маленькой канцелярией и тоже порвал с нами. Принципы – дело хорошее, но хлеб и покой им дороже. Жалкие ничтожества!
Она с презрением плюнула. Эварист смотрел на нее, внимательно слушал, невольно поддавался очарованию ее горячих слов… и снова восхищался ею, как бывало.
– Бывают у людей светлые минуты, – добавила Зоня, – когда они чувствуют себя благородными, честными…
Но в целом и по натуре своей это подлые существа. Не исключая меня!
Она подняла глаза к окну, у которого сидела, и, надменно сощурившись, погрузилась в задумчивость. Ее прекрасное лицо с этим выражением презрения ко всему миру было подобно древней маске, трагической и страшной одновременно. Эварист не мог глаз от нее отвести.
Немного погодя он начал рассказывать о доме, о Мадзе, стараясь так направить разговор, чтобы иметь возможность передать ей привезенные для нее деньги. Зоня очень удивилась, когда он заговорил о деньгах, но глаза у нее повеселели и она вздохнула с облегчением.
– В моей жизни, – заметила она, – ты один всегда являешься вовремя. Странная вещь, я начинаю верить в фатум, который соединяет нас с тобой. Боюсь, как бы мне не уцепиться за тебя и не повиснуть этаким камнем на шее – ведь ничем другим я быть не могу, только камнем… Увы!
Эварист, взволнованный донельзя, пробормотал несколько невразумительных слов.
– Почему мы считаем наши первые впечатления самыми верными, это вовсе не так, – прибавила Зоня. – Ты вот казался мне сначала невыносимым педантом, а теперь я чувствую в тебе жизнь.
Эваристу хотелось прервать этот опасный разговор, он уже выкладывал на стол письмо и деньги, с тем чтобы поскорее попрощаться, когда в комнату вошла Гелиодора.
И эта с тех пор, как видел ее Эварист, удивительно изменилась: побелела, располнела, стала серьезнее и была гораздо более старательно одета.
– Имею честь представить: пани Гелиодора, – насмешливо произнесла Зоня, – некогда Параминская, вдова, а ныне молодая жена надворного советника Майструка, они поженились месяц тому назад. Ну как? Не сюрприз? Правда, у надворного советника нет зубов, зато есть еда, причем для обоих.
– Да уймись ты, пожалуйста, несносный попугай, – воскликнула Гелиодора. – Чуть что, и у тебя уже чешется язык.
– А как же? – возразила Зоня. – Такая метаморфоза! Гелиодора отреклась от дьявола и дел его, от вечеринок со студентами и диспутов о молодых людях и эмансипациях, зато у нее приличное социальное положение, беззубый советник и…
Заметив, что Гелиодора готова рассердиться, Зоня бросилась обнимать ее и замолчала.
– Могла бы я кое-что и о тебе сказать, ты, дьяволица языкастая, – невежливо отпарировала пани Майструк, – да не хочу мстить.
Зоня слегка покраснела.
– Во всяком случае, вы не можете упрекнуть меня в том, что я перешла в другой лагерь, – ответила она, – а требовать отчета о моей незавидной жизни никто не вправе.
Вероятно, из милой перепалки двух приятельниц Эварист мог бы узнать много интересных вещей, но он воспользовался приходом пани Майструк, чтобы попрощаться с Зоней.
Она проводила его до дверей и на пороге сказала повелительно:
– Приходи же ко мне почаще!
Она сказала это с такой уверенностью в своей силе, как будто знала заранее, что Эварист не сможет ей противостоять.
Он входил к ней с опаской, а вышел в таком упоении, что ему самому было стыдно. Уже не жалость к этой сумасбродной Зоне билась в его сердце, но слепая страсть, которая не помнит ни о завтрашнем дне, ни о достоинстве. То, что должно было бы уберечь Эвариста от опасности – его прошлая скромная и одинокая жизнь, свободная от свойственных юношеству легкомысленных выходок, – как раз стало причиной его слабости. Это была его первая Страсть, вспыхнувшая с такой силой, что бороться с нею он не умел.
Неудержимое желание сблизиться с Зоней соединялось в нем с тревогой – предвестницей опасности. Эварист сам знал, что бессилен перед ней, что она может его свести с прямого пути, и за свое безумие он должен будет заплатить стыдом и слезами.
В этой женщине был какой-то внутренний огонь, мгновенные вспышки которого вливали кровь в охладевшее сердце, побуждая его биться сильнее, бередили душу. Никогда еще Эварист так не мечтал о женщине, это было с ним впервые.
Не желая вдаваться в размышления, так как это действовало на него разрушительно, он направился не домой, а к старому своему знакомому, Эвзебию Комнацкому, надеясь каким-нибудь новым впечатлением стереть в памяти то, что так сильно его взволновало.
On застал Комнацкого за письменным столом; тот сидел обложенный книгами и был все так же сух и как всегда погружен в свои штудии.
Эварист позавидовал ему. Комнацкий уже слышал о смерти хорунжего и встретил приятеля выражением сочувствия.
– Теперь ты, должно быть, вернешься назад, в деревню, – добавил он. – Счастливец! А я, получив степень, очевидно, буду вынужден учительствовать где-нибудь.
– Еще не знаю, когда я вернусь к деревенской жизни, я ведь тоже сначала хочу сдать экзамены, так что некоторое время пробуду здесь.
– Если бы не книги и знакомство с несколькими более или менее серьезными людьми, я бы здесь ужасно скучал, – ответил Комнацкий. – Пробовал я тут для развлечения сойтись поближе со здешней молодежью, посетил два-три раза наших знакомых, пани Гелиодору и панну – или пани? – Зоню, но…
– Пани Гелиодора вышла замуж, – вставил Эварист.
– Знаю, пришлось ей, бедняге, довольствоваться под конец старым советником, и такой же конец ждет эту Зоню… Извини, – прервал себя Комнацкий, – верно ли, что она какая-то твоя родственница?
Эварист слегка покраснел.
– Очень дальняя, – ответил он, – однако ее судьба мне далеко не безразлична.
– Тем хуже, – сказал Комнацкий, – потому что она, по всей вероятности, не из тех, кто может быть счастлив. Это женщина с большими способностями, как мне кажется, но умственно до крайности распущенная. Дурное общество погубило ее.
– А мне кажется, – в свою очередь возразил Эварист, который почувствовал себя задетым и не мог не заступиться за Зоню, – что несчастья, которые она испытала, должны изменить ее к лучшему.
Эвзебий усмехнулся.
– Ха! Дай бог, – сказал он, – но всему есть предел, а эта бедняжка, говорят, переступила всякие границы.
Грустно и больно было Эваристу слышать эти слова, но вместе с тем он усмотрел в них что-то вроде лекарства от своей страсти.
– Меня ведь не было добрых два месяца, – сказал он, – и я не знаю, что она тут делала.
– Ну что, училась и порхала, – ответил Комнацкий. – Молодежь льнет к ней, потому что никогда ничего подобного не видывала у женского-то пола, а она!.. Он пожал плечами.
– Ты не слышал чего-нибудь такого… о ком-нибудь? – несмело спросил Эварист.
– Ничего, кроме сплетен, – ответил Комнацкий спокойно. – Знаю, что тот молодой богач, Зориан, которому уже однажды, говорят, она дала отставку, снова за нею увязался, какое-то время она его принимала, но в конце концов прогнала. Говорили мне и о других, побывавших в милости у нее, дескать, всякого из них ждет все та же участь: поизмывается над ним хорошенько и гонит прочь.
– Но ведь в этом, собственно, еще нет ничего дурного, – возразил Эварист.
Комнацкий поморщился и перевел разговор на другое, а Эварист не хотел его больше выспрашивать.
Он вернулся домой несколько успокоенный, сам себя обманывая и доказывая себе, что, в сущности, их отношения с Зоней были вовсе не так уж опасны для него, как ему казалось вначале. Если ее непостоянство так очевидно, оно само по себе послужит ему надежной защитой.
Наутро, уже поостыв, он на свежую голову все обдумал и вернулся к своему первому давнишнему решению: не встречаться с Зоней, разве что очень редко, словом, по мере возможности избегать ее.
Он настолько овладел собой, что, хотя уже несколько раз ноги сами несли его к Зоне, поворачивал с полпути и шел домой или в другое место.
Так прошла неделя, Эварист торжествовал; однако все его мысли вертелись вокруг одного предмета, хотя он боролся с этими мыслями, запирался в своей комнате, яростно работал.
Однажды вечером, когда он после очередного акта борьбы с собой садился за письменный стол, дверь отворилась и вошла Зоня.
Бросалось в глаза, что деньги, привезенные ей из Замилова, она употребила на чисто женские нужды, – это было на нее не похоже. Ее наряд: шляпка, шубка, муфта, все вплоть до теплых ботинок было, как говорится, с иголочки.
Входя, она остановилась на пороге:
– Можно?
Эварист смешался и вскочил со стула, .
– Пожалуйста, не вскакивай. Вот я сажусь напротив тебя, согреваюсь и ухожу. Ведь визит в эту пору мог бы скомпрометировать такого приличного молодого человека. Но я не могла противиться своей прихоти. Ты не был у меня целую неделю. Гора пришла к Магомету.
Все это она проговорила куда нежнее, чем обычно, как бы ласкаясь, в ее голосе звенело чувство.
– Я был не совсем здоров и очень, очень занят, – ответил Эварист, – и как раз собирался…
– Ах, знаю, знаю, кто не хочет прийти, тот всегда нездоров и занят, – рассмеялась Зоня, бросая муфту на стол и по привычке подпираясь руками. – Потому-то, – прибавила она, – непременно захотев тебя видеть, я пришла сама.
Она вздохнула.
– Видишь, какая я стала покорная и кроткая, вместо того чтобы бранить тебя, я оправдываюсь. Что сталось с этой Зоней!
Эварист слова не мог найти в ответ, кровь в нем так и кипела, огнем бежала по жилам. Зоня, немного печальная, сидела спокойно, только упорно смотрела ему в глаза.
– Знаешь, даже по вашим христианским заповедям, хотя бы из одной жалости тебе следовало приходить и наставлять несчастную погибшую грешницу на путь истинный, – начала она снова, – а тут грешница сама была вынуждена прийти, чтобы вводить в искушение анахорета.
Надо было обратить это в шутку, и Эварист сказал, что отклоняет от себя такого рода титул.
– Если не анахорет, тогда ну… пуританин. Хотя были минуты, когда ты любил Зоню.
С этими словами она поднялась со стула и начала прохаживаться по комнате. Заглянула в другую, разглядывала книги, с женским любопытством отгадывая жизнь Эвариста по принадлежавшим ему вещам.
Какая-то книжка привлекла ее внимание; не спрашиваясь, она сняла ее с полки и вложила в муфту. Как с самим Эваристом, так и с его имуществом она обходилась по-хозяйски, точно имела на это право.
Раза два обошла таким образом комнату, затем взяла свою муфту с книжкой.
– Иду. Ты не проводишь меня?
– Охотно, но что, если мы там застанем обычное общество?
– Никого не застанем, я всех выпроводила. Зориан снова хотел меня осчастливить, двум-трем другим я тоже должна была указать на дверь… и теперь скучаю, как хорошо воспитанный ребенок. Ты обязан возместить мне понесенный ущерб!
Так переговариваясь, они медленно спускались с лестницы. На улице мело, пошел густой снег. Эварист кликнул санки, оба сели, извозчик галопом погнал коней.
– Ах! Мчаться бы вот и мчаться до края земли, закрыв глаза!
Зоня прильнула к Эваристу.
– Не вели ехать домой, давай поедем далеко-далеко. Такой славный мороз, я постепенно засну, а во сне, говорят, и смерть легка. Так и умру, прижавшись к тебе…
Она замолкла.
Спустя короткое время они остановились у подъезда.
– О, уже! – сказала Зоня, вставая, – так скоро…
И опершись на руку Эвариста, молча, как бы задумавшись, медленно побрела к лестнице. Так они поднялись наверх.
Здесь Зоня очнулась: позвала служанку, велела поставить самовар, подать чай.
– Мы будем одни, в метель никто не придет, – бросила она Эваристу.
Эваристу казалось, будто все это происходит во сне, мучительном и вместе с тем чудесном… Зоня, хотя она как бы не обращала на него внимания, хорошо видела, что с ним творится. Иногда по ее губам пробегала язвительная, но веселая улыбка.
В ожидании чая они начали разговор о Замилове, о сестре, о будущем.
– И ты неминуемо зароешься в деревне, – заключила Зоня. – А деревня – это род берлоги, где медведи проводят зимнюю спячку, вот и будешь там удобно спать всю жизнь. Женишься, конечно, на добродетельной и спокойной девице, которая будет тебя очень любить… за неимением кого-нибудь другого. Все это прекрасно, не знаю только, можно ли такую жизнь назвать жизнью, скорее – умиранием. Все притупляется, чувства, мысли, человек цепенеет, застывает душой, не страдает, не воспринимает боли. Мало-мальски смелую мысль укротит благочестивый ксендз, страсть уймется в объятиях жены, сердце удовлетворится объятиями детей. Но жизнь ли это?
Эварист не посмел ей противоречить, хотя ее насмешки жестоко ранили его. Он только заметил:
– Далеко мне еще до такой жизни, Я и не думаю о женитьбе.
– А, женят тебя и так.
– Пока что не имею желания. Зоня посмотрела на него.
– До такого сокровища, как ты, найдется немало охотниц, и какая-нибудь подцепит тебя в конце концов.
Подали чай. Впервые Зоня сама начала разливать его, раньше это делала служанка.
– Вот видишь, – сказала она, – я выучилась женским обязанностям, ведь чем еще можем мы, бедные, вам угодить? Мы обрубаем для вас носовые платки, стряпаем, варим варенье и вытираем детям носы. Ваша женщина – это все еще по-старому служанка… Она не смеет поднять головы, не смеет ни думать, ни распоряжаться собственным сердцем, потому что вся как есть принадлежит своему господину. Нет, то, что вы можете жить с такими манекенами, любить их, ласкать и выдерживать это, не делает вам чести. Если бы я была мужчиной, я хотела бы любовницу, равную мне.
Эварист молчал.
– С невольницами удобнее, – бросила Зоня, подавая ему чашку. – Знаешь, – вдруг прибавила она, – можно даже подчиниться тому, кого любишь, это я понимаю, но – добровольно!
– Прости меня, Зоня, – возразил наконец Эварист, – но боюсь, не принимаешь ли ты за любовь минутную вспышку воображения.
Зоня побледнела, у нее блеснули глаза.
– Ты так думаешь? – спросила она. – Я не знаю – а есть ли другая любовь? О той, вечной, нечего и говорить, такой не бывает.
– Но любовь может перерасти в прочную дружбу, – сказал Эварист.
– Просто в привычку, – возразила Зоня, – но и привычка имеет свою ценность…
И, скривив губы, прибавила:
– Не суди меня строго, Эварист, не было у меня никаких вспышек, я, может, и не любила никогда, только искала любви, хотела ее… Но однажды сердце найдет то, за чем так жадно гналось…
Она не договорила, остальное было досказано молчанием.
Час был поздний, Эварист сидел как на раскаленных углях; наконец он встал и начал прощаться. Зоня посмотрела на него с беспокойством.
– Ты вернешься ко мне? – спросила она, хватая его за руки. – Не оттолкнет тебя моя дерзкая навязчивость? Ты вернешься?
Эварист прошептал что-то в ответ.
– Ты придешь… Я приказываю тебе. Не сопротивляйся этой своей… симпатии ко мне, – с улыбкой прибавила Зоня.
Она положила ему руку на плечо, склонила к нему голову:
– Завтра… помни! Завтра.
* * *
Трудно было бы найти на свете менее заметного и более ловкого человека, чем Ефрем Васильев. Нажив изрядное торговое дело и недурную недвижимость, он вовсе не успокоился на том, что имел, но мало использовал, и молча раздумывал день и ночь, как бы нажить побольше. Он уже видел, как вдруг, словно грибы из-под земли, вырастают огромные состояния, было у него и за что зацепиться, ибо он и значительный оборотный капитал носил в грязном бумажнике под своей красной рубахой, опасаясь доверить его кассе, годы его не угнетали, голова работала исправно, нива, на которой он трудился, обещала хорошие плоды, вот и ломал он ее, головушку, как все это пустить в дело.
Больше всего заботил Васильева каменный домишко, купленный с мыслью об увеличении доходов и не вполне отвечавший своему назначению. Едва обновленная квартира на верхнем этаже нашла после долгого ожидания жилицу, как тут же, к несчастью, и потеряла ее. Евлашевский, который унаследовал квартиру от вышеупомянутой дамы, и не думал оставаться в ней сверх оплаченного срока, наоборот, был даже рад избавиться от нее.
Досада за эту обреченную пустовать квартиру так донимала Васильева, что в конце концов навела его на счастливую мысль.
Он решил устроить в верхнем этаже что-то вроде чайной и маленького ресторана. Это было отличным средством пускания в выгодный оборот многих предметов торговли с нижнего этажа и привлечения новых выгодных знакомств. Не обойдется без хлопот, но присмотреть одновременно за лавкой внизу и заведением наверху вполне под силу деятельному и с зорким глазом хозяину. Студенческую молодежь, с которой Васильев состоял в разнообразных отношениях, удастся привлечь без труда, да и остальная публика, как считал предусмотрительный хозяин, не сможет не почтить его милостивым вниманием, особенно во время оживленных ярмарок.
Васильева ждали новые расходы, для приманки клиентов надо было по образцу московских ресторанов привезти из Дрездена маленький хотя бы оркестрион [7]7
Орган с механическим заводом, имитирующий оркестр.
[Закрыть], обзавестись новым инвентарем… но он мог себе это позволить.
Васильев недолго думал, едва избавившись от Евлашевского, он мигом привел свою мысль в исполнение; когда Эварист вернулся в Киев, чайная уже была открыта и, как все новые заведения, пользовалась большим успехом. Особенно охотно посещали ее студенты, имевшие там отдельную комнату, где они могли вволю шуметь и пользоваться разными другими привилегиями.
Сходились тут и учащиеся, а временами и ученый мир на чашку отличного чая, к которому всегда можно было заказать закуску, а в случае надобности и вино, даже шампанское.
К тому же хозяин тут был, как говорится, душа человек; веселый и с виду покладистый, он казался образцом дружелюбия. Случалось тут бывать и стремившемуся к популярности пану профессору, и какому-нибудь иностранцу, любознательному путешественнику, которого приводил один из местных клиентов.
Словом, сюда захаживали по пути почти все, кто так или иначе соприкасался с молодежью.
Васильев не старался блеснуть изысканным ассортиментом, но то, что он подавал, скромными, впрочем, порциями, было хорошего качества, а чай просто отменный. И вечерами, особенно зимними, в задней комнате, где всякий курил сколько и что хотел, любое именуемое табаком изделие, было полно небольших, но шумных компаний.
Однажды, а уже повернуло к весне, хотя льды и снега стойко держались на своих местах, в этой комнате сидела группа молодых людей и несколько человек постарше. Был тут и Эвзебий Комнацкий, и красавец Зориан, и кое-кто из тех, кто во времена Евлашевского усердно посещал пани Гелиодору.
– Многое тут изменилось за этот год, – говорил один, – вот потеряли мы Евлашевского, который взял да и сбежал от нас.
– Оставь его в покое, – возразил другой, – вероятно, он должен был так поступить по каким-то важным причинам. Я его не виню.
– Я бы тоже не хотел, – возразил первый, – но мне это непонятно, и, как ни верти, это все-таки дезертирство.
– Ну, ну, – послышались голоса, – такой крупный деятель, призывавший к активной жизни, не годится осуждать его.
– Подождем, в конце концов прояснится, – вставил кто-то.
– Подождем, подождем: то ли прояснится, то ли станет еще темней, – поправили его.
Послышались смешки.
– Наша почтенная Гелиодора ходит в советницах, теперь к ней не заглянешь, – говорил кто-то в стороне. – Встретишь на улице, лучше и не кланяйся, – отвернется: nescio vos [8]8
я вас не знаю (лат.).
[Закрыть].
– Чего ты хочешь, она боялась состариться, а никто другой не спешил вести ее к алтарю.
Кто-то из темного угла выступил с несколько вольным комментарием; в ответ снова раздался сдавленный смех, иные протестовали.
– Все это пустяки! – вмешался еще один. – Больше всего мне жалко Зоню. Она была нашей героиней, нашей Титанией, другой такой женщины нет на свете, а мы и ее потеряли!
Зоней горячо интересовались многие, и уже завязался было оживленный разговор, уже в разных углах зазвенели молодые голоса, когда в комнату, напевая малороссийскую песенку, вошел Тадзяк, самый резвый из тех юнцов, что предаются не столько наукам, сколько болтовне и всякому шутовству; он привел с собой гостя, которого в последнее время часто видывали тут по вечерам.
Это был иностранец, приехавший несколько месяцев тому назад; его знали почти все, во всяком случае, сталкивались лицом к лицу, но кем, собственно, он был, что делал, зачем приехал и почему сидит здесь столько времени – этого никто не мог сказать.
Называл он себя французом и фамилию носил французскую, на его визитных карточках было написано: «Monsieur Henri d'Estompele», однако отлично говорил по-немецки, что у французов большая редкость, неплохо изъяснялся на английском, на итальянском и понимал по-русски, хотя калечил этот язык так же немилосердно, как польский; к тому же не было в Европе человека, с которым, по его уверениям, он не поддерживал бы дружеских отношений, и не было предмета, о котором не мог бы судить с таким апломбом, как если бы был одним из посвященных.
Тип коммивояжера, но высшей марки: сообразительность, знание людей, или, скорее, та инстинктивная оценка, какая дается огромным опытом; ушки на макушке и взгляд, который, казалось, видит не глядя; при этом изящная наружность, общительность, беспредельное любопытство в сочетании со способностью выпытывать, но насчет того, чтобы самому проговориться – ни, ни! Среднего роста, гибкий, всегда тщательно одетый, надушенный, напомаженный, пан Генрик, как его тут звали, вращался во всех кругах, какие только были ему доступны. С почти бесстыдной навязчивостью искал он знакомства с аристократами и влиятельными чиновниками, низко кланялся им, даже льстил, а вместе с тем охотно якшался с молодежью, участвовал в вечеринках, играл во все игры, начиная с бильярда, в котором первенствовал, словом, проворный был человек или, как говорили о нем малороссияне, «хочь куды козак».
Д'Этонпелль говорил, что участвует в каком-то предприятии шелковых тканей и путешествует для изучения мест сбыта, в то же время, однако, он брался доставлять вина из Бордо, машины из Бельгии, часы из Швейцарии и мясные консервы из Америки.
Глядя на него, никто бы не догадался, что этот человек обременен таким множеством деловых интересов. Он никогда ничего не делал, только день и ночь развлекался в компаниях, где нельзя было сбыть даже костяную пуговицу, а в разговорах охотно затрагивал вопросы, не имевшие ни малейшего отношения к его профессии.
Хотя на визитных карточках значилась аристократическая частица, д'Этонпелль в менее аристократических кругах шепотом говорил, что в свое время назывался просто Детонпелль, без апострофа, а апостроф он внес, имея в виду торговые интересы, чтобы легче попасть в нужное ему общество.
Как ни странно, нужными оказались те, среди которых он любил бывать чаще всего, хотя для них этот апостроф не имел никакой цены.
Средних лет, но державшийся по-молодому, подчеркнуто соблюдавший молодежные обычаи, пан Генрик именно со студентами был на самой короткой ноге. Он угощал их, охотно принимал их приглашения, участвовал в их отчаянных выходках, и не было лучшего дружка, чем он.
Разумеется, этот посланец Запада привез с собой набор свежеиспеченных с пылу с жару социальных теорий и усердно пропагандировал их. Себя он представлял сердечным другом Мадзини и многих других знаменитостей с громкими именами. В области социологии он обнаруживал незаурядную эрудицию и весьма крайние взгляды. Впрочем, трудно было уловить в провозглашаемых им идеях какую-то логическую связь, последовательность, ему было достаточно их новизны и левизны, чтобы приветствовать и прославлять их.
Он казался человеком безмерно открытым, выкладывал все, что было в душе, только о себе умалчивал. Если же под напором назойливых расспросов он иной раз и ронял лишнее слово, из этих обрывков, сколько бы их ни складывали, никогда не удавалось сложить целое.
И однако этот человек умел нравиться; был галантен с женщинами и не слишком разборчив, в любое время дня и ночи готов был приложиться к рюмочке и был непревзойденным мастером по части всяких увеселений.
Те, кто имел удовольствие видывать его в аристократических кругах, в которых он так охотно бывал, или слышать там о нем, говорили, что в такого рода обществе пан Генрик играет совсем другую роль, а именно: высказывается в сугубо консервативном духе; но то, чего другому бы не простили, ему сходило с рук, как остроумному актеру, которому вздумалось подурачить сильных мира сего.
Любопытен он был до чрезвычайности. Все-то надо было ему знать, обо всех и о каждом, он мог подслушать, умел проскользнуть в любую щель, не упускал ни единого случая завязать новое знакомство и прилагал усилия к тому, чтобы упрочить его – в этом, казалось, он видел задачу своей жизни. Достаточно сказать, что д'Этонпелль был в приятельских отношениях с Васильевым и в еще более доверительных – с каждым из своих квартирных хозяев…
Он требовал, чтобы ему рассказывали обо всем, о последней мелочи, не было вещи, которая не интересовала бы его.
Память у него тоже была редчайшая и, хотя он плохо выговаривал фамилии, стоило ему однажды увидеть человека и что-то о нем узнать, как он тут же вспоминал, кто это.
Мы говорили, что пан Генрик вместе с молодым красавчиком Тадзяком, его задушевнейшим дружком, вошли как раз в ту минуту, когда прозвучало имя Зони.
Он часто видел ее издали и был одним из самых пылких почитателей как прелестей ее, так и крутого нрава, однако подступить к ней ему не удавалось.
Он называл ее не иначе, как la belle Titania.
– Ну, что нового о прекрасной Титании! – воскликнул он, входя.
– Да нового-то ничего, – ответил кто-то, – одни только сожаления, что она, видимо, потеряна для нас.
– А! А что с ней случилось? – встрепенулся молчавший до сих пор Эвзебий.
– Сидит уже несколько месяцев взаперти, почти никто ее не видит, – уныло проговорил один из поклонников. – Изменилась до неузнаваемости, и во всем виноват этот Эварист.
– Как? Эварист? – спросил Комнацкий. – Разве только в качестве родственника он уговорил ее изменить образ жизни.
Вокруг начали смеяться и пожимать плечами.
– Неужели ты не знаешь? Да ведь они безумно влюблены друг в друга, целые дни проводят наедине, вместе выходят, вместе выезжают, даже, кажется, живут в одном доме, он внизу, а она наверху. Трудно сказать, кто там кого, но, судя по Зониному характеру, это она должна была вскружить голову своему кузену.
– Эварист, – воскликнул Комнацкий, – но это невозможно! Правда, он внезапно исчез, нигде не бывает, но я был уверен, что он готовится к экзаменам.
– И не думает о них!
– Он! Такой серьезный, такой суровый! – восклицал Комнацкий. – Нет, тут, должно быть, что-то другое, вы его не понимаете, я знаю его.
Окружающие смеялись.
– Что ж, сколько веревочку ни вить, а концу быть, – философически заметил один из присутствующих, – люди с темпераментом Эвариста нелегко сходят с ума, но если уж пустятся в дьявольский пляс, так до последнего издыхания…
– Вы видели Эвариста? Видели, как он выглядит? – вмешался Зориан. – Осунулся, исхудал, настоящий скелет! Но я, друзья мои, не удивляюсь. Зоня, от которой я до сих пор без ума, и святого положила бы на обе лопатки. Дьявол она или ангел, не знаю, но это, несомненно, незаурядная личность, не из нашей глины слеплена.
– Он прав! Честное слово! Совершенно прав, – горячо подхватил пан Генрик. – Я поклонялся ей издалека, приблизиться к ней теперь невозможно, но заявляю, что подобного обаяния, подобного взгляда, чего-то такого зовущего, увлекающего я не встречал во всем мире. Да, что до женщин, могу похвалиться, я изучал их во множестве, почти по всему миру, но ни наши гасконки, ни тринадцатилетние транстеверинки [9]9
Жительницы одного из районов Рима, расположенного за Тибром; в XIX веке считались образцом красоты и своенравия.
[Закрыть], ни грузинки, ни белокурые дочери Альбиона… каждая из них по-своему прекрасна, но где им всем до Зони! Это нечто идеальное!
– Идеальное, – повторил за ним один из старых поклонников, – хотя она вовсе не изображает из себя ангела, скорее этакого лихого молодца, который может и напугать своей бесцеремонностью… Э, – прибавил он, – что и говорить. Видеть ее издалека – это еще не то. Вы бы видели и одновременно слышали ее, когда она пылает благородным негодованием, когда у нее сверкают глаза, когда она уподобляется Юноне, воинственной, страшной, непобедимой… Тут одно остается: пасть перед ней на колени.
– Saperlotte! – выругался француз. – Многое можно отдать за то, чтобы хоть подойти к ней поближе.
– Раньше это не стоило никакого труда, – кисло заметил Зориан, – а теперь с ней что-то случилось.








