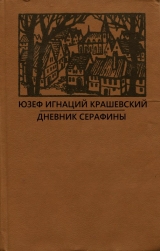
Текст книги "Сумасбродка"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
Зоня первая с детской непосредственностью и нескрываемой радостью подбежала к Евлашевскому, схватила его за руку и что-то зашептала. Взор «отца», обращенный на Эвариста, свидетельствовал, что речь шла о ее кузене.
Евлашевский придал своему лицу еще более значительное выражение.
Эварист подошел представиться.
«Отец» принял его холодно и осторожно, пробормотал несколько слов, казалось, он хотел изучить нежданного посетителя, прежде чем открыться перед ним. В его блуждающем взгляде сквозило беспокойство. Тем временем его окружили присутствующие, а так как за ним вошло еще несколько молодых людей, в комнате стало шумно.
Зоня без всяких церемоний здоровалась со всеми за руку, смеялась, позволяла подходить к себе слишком близко; одних она отводила в сторону, других похлопывала по плечу. Теперь она была в своей стихии.
Евлашевский, с которым все время заговаривали, больше отмалчивался и, не спуская глаз с неофита, медленно шел к столику. По всему было видно, что этот чужак его беспокоил.
Зоня искоса поглядывала на обоих, ожидая, когда они подойдут друг к другу. Их, однако, разделяла толпа гостей. Эварист остался сбоку у входа, проталкиваться вперед ему не хотелось, и он так и стоял в одиночестве.
Увидев это, Зоня нахмурилась, подошла к Евлашевскому, взяла его под руку и как покорного, послушного раба отвела в сторону.
– Пожалуйста, отец, займитесь немного моим гостем, порасспросите его, потолкуйте. Мы с ним какая-то там родня, – он, кажется, добрый малый, только забит воспитанием… Он нарочно остался, чтобы познакомиться с вами. Не сомневаюсь, что вы быстро обратите его в нашу веру.
Евлашевский слушал, наморщив лоб.
– Дорогая Зоня, – возразил он, – не так-то просто развивать спеленатые умы. Раз-два это не делается. Прежде чем действовать, надо познакомиться с личностью, чтобы напрасно не тратить времени.
– Вот я и прошу вас познакомиться с ним, – не отставала Зоня, словно зная свою власть над стариком. Евлашевский посмотрел на нее, покачал головой, а когда она еще и улыбнулась ему, умолк, видимо, не в силах противиться ее просьбе.
Странные отношения связывали этих двух людей; если бы кто-нибудь захотел внимательно присмотреться к взглядам, какие старый «отец» бросал на Зоню, то мог бы увидеть в них нечто большее, чем отцовскую привязанность. Девушка явно командовала им и знала свою власть, хотя, быть может, не отдавала себе в этом отчета. Евлашевский не спускал с нее глаз, а когда она смотрела на него, таял под ее взглядом, и терялся, и нервничал.
Получив приказ, он тут же, искусно лавируя между гостями, направился – с присущим ему достоинством – прямо к Эваристу.
– Вы у нас впервые? – спросил он его тоном педагога, который экзаменует ученика.
– Впервые, – ответил Эварист.
– Но в университете уже давно? – продолжал спрашивать старик, глядя на него испытующим взором.
– Второй год пошел.
– На каком факультете, разрешите узнать?
– Поступил на правовой, – сказал Эварист. – Я человек практический, собираюсь заниматься сельским хозяйством. Агрономии мы учимся по традиции и дальше этого не идем, но правовые отношения требуют специальной подготовки.
– Так, – сухо сказал Евлашевский. – Вы, стало быть, как послушный сын своих родителей, отказались от высших запросов и намерены пользоваться лишь тем, что лежит под руками. Похвальная скромность…
Он иронически улыбнулся, а Эварист не сразу нашелся с ответом.
– Да, – сказал он, подумав, – я был послушен родительской воле, а кроме того и в себе самом пока не нахожу побуждений искать иных путей.
– Это странно, вы как раз в том благословенном возрасте, когда обычно наши надежды и замыслы не знают границ.
Тут Евлашевский принял важный вид педагога, исполняющего свою миссию, и заговорил медленно, с удовольствием прислушиваясь к самому себе.
– Признаюсь, мне всегда жаль, когда я вижу человека ваших лет, который не отваживается вступить в фалангу первопроходцев. Наше время так нуждается в рыцарях, защищающих истину.
У Эвариста хватило дерзости спросить:
– Истину? Но какую истину?
«Отец» посмотрел на него с явным сожалением.
– Горе тем, кто ее не видит, кто спрашивает о ней, – ответствовал он. – Вот она, истина, обнаженная, ясная, сияет над нашими головами. Неужели вы не чувствуете, что все наше существование основано на фальши, мы дышим фальшью, фальшь разъедает нас, словно ржавчина. Для того, чтобы вернуться на путь истины, с которого мы сошли, надо опрокинуть все существующее, камня на камне не оставить. И уйти…
Евлашевский метнул взгляд на Эвариста, стараясь понять, какое впечатление произвело его красноречие. Молодой человек слушал спокойно, этот внезапный натиск, вопреки ожиданию оратора, казалось, ничуть не тронул его.
– Прошу прощения, пан Евлашевский, – кротко сказал он, – но, желая рассеять свои сомнения, я вынужден быть назойливым и задать несколько вопросов. Сколько бы раз человечество по той или иной причине ни порывало с традициями, пренебрегши завоеваниями предшествующих веков, это всегда, как показывает нам история, приводило к упадку. Нельзя разрывать цепь, звенья которой, спаянные между собой, и составляют историю человеческого прогресса. Истинный прогресс представляется мне не метанием из стороны в сторону, а постепенным поступательным движением. Кем бы мы были, отрекаясь от того, что воздвигнуто нашими предшественниками?
Евлашевский слушал, кусая губы, у него расширились зрачки, задергались веки, и раз-другой он посмотрел в сторону Зони, словно упрекая ее за то, что она подбила его на спор с таким дерзким противником.
– Устарелые взгляды, – бросил он пренебрежительно после небольшой паузы. – Есть моменты в истории человечества, когда необходимы сильнодействующие средства, как при смертельной болезни. Именно в такой момент мы с вами живем… Много, поистине много нам предстоит совершить! Разрушать! Разрушать! – Желая придать выразительность своим словам, Евлашевский рубанул рукой воздух. Эварист молчал.
– Если мы позволим всему на свете медленно следовать торным путем, человечество никогда не достигнет своих целей, – продолжал «отец», – крупица истины, которая досталась нам в наследство от прошлого, так смешалась с фальшью, что для искоренения последней приходится жертвовать и этой крупицей… временно, не надо этого бояться – она восстановится.
Он взглянул на молодого человека; ему показалось, что слова его начали действовать, и он продолжал с еще большим жаром и воодушевлением.
– С ложной дороги нельзя сойти иначе, как отступив назад, но это отступление кажущееся, ибо оно ведет к истине.
После этого афоризма воцарилось длительное молчание. Эварист не отвечал, а Евлашевский не находил ничего такого, за что можно было бы к нему придраться.
Однако, видя, что слушатель его не отходит и, кажется, ждет дальнейших объяснений, «отец» начал с другого конца.
– Вот так, молодой человек, – произнес он, – перед нами действительно много работы, поля заросли сорной травой, и, прежде чем сеять, мы должны выполоть ее, выполоть!
Он снова помолчал.
– А знаете, – с живостью обратился он к своему собеседнику, – где надо искать зерна истины? Да там, где их укрывает про запас природа… где, укрытые плотным пластом, они сохраняются неиспорченными – в народе!
– Народ нуждается в просвещении, – ответил на это Эварист, – не знаю, может ли он просветить нас.
– Да, просвещенным в общепринятом значении этого слова его назвать нельзя, – возразил Евлашевский, – но он обладатель сокровищ, о которых сам не ведает: он сохранил здоровые инстинкты. Из этого источника мы и должны черпать. Притом народ и по сей день – это класс париев, класс угнетенных, на котором паразитируют остальные. И с этим надо покончить.
– Разве учение Христа не положило этому конец, провозгласив братство всех людей и вменив нам, как нашу первейшую обязанность, любовь к ближнему? – несмело спросил Эварист.
Тут вдохновенный муж задумался, однако ненадолго.
– Учение Христа было извращено в самом его зачатке. Но я вижу, что вы, дорогой мой, стоите на весьма отсталых позициях, и, захоти я тут же приобщить вас к высшим понятиям, мне пришлось бы побороться с вами основательно, так что отложим на другое время…
Евлашевский отер лоб; он был утомлен и не очень уверен в том, какое произвел впечатление. Поэтому ему хотелось ретироваться; слегка кивнув Эваристу, он подошел к ожидавшим его молодым людям, которые издали с интересом следили за их поединком, не сомневаясь, впрочем, что побежденным окажется Эварист.
Тот все еще стоял несколько ошеломленный, когда к нему подошла Зоня, желавшая захватить кузена, пока тот не пришел в себя от поражения.
Она немного удивилась, найдя его не потерявшим душевного спокойствия и скорее озадаченным, чем побежденным.
– Ну, что? Как? – забросала она его вопросами. – Разговаривали с отцом? Какое красноречие, правда? Какие мысли! Какой человек!
Юноша склонил голову, как бы соглашаясь с нею.
– Было слишком мало времени, я еще не успел в нем разобраться и хотел бы встретиться с ним, когда он будет посвободнее.
– О, это трудно! – прервала его Зоня. – Тут надо ловить момент, ловить слова, он всегда окружен людьми и так занят. Молодежь от него без ума, – продолжала она, все больше оживляясь. – Вы не поверите, это ходячая энциклопедия! Спросите его о чем угодно, он знает всё, все науки, в каждую вник глубоко и везде может указать слабые стороны и изъяны… На удивление критический ум…
Эварист больше не возражал, но, как видно, известная сдержанность и холодность в его отзыве об обожаемом учителе задели Зоню.
– Да вы послушайте еще хоть издали, что он будет говорить, – быстро промолвила она, увлекая его за собой к окруженному молодежью «отцу», – и вы убедитесь, какой это универсальный гений…
Эварист послушно последовал за ней, они присоединились к собравшимся. Речь тут шла о науке вообще, и Евлашевский сетовал на идеализм и причиненный им вред.
– Все надо завоевывать наново, – ораторствовал он – воображение заменило опыт! На помощь свихнувшемуся разуму должны прийти безошибочные инстинкты. Старого слепца поведут дети.
Ему зааплодировали.
– Мир заполонили прописные истины, они господствуют повсюду, как в университетах, так и в салонах, как в жизни, так и в науке. Долой их – ближе к природе! К простым обычаям! К тем порывам, что таятся в нас и которые только фарисеи называют похотью и страстями.
Почувствовав, что он заходит чересчур далеко, Евлашевский внезапно остыл и, желая сменить предмет разговора, обратился к одному из молодых людей с каким-то правовым вопросом. В этой области он считал себя непревзойденным. Однако старая Агафья Салганова не дала дискуссии развернуться, начав разносить чай. Возможно, Евлашевский и сам был рад этому, со стаканом в руке он направился к дивану и занял место рядом с хозяйкой.
Об Эваристе, видимо, забыли; из-за чьих-то спин до него долетали лишь обрывки разговора, который, захлебываясь от увлечения, вела главным образом Гелиодора.
– Даю слово! Именно так! Ну – она убежала с ним? Ее поносят? За что? Она любила его и имела на это право! Женщина должна быть свободной и следовать за голосом сердца…
Никто не протестовал.
– Мы должны сбросить оковы наших прежних устаревших форм общежития… – добавил Евлашевский. – Не годится, чтобы мужчина или женщина всю жизнь расплачивались за какое-то необдуманное, опрометчивое обещание…
Услыхав это, Эварист посмотрел на Зоню, ему хотелось видеть, как приняла она столь дерзко провозглашенное откровение. Зоня стояла, опершись о стол, нахмурившись, задумавшись, но не возражала.
– Единственный законный союз, – закончил свою речь новоявленный апостол, – это союз сердец… Когда охладевают сердца, люди имеют право разойтись!
Комментарии по поводу этого прекрасного афоризма были такие бурные, что Эварист больше ничего не мог разобрать. Сердце его сжала какая-то тревога, он и рад был бы выступить с протестом, но понимал, что спорить с этим сборищем бесполезно.
Не видя своего гостя, Зоня сама отыскала его в темном уголке, где он стоял, прислонившись к стене. Его взгляд почему-то заставил ее покраснеть… Она думала, что он что-нибудь скажет, и ждала от него хоть слова, пусть даже сурового, но Эварист, не желая пререкаться с нею или, может быть, считая это напрасным, стал потихоньку прощаться. Грустное выражение его лица сказало ей то, чего не смели произнести уста.
– Прошу вас, прочтите письмо сестры, – сказал он только, уже на ходу, – и напишите ей, я как-нибудь зайду за ответом.
Зоня кивнула головкой и проводила его глазами до дверей.
* * *
Весна в тот год была более ранняя и буйная, чем это у нас бывает, ее не прерывали возвраты капризной зимы и холода, что срезают головки зеленых трав и скручивают молоденькие листочки. Все распускалось с невероятной быстротой, и люди, пользуясь возвращением тепла, выбегали на берег Днепра полюбоваться великолепием широко разлившейся реки и молодой зеленью.
В один из таких дней Эварист вечером пошел в парк, где только старые ореховые деревья оставались глухи к призывам весны. Росшие под ними кусты уже облачились в весенние брачные наряды, покрылись молодыми листочками, приготовились к цветению.
Необычно пусто было в парке в эту вечернюю пору, большая часть здешней публики отвлеклась каким-то шумным цирковым представлением. Но Эварист искал именно покоя и тишины.
С тех пор как он познакомился с Зоной, его мысли, как он этому ни противился, постоянно возвращались к ней, образ этой бедной девушки не давал ему покоя.
Она все больше интересовала Эвариста и уже не только как несчастная сирота, брошенная в грозное житейское море, или жертва опасных теорий, от которых ее нужно было спасать, а как некий причудливый идеал, к которому его против воли влекло все сильнее. Он сам не понимал, что могло возбудить в нем такое страстное чувство. Все, во что Зоня верила, что говорила, оскорбляло его, возмущало, было ему отвратительно – сама же она была ему дорога чрезвычайно. Может быть, эта внезапная любовь была вызвана чисто чувственным очарованием, тем не менее она отличалась силой и глубиной. Эварист не мог ей противиться. Он боролся с собой, избегал встреч, гнал прочь воспоминания, но, едва Зоня представала перед его глазами, страстное чувство вновь овладевало им.
Не Зоня разжигала его любовь, ибо никто не был к нему так безразличен, как она. Предпринятая Евлашевским попытка обращения, которая окончилась неудачей, оттолкнула девушку от Эвариста. Она смотрела на него с жалостью, чуть ли не с презрением, отстранялась, не скрывая своей антипатии. Несмотря на это, Эварист любил ее все пламеннее, можно сказать, все отчаянней.
И эта любовь, готовая на жертвы, чистая, благородная, сделала его несчастным и лишила покоя.
После описанного нами вечера Эварист не показывался у Зони дней десять; наконец он был вынужден прийти за ответом на письмо Мадзи. Зоня приняла его холодно, ни о каком обращении уже не говорила, потому что «отец» признал его неспособным и непригодным. Этот строгий приговор сделал Зоню на редкость холодной и равнодушной к кузену.
Эварист напомнил о письме к сестре. Зоня пожала плечами.
– Что я могу ей написать? Мадзя меня так же не поймет, как я не смогла понять ее письмо, полное благочестивых восклицаний и детского лепета. Мадзя – дитя, осужденное на вечное ничтожество. Мне жаль ее, но помочь ей я ничем не могу.
– Ну хотя бы несколько строк, ведь это ваша сестра, – настаивал Эварист.
– Сестра? Да что такое сестра? – спросила Зоня. – Мне сестра Гелиодора, с которой мы понимаем друг друга, одинаково мыслим и чувствуем. Но эта, моя кровная, она мне незнакома и чужда.
Однако, может быть, потому, что ей хотелось избавиться от Эвариста, она поспешила поправиться:
– Ну ладно, напишу, напишу… Приходите… или нет, я сама вам пришлю…
Прошло еще недели две, письма все не было, и однажды, увидев Зоню на улице, Эварист подошел и спросил об обещанном ответе.
Зоня несколько нетерпеливо велела ему прийти за ответом на следующий день. Это короткое свидание вновь привело Эвариста в мечтательное настроение; когда он на следующий день в таком восторженном состоянии духа пришел и застал ее одну, то не смог удержаться и после первых холодных слов взорвался:
– Хотя ты не хочешь меня знать ни как родственника, ни как доброго друга и оказываешь мне даже не безразличие, а почти презрение, позволь все же признаться, что ты пробудила во мне такое горячее участие, такую симпатию, что я без тревоги и ужаса не могу и думать о тебе, но и не думать мне также невозможно.
Зоня поморщилась.
– Благодарю за столь горячее чувство, – живо возразила она, – но не воображайте, пожалуйста, что я когда-либо отвечу на него хотя бы теплым чувством. Мы такие разные с вами. И откуда у вас это беспокойство обо мне?
– А разве его не объясняет твое положение и люди, окружающие тебя? – вскричал Эварист.
– В моем положении я чувствую себя в полной безопасности, а окружающих меня людей уважаю и люблю…
– Ты находишься на пути… – начал было Эварист, но оскорбленная девушка не дала ему договорить.
– Да, да! На пути к гибели и лишениям! – рассмеялась она. – Ах, пожалуйста, не заботьтесь обо мне; я знаю, где нахожусь и куда иду.
Она смеялась, но явно была рассержена. У молодого человека слезы брызнули из глаз, он схватил ее за руку.
– Зоня! Помилуй! Не сердись! – воскликнул он. – Никто, никто на свете больше меня не желает тебе добра, никто не любит тебя больше, чем я.
Девушка, смеясь, вырвала руку.
– Что такое! Уж не влюбился ли ты в меня! То-то было бы забавно! – воскликнула она весело. – Ты выдумываешь какие-то мнимые для меня опасности, а сам грозишь мне любовью… Вот они, ваши фарисейские добродетели!
Эварист возмутился.
– Зоня, – крикнул он, краснея, – да, я люблю тебя, люблю безмерно, но такая любовь, как моя, не представляет собой опасности, а могла бы стать для тебя спасением, это честная и открытая любовь на всю жизнь.
Зоня стояла молча, смущенная этим признанием, и лишь спустя несколько времени холодно ответила:
– Покорно благодарю, но, к несчастью, я не знаю и знать не хочу другой любви, кроме любви к правде и науке, – этого мне вполне достаточно… Вам казалось по той свободе, которая царит между нами, что я буду для вас легкой добычей. Но вы ошибаетесь, пан Эварист! Вы о нас судите лишь по внешнему виду.
Эварист прервал ее с таким бурным возмущением, что заставил замолчать. Он тут же схватил шляпу и холодно попрощался.
Они расстались так, словно им предстояло никогда больше не видеться. Эварист дал себе слово не подходить к ней. Он избегал Зоню до такой степени, что, увидав на улице, сворачивал в другую сторону, лишь бы не встречаться с ней.
И странное дело, однажды, когда он столкнулся с Зоней, возвращающейся из библиотеки домой, она сама подошла к нему, говоря:
– Вы напрасно сердитесь на меня, Эварист. Я не такая злюка, как вы думаете, и даже не лишена сердца. У вас было время забыть о любви, но мы можем стать друзьями.
Она протянула ему руку. Эварист принял этот жест с благодарностью.
Зоня смотрела на него насмешливо, но без гнева.
– Жаль, что вы не дали отцу возможность обратить вас в нашу веру, вы бы стали мне добрым товарищем, а так…
Она пожала плечами.
– Ведь я в ваших глазах авантюристка, а вы в моих, ах, скажу вам по-нашему: вы фарисей… Ну, не сердитесь, не сердитесь! – И, не дав Эваристу вымолвить ни слова, она попрощалась и поспешила своей дорогой.
Эта крупица сердечности, эти несколько слов, брошенных походя, вновь вскружили Эваристу голову.
Он боролся с собой, а ему все хотелось приблизиться к ней, подойти, посмотреть, хоть бы услышать ее голос, словно бы насмешливый, в котором, однако, ему чудилась грусть. Он боялся, что новая встреча еще пуще его одурманит и он еще пуще станет томиться.
Эварист ходил подавленный, мучился и одновременно был недоволен собой. Сегодняшняя прогулка была предпринята, чтобы рассеяться – быстрое движение подчас успокаивало его взбудораженные мысли. Но на этот раз не помогло. Вместо того чтобы улечься, мысли его метались из стороны в сторону. Он упрекал себя за то, что сопротивлялся всем этим кипевшим вокруг новым веяниям, ближе не познакомился с тем, что так горячо занимало бедную Зоню.
Опустив голову, он сидел на скрытой в кустах скамейке, спиной к аллее, от которой его отгораживало огромное ореховое дерево, когда сзади услышал голоса и шаги. Избегая каких бы то ни было встреч, он сделал движение подняться, как вдруг узнал постоянно звучавший у него в ушах веселый голосок Зони; другой голос, как ему показалось, принадлежал «отцу».
Неприятная мысль о близости между этими двумя людьми не позволила ему двинуться с места. Он продолжал сидеть на скамейке, а собеседники все приближались и наконец остановились за кустами.
Он услышал, как «отец» степенно произнес:
– Присядем.
Вероятно, ни в каком другом случае Эварист не позволил бы себе подслушивать, но теперь у него так билось сердце и скамья так прочно держала его в своих оковах… Он понимал, что, добровольно становясь свидетелем разговора, не предназначенного для его ушей, ведет себя неприлично, но не мог уйти. Это было свыше его сил.
– Ну что ж, сядем, – весело отозвалась Зоня. – Вид отсюда прелестный… весна… и хотя умиляться по ее поводу это ребячество, а все-таки приятно…
– О, это возвращение природы к жизни после освежающего сна! – с пафосом подхватил Евлашевский. – И существа, являющиеся составной частью природы, теплом и светом призванной к возрождению, подобно ей, неизбежно испытывают жажду соединяться, группироваться, избирать согласно инстинкту…
Говоря это, он слегка вздохнул.
– Это пора влюбленности и любви, – продолжал он, – когда даже сухие вербы пускают ростки.
Евлашевский подождал, но Зоня не отвечала.
– Я именно такая сухая верба, – закончил он свою мысль, – под потрескавшейся и сучковатой корой которой еще струятся жизненные соки. Весна и на меня действует удивительным образом… Она меня омолаживает.
– Вы и так молоды душой, моложе многих наших молокососов, – возразила Зоня.
– Не только душой, – живо прервал ее Евлашевский, – я чувствую себя молодым и в том, что обычно не совсем точно называется сердцем, – по существу, это только чувственное влечение. Если бы мы жили в мире свободного выбора, преобразованном согласно знаменитой системе Фурье, то, наверное, нашлась бы женщина, которую влекло бы ко мне, как и меня к ней…
Эвариста, когда он услышал это странное признание, бросило в жар, руки его сами сжались в кулаки.
Зоня молчала.
– Да, моя дорогая, – продолжал Евлашевский, – закон природы состоит в том, что родственные натуры соединяются в пары, отсюда и это томление, особенно в известные времена года, эта тоска, которая в нашем утонченном и извращенном обществе не находит понимания и не принимается в расчет… Ощущение, какое вызывает в тебе весна, есть жажда подчиняться законам природы… Ты хочешь любить!
Зоня рассмеялась, но смех ее звучал напряженно, не искренне.
– Ошибаетесь, отец, – холодно возразила она, – мое сердце не жаждет ничего, кроме науки и овладения миром с ее помощью. Я ежедневно сталкиваюсь с молодыми людьми, которые стараются мне понравиться, но ни один из них не возбудил во мне ни малейшего чувства, они мне безразличны. К вам, которому я обязана светом учения, я более всего испытываю уважение, благодарность и симпатию.
Евлашевский помолчал, затем воскликнул:
– Зоня, пришло время, когда я должен объяснить тебе твои собственные невнятные чувства, это так ясно, так естественно – пылкая юность тянется к дополняющей ее зрелости. Твое сердце принадлежит мне, ибо я сам твой, всем сердцем. Я люблю тебя!
– Вы шутите, – возразила Зоня, смешавшись, – мое чувство к вам это привязанность ребенка, не больше…
– О, ты сама себя не знаешь, ты ошибаешься, – продолжал восклицать Евлашевский, – ты должна меня любить, мы предназначены друг для друга. Я воспитал твой ум для себя, ты моя духовная половина…
– Но, пан Евлашевский, – изменившимся голосом сказала Зоня, – я все-таки лучше себя знаю. Вы смеетесь надо мной! Уйдем отсюда, прошу вас, уйдем!
– Останься! – послышался дрожащий от гнева и отчаяния голос Евлашевского. – Твое предназначение быть моей, моей в полном смысле этого слова! И это сбудется так или иначе. Ты отдашься моей горячей любви, ты будешь счастлива и меня осчастливишь…
– Перестаньте, пан Евлашевский, не говорите вздора, – громко сказала Зоня. – Желание вскружить голову своей ученице не вяжется с достоинством учителя и отца… Я готова считать это шуткой, но мне неприятно, что вы позволили себе так шутить со мной.
Тут она еще более повысила голос, чеканила каждое слово:
– Вы принимаете меня за ребенка, но я не ребенок! Я знаю себя очень хорошо и если полюблю – о, ничто в мире меня не остановит, я отдамся этому человеку, не спрашивая, отпустит ли мне мои грехи общество, свободен мой возлюбленный или связан чем-то. Это закон природы и это право моего сердца. Но не чувствуя любви, не будучи охвачена святым порывом, я не позволю купить себя ни мудростью, ни миллионами! Я не продам себя ни за лавровый венок своего поклонника, ни за царский трон, если бы он у него был.
Евлашевский сердито пыхтел, слышалось какое-то невнятное ворчание…
Вдруг Зоня крикнула:
– Помогите!
«Отец» обхватил ее обеими руками, а губами старался дотянуться до лица; девушка мужественно оборонялась, но прежде чем она успела влепить нахалу пощечину, Эварист перескочил через кусты, кинулся на Евлашевского сзади и, схватив за воротник, так рванул, что тот упал и покатился по земле.
Зоня, не потерявшая самообладания, бросила взгляд на своего поверженного поклонника, который, барахтаясь, силился подняться с земли, как это делают иногда опрокинутые на спину жуки, затем подняла глаза на Эвариста и отбежала на несколько шагов.
Протягивая ему руку, она хладнокровно распорядилась:
– Проводите меня домой! – И пошла быстрым шагом из парка, не оборачиваясь на кряхтевшего Евлашевского, который, видимо, ушибся при падении. Сначала она ничего не говорила и, только когда они немного отошли, повернулась к Эваристу и сказала:
– Несчастный старик, где-то, видимо, переложил, вот и ударило ему в голову… Никогда не ожидала от него такого… Мне стыдно за него и жаль… Пожалуйста, никому об этом не говорите.
– Не ради него я буду молчать, ради вас, – возразил Эварист, – но раз уж я имел счастье вовремя прийти вам на помощь…
Зоня рассмеялась.
– Пожалуйста, не воображайте, что вы меня спасли, я и сама бы справилась с этим помешавшимся беднягой. Женщина, которая нуждается в защитниках, может и не стоит защиты! На худой конец, – добавила она, смело глядя кузену в глаза, – мне ведь не зря даны превосходные зубы.
Эварист слушал ее с грустью.
– А все-таки лучше, – ответил он, – не подвергать себя необходимости пользоваться ими. Как вы могли…
– Ах, оставьте! Разум следует подкреплять опытом, – возразила девушка. – Ну, скажите, как я могла подумать, что человек, знания и ум которого я так чту, который был для меня духовным отцом и вдохновителем, вдруг допустит такую выходку?..
– Вы могли если не предвидеть подобное, – ответил Эварист, – то хотя бы сделать вывод из этих его теорий, ведь он проповедует, что ни наши общественные, ни религиозные нормы ему не указ!
– Но есть еще здравый смысл, зачем же навязывать мне чувство, разделить которое я не могу, – воскликнула Зоня.
– Думаете, рассудок имеет какую-то власть над чувствами? – сказал Эварист. – Он должен бы иметь такую власть, – но чувства постоянно бунтуют и побеждают.
Некоторое время они шли молча.
– Бедный старик, – проговорила наконец Зоня, – жаль мне его, мне его будет недоставать!
– Надеюсь, он больше не покажется, – заметил Эварист, – и вы его больше не увидите.
– Не знаю, – пожала она плечами, – посмотрим, когда он протрезвится.
– Неужели вам не приходит в голову, – . спросил юноша, – что теории, приводящие к подобной практике, немногого стоят?
У Зони блеснули глаза.
– Вы несправедливы, – горячо воскликнула она, – минута слабости и безумия не имеет ничего общего с теориями. Оттого, что в мудреце на минуту пробудилось животное, стоит ли пренебрегать мудростью?
– А чего стоит мудрость, не властная над человеком, ее провозглашающим?
– Вы придаете этому случаю слишком большое значение, – спокойно ответила девушка. – Меня-то уж он наверно не свернет с однажды намеченного пути.
Эварист грустно опустил голову.
– Знаю, – продолжала она, – в душе вы жалеете эту сумасшедшую Зоню, так же как и я вас, – вы представляетесь мне осужденным на духовную смерть, на жизнь автомата, которым управляют предрассудки, условности, устарелые законы и закоснелый фанатизм… Из нас двоих я более счастливая, потому что живу настоящей жизнью, вы же будете питаться мертвечиной…
Но из-за этого, мой мнимый избавитель, не сердитесь на свою названую сумасбродную сестру. Я к вам все-таки расположена настолько, насколько вообще могу быть расположена к кому-либо. У меня к вам слабость, может быть, оттого, что мне искренне жаль вас…
С милой улыбкой она повернулась к нему лицом. Эварист пылко схватил ее ручку и стал целовать.
– О, прошу, не уподобляйтесь Евлашевскому, расстанемся спокойно, по-приятельски. И не объясняйте мою симпатию ничем иным, как своей неполноценностью, – рассмеялась Зоня.
Они уже были недалеко от улицы, где стоял дом Агафьи Салгановой. Эварист проводил Зоню до места, откуда было видно подворье, пожал ей руку и ушел.
Неприятное впечатление осталось у него от этого странного происшествия и еще более огорчил последовавший затем разговор.
А Зоня, расставшись с Эваристом, быстрым шагом, почти бегом, направилась к дому, где у смотревшего на улицу окна сидела с папиросой в зубах Гелиодора.
Они обменялись кивками и улыбками.
– Пойдем ко мне, Геля, я тебе кое-что расскажу, – крикнула Зоня.
Спустя минуту они встретились у Зониной комнаты, вошли и Зоня заперла за собою дверь.
– У меня было приключение, – живо начала девушка, скидывая с головы тирольскую шляпку с пером.
– Приключение? У тебя? Интересно, – сказала вдова, щуря глаза и дымя папиросой.
– Пошли мы с отцом в парк, болтая о том о сем, – продолжала Зоня, – и сели на скамейку под орехом, – оттуда такой прелестный вид. Отец показался мне немного странным, был почему-то раздражен, неспокоен. Говоря о природе, ни с того ни с сего вставил что-то о любви, потом о своей симпатии ко мне, а потом уже, что любит меня безумно, а когда я рассмеялась и попробовала вразумить его, он обнял меня и пытался поцеловать. Это было уже слишком! Я стала с криком вырываться. На беду, черт принес Дорогуба, и тот как схватит Евлашевского за шиворот…








