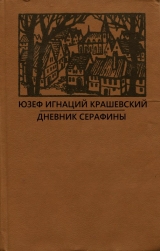
Текст книги "Сумасбродка"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
Тут Евдоксия Филипповна, продолжая рыдать, в отчаянии сорвалась со стула и, сжав кулаки, подбежала к Евлашевскому, который упорно стоял на одном месте.
– Будь что будет! Пусть меня забирают и распинают, пусть меня бичуют и казнят, пусть сажают в тюрьму, я не хочу тебя знать и не буду…
– Посмотрим! – холодно отозвался на эти слова Евлашевский.
– О, я знаю! – кричала женщина, ломая руки, – приди я как ушла, в одной рубашке, без копейки за душой, ты бы меня и знать не знал и помнить не помнил! Ты на мое добро заришься! Я-то тебя знаю! Ух и опротивел ты мне, черт проклятый! Как вспомню свою жизнь, молодость свою и все, что привелось от тебя перетерпеть, так хоть сейчас готова в Днепр броситься, все лучше, чем снова начать ту муку.
Евлашевский не оправдывался, только шевелил губами, пожимал плечами и ждал, когда уймется буря. Женщина не переставала заливаться слезами.
– Как хочешь, Евдоксия Филипповна, – заговорил Евлашевский после долгой паузы, – воля твоя. Я доложу в полицию, что ты моя жена, много лет тому назад сбежавшая от меня и канувшая словно в воду. Пускай назначат следствие, я принесу присягу, ты не можешь – душу загубишь. А присягнешь, я свидетелей найду. Должна будешь ответ держать – с кем жила, откуда у тебя то, что имеешь. Тогда посмотрим, что ты запоешь.
Он прошелся по комнате.
– Напрасно ты это, Евдоксия, я своего не упущу, и ты от меня не сбежишь. А хочешь поговорить по-хорошему, посоветоваться, поладить – попробуем.
Бедная женщина не знала, что предпринять, ломала в отчаянии руки, а перепуганные служанки под дверью призывали всех известных им святых спасти их хозяйку.
Была у них мысль бежать в полицию и дать знать о напасти, но, не понимая толком, в чем дело, они побоялись заварить кашу, чтобы не было еще хуже.
Буря в конце концов стала стихать, и теперь до их ушей доносились звуки разговора, лишь иногда прерываемого приглушенными всхлипами. Очень не скоро, уже ночью, Евлашевский наконец ушел, и хозяйка позвала Аннушку. Та нашла ее в полуобморочном состоянии, страшно изменившейся: слезы смыли с ее лица белила и румяна, она не могла вымолвить ни слова, ничего не хотела объяснить и лишь сетовала на то, что господь жестоко покарал ее…
Вдова ни к кому не питала доверия, но, поскольку ей непременно нужен был совет, служанки кликнули на помощь Васильева, который им всем казался добрым, сердобольным человеком. Купец охотно поднялся наверх. Долго его жилица не могла собраться с духом и рассказать всю правду, но наконец, заливаясь слезами, начала свое признание:
– Я была простой казачкой, и этот человек женился на мне из-за моей красы. Я ребенком была, когда это случилось, и ничего не понимала, думала только, что стану важной пани, потому что у Евлашевского был небольшой надел, а чего она стоила, его земля, – этого никто не знал. Вскоре ему опротивели и деревня и жена. Он рвался в большой город и все попрекал меня, что я камнем вишу у него на шее, гирей на ногах. О, если я не умерла, душу не выплакала и не утопилась, так только потому, что бог хранил меня.
Он и за жену не хотел меня признавать, потому, мол, что венчание было не по правилам, мы были еще несовершеннолетние, и ни свидетелей не было у нас, ни записи в церковной книге. Он гнал меня прочь и выгнал-таки из Дому.
Я ушла, заливаясь слезами, сама не зная куда, родителей уже не было на свете, братьям я стыдилась показаться на глаза. С маленьким узелком побрела я в город – куда, зачем? Пошла в прислуги. Нашлись добрые люди, приняли меня к себе, а потом нашелся хороший человек, он в жены меня взял, содержал, уважал и любил, а умирая, все мне оставил.
Слушая ее, Васильев качал головой, давая понять, что дело плохо.
– Коли жить с ним не хотите, – сказал он наконец, – на это только один совет – откупиться от него надобно. Глотку ему заткнуть. Но ведь и он, должно быть, не дурак, если может получить все, то захочет ли удовлетвориться малостью! Трудное положение!
Пока они так совещались тихими голосами, купец узнал от перепуганной женщины, сколько у нее капитала, со страху она ничего от него не скрыла. На следующее утро Васильев по ее поручению пошел к Евлашевскому. Едва он заговорил; как тот прервал его:
– Зачем вы, Ефрем Поликарпыч, не в свое дело вмешиваетесь? Не надо лезть на рожон! Это дело семейное, позвольте мне справиться с ним самому.
С тем Васильев и ушел. До вечера Евлашевский оставил Евдоксию в покое, дал ей время подумать. Вечером она никого не принимала, он пошел говорить с ней, сидел допоздна, а когда вышел, те, кто столкнулся с ним по дороге, рассказывали, что лицо у него было хмурое, брови насуплены. Всю ночь служанки провели около Евдоксии, от плача и горести у нее разболелось сердце. Уснула она только под утро, из дома не выходила, почти ничего не ела, послала поставить свечи перед святыми образами и так провела время до вечера. А вечером вновь пришел неумолимый преследователь; обе служанки говорили, что на этот раз он показался им более ласковым и старался успокоить их хозяйку, которая плакала и сетовала на судьбу.
Появлялся он и в следующие дни, а Евдоксия постепенно приходила в себя, и первым признаком было то, что она подкрасилась, надела парадное платье, кольца и драгоценности. Евлашевский уже пил у нее чай, и они тихо разговаривали.
Только после его ухода Евдоксия тяжко вздыхала, и ночами ей случалось всплакнуть. Васильев, хотя он и устранился от этого дела, утверждал, что они сговорятся. Он подмигивал, смеялся и шептал Аннушке: «Погоди, может, еще и на крестины позовут!»
Старуха хлопала его по плечу, не желая об этом даже слушать.
Тем временем друзья Евлашевского ничего не знали, кроме того, что с ним произошла какая-то непонятная, необъяснимая перемена.
Ревностного глашатая истины нельзя было узнать, таким стал он угрюмым, молчаливым и ко всему безразличным.
Постепенно он перестал бывать у Гелиодоры и даже принимать у себя. По вечерам его почти никогда нельзя было застать дома, а Ванька, хотя по нему было видно, что он что-то знает, божился, что ни о чем и понятия не имеет…
Метаморфоза, происшедшая с Евлашевским, произвела ошеломляющее впечатление на его адептов, они тщетно старались найти этому объяснение, между тем круг возглавляемых им учеников мало-помалу распадался.
Никто не мог его заменить. Но вот к радости тех, кто жаждал знаний и так называемого прогресса, который лучше бы назвать скачком в неизвестность, тех, кто нуждался в вожде для борьбы с темнотой и варварством, как они выражались, в Киев словно с неба свалился приехавший защищать докторскую диссертацию некий Эвзебий Комнацкий, бывший студент Боннского университета, получивший там степень магистра философии.
Комнацкий, родом из-под Киева, был тут многим известен в ранней молодости, и сейчас слава знаменитого ученого опередила его приезд. Молодежь, естественно, вообразила, что он принесет ей ярчайший свет западной культуры – последние достижения науки, исследований, философии и общественных учений.
Несмотря на равнодушие к прежнему делу весть о приезде соперника живо затронула Евлашевского… Его самолюбие было задето и не позволило ему ретироваться с поля битвы.
Мы уже говорили, как осторожен был Евлашевский в проповеди своих идей и убеждений; встреча с истинным ученым его несколько тревожила, и предстоящее испытание ему не улыбалось, по он должен был, чтобы не уронить своего достоинства, встретиться лицом к лицу с Комнацким. Ему уже заранее сообщили не только о приезде последнего, но и об его безмерном желании познакомиться со светочем науки, каковым слыл Евлашевский.
– А посмотрим, посмотрим, что там особенного привез из-за границы этот молокосос, – говорил наш великий философ язвительно, – буду очень рад послушать, поучиться…
С притворным смирением ожидал он гостя. Уклониться от встречи он не мог, это значило бы признать себя без борьбы побежденным.
Еще до поединка двух противников мнения разделились: одни утверждали, что победит Евлашевский, другие двусмысленно молчали, выказывая тем самым некоторые опасения. А кое-кто заблаговременно объявлял Комнацкого консерватором, что было маловероятно для человека, только что прибывшего с Запада.
– Нельзя считать, что вся мудрость человеческая сосредоточена на Западе, – утверждал Евлашевский. – Латинские расы себя изжили, немцам присущи всякие там причуды, пришло время славянам новыми идеями возродить загнивающий мир! Это мое глубочайшее убеждение!
Обеспечив себе таким образом отступление, чтобы, в случае поражения, он мог не признавать себя побежденным, Евлашевский ждал встречи.
Наконец Эвзебий приехал, некоторые его уже повидали, но ничего не рассказывали, только говорили: сами увидите. Одним из первых, кому удалось встретиться с ним, был Эварист – их родители были близко знакомы.
Молодой философ на первый взгляд не производил особого впечатления. Едва ли среднего роста, с невыразительным лицом, тихий, скромный, молчаливый, он ничем не выделялся и казался человеком не слишком большого ума, но это было обманчивое впечатление; из Комнацкого трудно было вытянуть слово, однако когда ему случалось защищать свое мнение, он преображался: становился значительным, выходил из своего обычного флегматичного состояния и обнаруживал редкий дар речи, обретая тон человека, уверенного в себе и в том, что он говорит, так что никто не мог ему противостоять.
Комнацкий был подлинным ученым, обладающим обширными, солидными знаниями, которые покоились на надежной основе. В первом же разговоре с Эваристом он дал ему понять, что далек от радикализма как в научных исследованиях, так и в общественных воззрениях. Во многих вопросах он был немножко скептиком и потому не принимал революционных идей – для того, чтобы бунтовать, необходимо иметь веру и энтузиазм, а критицизм в науке предполагает постепенное продвижение, не слишком доверяя конечным результатам.
Мы назвали это научным критицизмом, но вернее было, пожалуй, назвать это знанием границ нашего разума. Сомнение во многих вещах было у Комнацкого связано с нерушимой верой в методы исследования и в подлинные достижения науки.
Ожидаемая встреча двух знаменитостей со дня на день откладывалась, ибо Евлашевский, который, казалось, уклонялся от нее или ждал какой-нибудь спасительной помехи, все время ее оттягивал. Поначалу встреча должна была состояться у него на квартире, и это, в сущности, льстило его тщеславию – новоприбывший первым должен был оказать ему почтение, Комнацкий же ничего против этого не имел, потому что в нем не было ни малейшего высокомерия и склонности к формальным церемониям.
Тем временем о встрече узнала пани Гелиодора и выступила против предложенного проекта. Она употребила все свои стратегические способности, доказывая, что Евлашевский и Комнацкий должны встретиться якобы случайно на нейтральной территории. Дело в том, что ей хотелось стать свидетелем триумфа или хотя бы борьбы, чтобы позже можно было рассказывать об этом de visu et auditu [4]4
Буквально: «глазами и слухом» (лат.), т. е. как очевидец.
[Закрыть]. Она разослала во все стороны молодых студентов, находившихся у нее под командой, с соответствующими наставлениями, а сама так яростно напала на Зыжицкого и Евлашевского, что они не могли ей воспротивиться.
Вначале Зыжицкий пробовал полушутя возразить ей:
– Видите ли, сударыня, известно, что, когда дело доходит до научных споров, необходима полная свобода слова, а при дамах надо язык придерживать.
– Да разве мы какие-то простушки, ханжи, монашки, скромницы, краснеющие от каждого крепкого словца? У нас нет глупых предрассудков, при нас можно говорить все, и вы это прекрасно знаете.
Наконец назначили вечер, когда Комнацкий должен прийти к Гелиодоре; к тому же времени обещал прибыть и Евлашевский.
Зоня, хотя в последнее время она была занята исключительно собой и ходила грустная и раздраженная, тоже очень хотела увидеть приехавшего и присутствовать при поединке ученых мужей.
Ни один из участников встречи не подумал, однако, о том, кто начнет эту полемику и кто будет ее заключать. Между тем Комнацкий, чего они не знали, скорее избегал дилетантских диспутов на научные темы. Можно было поручиться, что он предпочтет целый вечер болтать о погоде, об уличных происшествиях, о всяких пустяках, чем выступить по научному вопросу в кругу непосвященных.
Евлашевскому полемика также была не на руку, он к ней не был теперь расположен, опасаясь ученого «педанта», то есть человека с логикой и системой, говорящего о вещах, глубоко им изученных; таким образом и Евлашевский не был склонен вызывать джинна из бутылки.
Чтобы не оказаться одиноким среди чужих ему людей, Эвзебий потянул с собой на встречу Эвариста, с которым недавно познакомился, а тот рад был случаю хоть бы издали увидеть Зоню.
В этот вечер пани Гелиодора, неизменно выражавшая свое презрение ко всяким правилам приличия и хорошего тона, сделала небольшие уступки, чтобы не выглядеть слишком провинциальной в глазах гостя.
Обычно она выходила к своим гостям в поношенном, небрежно застегнутом платье, часто даже без чистого воротничка и с потрепанными обшлагами. На этот раз она надела почти совсем новое платье с белоснежными манжетами. Комната была старательно подметена, бесчисленные окурки выброшены в закрытый экраном камин. Старой Агафье было приказано надеть шелковое платье и чистый платок на голову. К чаю приготовили более изысканную, чем обычно, закуску.
Одна только Зоня не пожелала одеться иначе, явилась в будничном платье.
Из кабинета, примыкавшего к гостиной, вынесли в спальню весь нагроможденный там и компрометировавший хозяйку хлам, чтобы сделать помещение просторнее.
До вечера было еще далеко, и всех еще мучил жаркий, палящий день, а Гелиодора с папироской в зубах уже беспокойно ходила по своей маленькой гостиной, которая вскоре должна была стать ареной боевых действий.
Никто однако не приходил, лишь когда стало смеркаться, появились первые студенты, самые молодые и нетерпеливые. Собирались медленно, и как раз те, кто меньше всего интересовал хозяйку.
Зоня вышла не скоро, задумчивая, бледная, молчаливая, с пренебрежительным и рассеянным выражением лица. На несколько заданных ей вопросов она едва соблаговолила ответить. Когда пришел Зориан, которого хозяйка приняла очень холодно, Зоня стала прохаживаться с ним по комнате и перешептываться.
Шелига покорно следовал за девушкой, обращавшейся с ним как со своим рабом, и одновременно так фамильярно, что даже Гелиодора пожимала плечами.
– Наедине делайте что хотите, – нетерпеливо шепнула она своей приятельнице, – но на людях надо держать себя скромнее.
– Какое мне дело до людей, – коротко и зло отрезала Зоня.
В комнате уже было немного молодежи, когда Эварист привел Эвзебия. Пани Гелиодора, хотя ей и говорили о невзрачной его внешности, все же не могла скрыть своего удивления при виде неказистой, скромной фигурки, лишенной какой бы то ни было значительности.
Она тут же завязала с ним разговор и была еще больше удивлена, услышав, как он, заикаясь, говорит самые банальные вещи, так что ни в какой учености его нельзя было заподозрить.
Увидев входящего Эвариста, несчастный Зориан струсил и удрал от Зони. Но та, быстро сообразив, почему он это сделал, догнала его и отчитала, заявив, что хочет, приказывает, чтобы он не обращал никакого внимания на Дорогуба и не отходил от нее ни на шаг.
Избалованное дитя, Шелига явно испытывал страшные муки. Когда Эварист подошел поздороваться с кузиной, он снова попробовал улизнуть, но Зоня во всеуслышание сказала:
– Что вы все убегаете? Стойте и не отходите от меня! Шелига молча повиновался.
Сидевшие на диване и у стола говорили обо всем, что только приходило на ум, – о профессорах, об условиях жизни в Киеве, о некоторых лекциях, о докторантуре, которую должен проходить Комнацкий, но никто не касался вопросов научных и социальных, которые единственно всех интересовали. Ждали «отца».
Иногда кто-нибудь из молодежи пытался открыто завязать спор, но никто на это не откликался. Эвзебий рассказывал хозяйке о красотах Рейна, а студентам – о паломничестве немецких коллег на его берега.
Старая Агафья уже не раз жестами спрашивала хозяйку, не пора ли подавать чай, и, когда Гелиодора сделала ей наконец знак, что можно разносить, в комнату вошел Евлашевский со своим штабом, состоявшим из нескольких самых смелых его последователей. Взоры всех присутствующих обратились на него: он был бледен и старательнее, чем обычно, отводил в сторону свои бегающие глазки, но одет был более тщательно – явно думал о том, как будет выглядеть.
Гелиодора заранее приготовила фразы, которыми она намеревалась представить ученых мужей друг другу. Начала она с молодого, затем прибавила:
– А это пан Евлашевский, наш отец и любимый учитель, наш светоч, о котором вы, пан Комнацкий, не могли не слышать, потому что слава о нем выходит далеко за пределы нашего города.
Комнацкий, пряча улыбку, приветствовал Евлашевского с почтением, а тот что-то бурчал себе под нос, видимо, был не очень доволен рекомендацией Гелиодоры.
Первые минуты неловкости миновали в молчании.
Молодежь окружила обоих мужей и ждала схватки. Евлашевский бросил несколько ничего не значащих фраз и тут же замолк. Эвзебий, раз-другой смерив его взглядом, продолжал разговор с хозяйкой.
Подали чай.
Между тем слушатели пришли, чтобы быть свидетелями поединка, и горячая молодежь с нетерпением ждала… Напрасно.
– Послушай, Зыжицкий, – тихо сказал один из студентов, – до каких же пор? Надо бросить им кость, пускай погрызутся… Евлашевский ведь великий молчальник, пока его не заденут за живое. Ничего не поделаешь, надо нам поднять какой-нибудь вопрос…
С этим все согласились, и молодой Гельмер, подойдя к столику, начал излагать Эвзебию, согласно евангелию от Евлашевского, наиновейшую социальную теорию. Обращаясь все время к своему наставнику, Гельмер особенно напирал на якобы извлеченные из тьмы веков древние славянские права и обычаи новой организации общины, распределения собственности и т. п.
Комнацкий терпеливо слушал и даже изредка подсказывал уже немного запинающемуся Гельмеру отдельные положения из трудов Гастгаузена [5]5
Гастгаузен Август (1792–1866) – немецкий ученый, экономист.
[Закрыть].
Когда Гельмер кончил, наступило молчание. Комнацкий уставился в пол, словно обдумывая сказанное.
– Все это не новые идеи, – наконец произнес он, – каждое общество начинало с общины и прошло через нее, но если бы мы теперь путем умозаключений и теоретических выкладок возвратились к общине, это было бы добровольным отступлением назад к варварству.
Услышав эти слова, Евлашевский слегка покраснел.
– Вы, сударь, надеюсь, признаете, – сухо сказал он, – что теперешние общественные отношения в Европе отнюдь не идеальны и человечество, пришедшее к таким результатам с помощью этой якобы цивилизации, которая себя изжила, имеет право искать чего-то лучшего и на ином пути.
– Человечество во все времена имело право искать средства для улучшения условий своего существования, – возразил Эвзебий, – это его земное предназначение, но незачем повторно идти уже испытанным и избитым путем.
– Вопрос именно в том, – сказал Евлашевский, – исследованы ли эти пути. Каждая нация имеет свое предназначение и должна в своей собственной сокровищнице искать зерно истины; и в нашей сокровищнице есть это зерно… Может быть, старым семенам не хватило времени прорасти.
– А для меня еще вопрос, – вновь возразил Комнацкий, – является ли община только нашим достоянием. Еще в первобытном обществе мы видим общину как нечто переходное и подготовительное.
Евлашевский презрительно скривил губы, окинул насмешливым взглядом собравшихся и замолк.
В комнате стало тихо.
Последнее слово как будто осталось за приезжим, и ни у кого не было охоты вступать с ним в спор, когда вместо Гельмера выступил другой студент и стал страстно доказывать необходимость радикальных перемен, разрушения старого порядка, чтобы очистить поле действий для грядущих поколений.
В своих аргументах он также апеллировал к Евлашевскому, который меж тем выказывал явные признаки нетерпения и недовольства.
Задетый за живое, Комнацкий, видя, что речь идет о символе веры, больше не колебался.
– Да, верно, – спокойно подтвердил он, – необходимость реформ, совершенствования, прогресса – все так, но одновременно необходимо иметь ясное представление о том, как это совершится…
– Вот, вот, – пробормотал Евлашевский, отхлебнув из чашки, – медленно, нога за ногу, прийти к тому, чтобы этак поколений через десять нащупать болезнь, а за следующие десять немного подлечить ее…
Он говорил тихо и насмешливо:
– Работу во имя прогресса нельзя мерить длиной человеческой жизни, – сказал Эвзебий. – Человечество, то есть совокупность отдельных личностей, имеет единую жизнь, а мы лишь маленькие ее участники… Отдельно взятому индивидууму это может быть и неудобно, но что значит отдельно взятая личность?
Снова все переглянулись, но уже никто не пробовал задевать Комнацкого, который остался в одиночестве, словно собравшиеся объявили ему открытую войну.
Евлашевский также не вдавался больше в полемику, увидев, сколь различны его теория и теория, привезенная Комнацким из-за границы.
По его губам скользила саркастическая улыбка.
Эварист наблюдал за Зоной, которая во время этого короткого обмена мнениями стояла, нахмурив брови, всматриваясь в Эвзебия и вслушиваясь в то, что он говорил; потом она посмотрела на Евлашевского, ожидая, что будет дальше. Молодежь, разбившись на группы, горячо спорила по углам. Пани Гелиодора, сидевшая рядом с гостем, была чисто по-женски под впечатлением свежего слова, и по ней ясно было видно, что «отец» много потерял в ее глазах.
Так или иначе упорное молчание Евлашевского давало повод подозревать его в отсутствии мужества и веры в себя.
Стало шумно, каждая группа вела свой отдельный разговор. Гость перекинулся на погоду, сравнивая местный климат с тем, в котором прожил несколько лет. Он напал на метеорологию, кто-то отпустил шуточку по этому поводу, и Комнацкий весело подхватил ее.
Словом, «отцу» он показался весьма заурядным субъектом.
Зыжицкий спросил, отводя Евлашевского в сторону:
– Ну что, отец?
Тот, отворачиваясь, сказал:
– Да что? Молокосос и педант! С кем тут говорить! Зоня, которой возлюбленный шепотом задал тот же вопрос, резко ответила:
– Не понимаю я этого Комнацкого, вижу только, что он относится к нам с пренебрежением, отделывается чем попало… Он явно избегает полемики.
И пожала плечами.
Генеральное сражение, на которое возлагали столько надежд, так и кончилось этой перепалкой, и никто уже не ждал, что Евлашевский или Комнацкий поднимут перчатку.
Последователи Евлашевского слишком долго питались его теориями, чтобы можно было их легко переубедить, однако некоторые из них словно бы задумались, очевидно переваривая слова Комнацкого.
Мнения разделились, высказывались нерешительно.
К концу вечера Зоня, выбрав подходящую минуту, подошла к гостю и задала ему несколько вопросов о предмете, который интересовал ее больше всего: о правах женщин и их эмансипации.
Она стала горячо жаловаться на зависимое положение женщин, настаивать на необходимости вызволить их из неволи и в конце концов так прижала помалкивающего Эвзебия, что он вынужден был ей ответить.
– То, что вы называете вопросом о правах женщин и что действительно могло быть вопросом во времена средневековья, сегодня не существует. Почти у всех цивилизованных народов женщина имеет те же права, что и мужчина. Все дело в способностях. Женщины, как и мужчины, одарены не одинаково, не каждая может стать Каролиной Гершель [6]6
Гершель Каролина Лукреция (1750–1848) английский астроном.
[Закрыть], но каждая имеет на это право. Если женщина чувствует в себе силы, отвагу, выдержку, почему бы ей не добиваться положения, которое она считает достойным ее?.. В Америке женщины даже занимают кафедры в университетах… И у нас можно этого добиться!
И он двусмысленно улыбнулся.
Такой ответ заставил Зоню замолчать, поскольку Комнацкий дал ей понять, что спорить им, собственно, не о чем. При этом он был очень учтив и в чрезвычайно лестных выражениях приветствовал энтузиазм, с которым, как ему уже говорили, она относилась к науке.
В общем все разочаровались в надеждах, возлагаемых на пана Эвзебия. Его находили холодным, избегающим говорить о серьезных предметах, даже высокомерным, хотя он никого не обидел. Молодежь считала его чопорным и надутым, те, кто ждал фейерверков остроумия, говорили, что ему не хватает таланта и красноречия… Словом, из всех этих суждений можно было вывести одно, – что он не произвел никакого впечатления; а все же в душе тех, кто его слушал, хотя они и не признавались в этом, пан Эвзебий оставил глубокий след, дал им богатый материал для размышлений.
Евлашевский, который почти каждый вечер переживал минуту некоего вознесения, вдохновения, подъема, импровизируя нечто хаотическое и непонятное, на этот раз был сам не свой, безразличный и безучастный.
Было уже после десяти, когда Эварист по знаку Комнацкого отыскал свою шляпу, и они вместе покинули собравшихся. Большинство осталось с пани Гелиодорой, и только после их ухода общество оживилось, вспыхнули споры, суды и пересуды.
«Отец» понуро молчал, хозяйка слушала, но своего мнения не высказывала, от молодежи отделывалась шуточками.
Пришлось довольно долго ждать, пока Евлашевский, подготовившись, не воскликнул обличительным тоном:
– Вот вам плоды заграничного образования! Молодые люди возвращаются чуждые всему, что нам дорого, не понимая ни наших потребностей, ни наших традиций, с головами, перекроенными на немецкий или французский лад, а мы покорно падаем ниц перед гением Запада!
Это суждение, заключавшее в себе крупицу истины и при этом провозглашенное с таким пафосом, вызвало всеобщее одобрение. Евлашевский победил: собравшиеся с почтением окружили его, он был доволен собой и, словно поставив таким образом печать на этом памятном вечере, немедленно удалился.
Он спешил, да и, по правде сказать, Комнацкий, прогресс, наука теперь гораздо меньше трогали его, чем собственные дела. Бедняга до последнего времени боролся с нуждой, тайком поддерживал свое существование различными мелкими заработками; появление его бывшей жены, как бы нарочно посланной судьбой для его спасения, ставило его в положение, которое следовало хорошенько обдумать.
Вернув себе эту потрепанную жизнью, увядшую и намного менее соблазнительную, чем когда-то, женщину, он мог одним махом обрести независимость. Оправдывал он себя тем, что богатство в его руках могло стать средством, приносящим обильные плоды. Жажда денег заставила его покончить с софизмами… Жребий был брошен, он решил завладеть Евдоксией, как своей собственностью, со всем ее достоянием.
Перепуганная женщина, зная его характер, сопротивлялась как могла, но в конце концов как будто покорилась судьбе, стала уступать и соглашаться на все. Страх сломил ее.
Правда, она еще пробовала договориться, откупиться от неволи, но Евлашевский отстаивал свои права и не шел ни на какие уступки.
Не найдя толкового советчика в Васильеве, Евдоксия отправилась ставить свечи перед иконами святых угодников в церквах и в Киево-Печерской лавре, а попутно перебирала в памяти – кто бы из ее киевских знакомых мог помочь ей вырваться из когтей Евлашевского.
Будущая жизнь с этим человеком, когда она о ней думала, представлялась ей пыткой, из госпожи ей предстояло снова превратиться в невольницу, обреченную на вечные попреки за свою прошлую жизнь, на строгое заточение… и, кто знает, быть может, на нужду?
Утопающий хватается за соломинку. Мысленно перебирая тех, кому она привезла письма, Евдоксия в конце концов решилась довериться статскому советнику Яблокину. Яблокин некогда был в приятельских отношениях с ее так называемым мужем, и знакомство с ним, возобновленное в Киеве, началось в давние времена. Так как приходил он к ней редко, – он занимал теперь высокое положение и навещал Евдоксию только в память о своем друге, – пришлось послать к нему Аннушку с мольбой зайти хоть на минутку для важного разговора.
Евлашевский бывал у нее каждый вечер, Яблокина поэтому просили прийти непременно днем.
Человек он был, сразу видно, почтенный, в частной жизни любил комфорт и веселое общество, с добрым сердцем, но ума невеликого, притом строгий блюститель закона и связанных с ним формальностей. Ему уже было под шестьдесят, он был полноват немного, но всегда свежевыбрит, чтобы выглядеть помоложе. Советник охнул, узнав, что среди бела дня, после плотного завтрака ему придется взбираться на второй этаж.
Его приняли с великим почтением, усадили в удобное кресло, и Евдоксия начала с того, что упала перед ним на колени и, заклиная именем покойного мужа, умоляла, чтобы он выручил ее, сироту, из беды.
Горестным был ее рассказ о прошлом, мучительной была исповедь, без которой не удалось обойтись. Советник слушал с напряженным вниманием.
Во время рассказа только движения его рук свидетельствовали, что старик сомневается, можно ли будет спасти Евдоксию.
– Дело ваше очень трудное, его как орешек не разгрызешь и как хлебную корку не выплюнешь… Все зависит от этого человека, каков он и можно ли с ним поладить; если нет, придется покориться.
– А если убежать на край света? – закричала Евдоксия.
– Конечно, – сказал советник, – будь это возможно, почему бы и нет? Но вы думаете, он, положив на вас лапу, не следит за вами денно и нощно? Не погонится за вами? А ну как объявят розыск и схватят вас где-то в дороге?
Яблокин то разводил руками, то складывал их на животе, показывая, что не видит спасения. Тогда Евдоксия стала просить его быть посредником и поговорить с Евлашевским. Она клялась, что все ее состояние не превышает пятидесяти тысяч рублей и половину она готова отдать мужу, если он предоставит ей свободу.
Советник пообещал заняться ее делом, но при этом шепнул Евдоксии на ухо: «Аи, матушка, вы говорите о пятидесяти, да я-то знал, какой у покойного капитал был. Аи-аи!» Евдоксия закрыла лицо руками, пробовала что-то объяснить, но советник уже не слушал; не откладывая дела в долгий ящик, он пошел к Евлашевскому.
Нужна была вся сила привязанности к умершему другу, чтобы заставить его после сытного завтрака подняться еще и на третий этаж. Прямо жалость брала, видя, как он стоит у дверей, отирает пот со лба, подбородка и шеи и тяжело дышит.
Яблокин застал Евлашевского за объяснениями с Ванькой, от каковых объяснений у того была сильно потрепана чуприна. Такой способ воспитания народа не входил в теоретические рассуждения Евлашевского, но на практике оказывался временами необходим.
Советник с «отцом» мало знали друг друга и, если принять во внимание положение, какое занимал Яблокин в чиновничьем мире, и его антипатию к так называемому опрощению, то данный визит мог показаться очень странным. Но Евлашевский сразу догадался о его цели.








