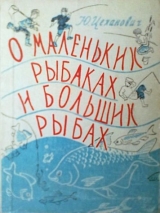
Текст книги "О маленьких рыбаках и больших рыбах"
Автор книги: Юрий Цеханов
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
– Ты и ночуй у нас! А я Марьюшку к вам пошлю, предупрежу твоих, чтобы они не беспокоились. – А сама ушла.
Лежим мы с Федей. Стал я понемногу согреваться, и стала у меня душа отходить.
Вспомнил я все, что со мной было: и как я по кочкам шел и как себе все ноги стер, как я жерличку ставил на большого окуня, как через реку по бревнам переходил, как в воду попал и чего натерпелся, пока Федя не пришел, и как мамы боялся, когда домой шел. Ах, думаю, как хорошо, что все это кончилось и я дома, и тепло, и с мамой все по-хорошему обошлось…
Посмотрел я на Федю. А он лежит напротив и тоже на меня смотрит. Смотрели-смотрели мы так друг другу в глаза да вдруг как прыснем оба со смеху!.. Должно быть, он тоже согрелся, и ему хорошо стало.
В это время вошла мама с двумя большими чашками в руках.
– А вы уж смеетесь, – говорит, – озорники! Значит, согрелись! Ну, вот вам еще, пейте, пока горячее.
Это она принесла нам горячий настой малины.
Выпили мы с Федей по чашке горячей-горячей, только терпеть можно, малины, и совсем тепло стало.
– Ну, а теперь спите, – говорит мама. Поцеловала на прощание меня и Федю и ушла.
Завернулся я получше в одеяло и, когда засыпал, еще раз подумал: «Ах, как хорошо!»
На другой день мама все-таки рассердилась.
Встали мы с Федей утром веселые. От вчерашнего у меня только осталась боль в ногах. А Федя и совсем молодцом – как всегда.
Пошли в столовую чай пить. Мама нас оглядела обоих, спросила, не болит ли что, потрогала рукой головы – нет ли жару.
– Ну, – говорит, – кажется, на этот раз все благополучно обошлось! Садитесь, ешьте.
Мы с Федей ждать себя не заставили, – как голодные волчата, набросились на холодный вчерашний пирог. Набили полные рты и жуем, а сами смотрим друг на друга исподлобья и от смеха прыскаем. А потом с набитыми ртами, давясь и перебивая друг друга, принялись рассказывать наши вчерашние приключения. А мама слушает нас и сама с нами смеется.
Позавтракал Федя и ушел домой – книжки взять и в школу идти. И я в школу стал собираться. А мама мне и говорит:
– Ну, Шурик, счастье твое, что ты так дешево отделался! Только теперь, пока берега совсем не обсохнут, на реку – ни ногой! Вторые сапоги мне шить тебе не на что.
Мне бы надо промолчать на это. Ведь я и сам понимал, что мама права кругом. А только как будто бес меня какой толкнул, и я самым развязным тоном возразил ей:
– А как же, мамочка, ведь у меня там, у куста, жерличка поставлена. Может быть, на нее окунь большой попал. Мы с Федей думали сегодня вечером сходить туда.
Глаза у мамы сразу сделались круглыми.
– Ты понимаешь, что ты говоришь? Неужели вчерашняя история тебя ничему не научила? Ты понимаешь, что ты мог бы утонуть или простудиться и смертельно заболеть? Ты понимаешь, наконец, что я за тебя измучилась? – И пошла и пошла!.. Да так меня распушила, что я в конце концов, действительно, понял…
На большой реке
I
В это лето долго не пришлось мне поудить. Сначала, пока высокая вода в Ярбе стояла, я не смел и подумать попроситься у мамы на реку. А во всю вторую половину мая шли обложные дожди. Уж и учение в школе давно кончилось, а я все еще сидел дома и с тоской глядел на свои удочки. И Федя на реку не ходил. Отводили мы с ним душу только тем, что строили широкие планы на то время, когда будет хорошая погода: и окуня большого ловить собирались, и щуку на жерличку, и леща на «кисточку».
В самом начале июня наступила наконец ясная, теплая погода, и в какие-нибудь три дня земля подсохла. Решился я наконец попроситься у мамы на реку.
– Что ж, – сказала мне мама, – пожалуй, иди. Надеюсь, ты теперь благоразумнее стал и в реку больше не упадешь.
Побежал я сразу же к Феде, и решили мы с ним идти завтра с утра. Вечером червей накопали, приготовились.
И вот странно – вспомнил я про свою жерличку, и пришло мне в голову, что на ней большой окунь сидит. Я, конечно, прекрасно понимал, что если бы и попался на жерличку окунь, он все равно давно бы успел протухнуть – ведь целый месяц прошел. Понимал я это и все же живо представлял себе: подхожу я к кусту, жерличка размотана, я тяну за бечевку, а на конце ее… окунь! Большой, с половину моей руки, и перья у него, как огонь, красные.
Но когда на другой день пришли мы с Федей к заветному кусту, я и место не сразу узнал. Стоит куст совсем на сухом берегу, а от большого залива остался маленький ручеек. Журчит по камешкам. И жерличку мы еле-еле нашли, ее совсем листьями закрыло. А окунек все еще на крючке сидит, только высох совсем, как мумия.
Впрочем, мы хорошо поудили с Федей в этот день. Нашли на этом же бережку подходящее местечко и наловили десятка три-четыре окуньков, сорожек, пескарей, но все мелочь.
Вернулся я в этот день домой поздно, к вечернему чаю. Мама была не одна – у ней сидела какая-то гостья. Я дикарь был большой и потому попытался незаметно прошмыгнуть мимо столовой в свою комнату. И стал там в порядок приводить свою рыболовную снасть.
Слышу, мама зовет:
– Шурик, что ж ты не идешь! – И тон у ней при этом какой-то особенный.
Нечего делать, пришлось идти.

Вышел в столовую, поздоровался с гостьей и уселся за стол. А мама опять мне говорит особенным тоном (такой тон бывал у нее, когда она мне сюрприз хотела сделать):
– Ты что же, не узнаешь Екатерины Васильевны?
– Нет, – говорю, – узнаю, – а сам удивляюсь, что ж тут особенного, что это Екатерина Васильевна. Она изредка бывала у мамы, и я давно ее знал. На худом лице у нее длинный нос и всегдашнее выражение какой-то озабоченности и торопливости, глаза добрые, но как будто заплаканные. Вот и все, что я о ней знал. Меня она совсем не интересовала. А мама мне опять говорит:
– Екатерина Васильевна тебя к себе в гости зовет, в Людец, на недельку. Ты хочешь? У нее мальчик есть, тебе ровесник. Его тоже Шурой зовут.
А Екатерина Васильевна добавляет:
– Такой сарданапал [6]6
Сарданапал – библейский царь, прославившийся своими завоеваниями. Здесь – в смысле озорник, разбойник.
[Закрыть], сладу не могу с ним дать.
У меня, что называется, дух занялся. И выговорить ничего не могу – в Людец!.. А Людец на большой реке, на Сне! Вот поудить-то можно! А мама продолжает:
– Если хочешь, так собирайся. Завтра днем поедешь с Екатериной Васильевной на пароходе. Ну? Хочешь? Что ж ты молчишь?
– Конечно, – говорю, – хочу, мамочка! – а сам все еще в себя не могу прийти, столько интересного вдруг мне представилось. И еще новое – пароход. Ведь я на пароходе еще ни разу не ездил!
– Ну, вот и хорошо, – говорит Екатерина Васильевна, – завтра к часу дня приходи на пристань. Пароход «Владимир» в два часа отходит. А на пароходе спроси у матроса, где капитанская каюта, да в нее и иди. Я тебя ждать буду.
Это меня уже окончательно в восторг привело: пристань, пароход «Владимир», матрос, капитанская каюта – слова-то ведь одни чего стоят! Значит, я и поеду в капитанской каюте!
Посидела Екатерина Васильевна еще несколько минут и вдруг заторопилась и стала прощаться. Мама ей и говорит:
– Ну, спасибо вам, милая Екатерина Васильевна, что вы такое удовольствие моему сумасброду делаете. Только боюсь я – уж если он чуть в Ярбе не утонул, так в Сне-то того и гляди утонет!
А Екатерина Васильевна отвечает:
– Нет, что вы! Ведь он не один будет, а с Шуркой, с ребятами. Они все на реке выросли – и плавать умеют и с лодкой управляться. Да и Сна у нашего берега мелкая. Вот на Прорву я его не пускаю, хоть и просится, – там, говорят, глубоко! Да он, пожалуй, и без спроса уедет, он у меня такой…
А я слушаю все это и свои выводы делаю: значит, и на лодке буду ездить и купаться. Вот здорово! И Прорва, куда Матвей Иванович рыбачить ходит, близко… Вот бы туда!.. И так мне вдруг весело стало, что не выдержал я, заплясал на месте от радости. А мама и Екатерина Васильевна надо мной засмеялись.
Ушла Екатерина Васильевна. Стал я про нее маму спрашивать, кто она такая и почему она меня к себе в гости позвала. Мама удивилась.
– Как же ты не знаешь? Ведь она наша старая знакомая. Твой покойный папа с ее мужем, капитаном Бутузовым, приятелями были. Одно лето мы всей семьей жили в Людце на даче. Впрочем, и то сказать, ты тогда совсем маленький был. Кажется, трех лет тебе еще не было. Ну, давай собираться. Завтра я ведь на службу рано пойду.
Дала мне мама свой маленький чемоданчик, положила туда смену белья и другое, что надо. Поспорили мы с ней немного, когда я хотел сложить в чемодан чуть не все, какие у меня были, рыболовные принадлежности. Дала она мне целый рубль денег (никогда у меня такой суммы в руках не было), со строгим наказом: на пустяки не тратить, только на что-нибудь нужное, когда обратно поеду, билет купить или другое что.
Кончили сборы. И вдруг я вспомнил:
– Мамочка, а как же Федя?
Мама не поняла даже.
– Ну, что Федя? При чем тут Федя?
– Как же я без Феди поеду?
– А, ты вот о чем! Ну, что ж, придется тебе без Феди ехать. Ненадолго расстанетесь. Не брать же его с собой. У Екатерины Васильевны и своих ребят много. Я и то удивляюсь, как она тебя еще решилась звать.
Мне стало грустно: с Федей расстаться придется, да и маму вдруг стало жаль, ведь я еще ни разу из дома не уезжал.
II
На другой день еще двенадцати не было, а я уже шел на пристань по длинной дамбе, насыпанной через болотистую пойму, что отделяла наш городок от берега Сны. В одной руке у меня чемоданчик, а в другой – связка разобранных удилищ. Вид, должно быть, у меня был самый гордый и независимый. Еще бы, я только что прошел через весь город и вот сейчас иду на пристань совершенно один и поеду на пароходе и в капитанской каюте! И в кармане у меня лежит целый рубль.
Пришел я на пристань, и вся моя гордость и независимость вдруг пропали – народу много, погрузка вовсю идет – бочки с маслом катят по сходням на пароход, какие-то железные полосы несут и с грохотом бросают их на нижнюю палубу. Шум, говор, крики… Попробовал я было на сходни сунуться, да куда – какой-то здоровенный дядя с огромным ящиком на спине как закричит на меня: – Поберегись, зашибу! – Мне даже страшно стало.
Притулился я около сходен и жду. А на обносе парохода стоит какой-то речной человек в фуражке с якорьками и бороду свою большую разглаживает поочередно обеими руками. Посмотрел на меня из-под нависших бровей и говорит мне:
– Ты бы, мальчик, шел отсюда, а то ушибут тебя!
Я сказал ему, что мне нужно к капитану Бутузову. Тогда он сошел с парохода на пристань, взял меня за руку и провел на пароход. Подвел к дверке с надписью «капитан» и говорит:
– Ну вот, тут и Бутузов. Постучись в дверь-то!
Постучался я. Слышу голос:
– Кто там? Входи!
Вошел. Каютка маленькая, точно шкаф.

Вижу – сидит за столом большой человек, в фуражке с золотым околышем, а усы у него черные, как смола, блестят.
Перед ним чайный прибор и стакан с чаем недопитый.
Поздоровался я, а он меня довольно сурово спрашивает, и лицо у него строгое:
– Что скажете, молодой человек?
Я смутился, но все же сумел объяснить ему, кто я и зачем пришел.
Лицо у капитана сразу стало добрым, таким добрым, что я даже удивился.
А он мне говорит:
– Так ты, значит, Ивана Ивановича сын?
То-то, я смотрю, лицо мне будто знакомое! Я ведь тебя знал еще вот этаким, – и показывает рукой на аршин от полу. – А теперь, смотри-ка, какой вырос большой. Ну, садись, садись, гостем будешь! – и подвинул мне стул складной. – Так ты, говоришь, к нам в Людец собрался? Поудить, верно? Хорошее дело! Хорошее дело! С Александром моим подружись! Я с папой твоим большой друг был! По зимам на медведя вместе хаживали! Рано он умер, рано. Жить бы ему да жить. Ну, а мамочка как поживает? Трудно, поди, ей одной-то приходится?
Вижу, капитан Бутузов совсем не так уж страшен, как мне показался с первого взгляда, – и радушен, и словоохотлив, и передо мной не важничает. И у меня язык развязался, стал я ему рассказывать про свои недавние рыболовные приключения и что собираюсь делать в Людце. А он слушает, подсмеивается надо мной ласково и о подробностях расспрашивает.
В это время на пристани ударили один раз в колокол, и над нашей головой прогудел первый свисток.
– Через полчаса отваливаем, – говорит капитан.
– А как же, – говорю, – Екатерины Васильевны нет?
– Придет, еще успеет. Хотя с ней это бывает: торопится-торопится, а опаздывает. Ну, не придет, – один поедешь.
Скоро прогудел и второй свисток, а Екатерины Васильевны все нет. Я совсем забеспокоился. Наконец, капитан стал уж наверх собираться, усы перед зеркалом причесал, белый китель надел. Вдруг дверь распахнулась стремительно, и в нее влетела Екатерина Васильевна, с корзинкой на руке и вся узелками и пакетиками увешана. Села на стул и отдышаться не может, а по доброму худому лицу ее пот градом катится.
– Ух, – говорит, – уж я торопилась-торопилась, а чуть не опоздала!
А капитан поглядел на нее насмешливо и говорит:
– Вот-вот. Я только что молодому человеку про тебя говорил, что ты все торопишься и все-таки опаздываешь.
Взглянул на часы и говорит:
– Ну, вы тут посидите, а я наверх пойду, отваливать пора, – и вышел.
Екатерина Васильевна тоже вскочила.
– Мне, – говорит, – еще надо человечка одного повидать, – и тоже вышла.
Остался я один. Оглядел каюту. Очень она мне понравилась, маленькая, а все в ней есть – и кровать за занавесью и небольшой письменный столик. Фотографии в рамках стоят…
Загудел третий свисток, а за ним сразу же тонкие свисточки – ту! и ту-ту! – отвальные. Я скорее в окно высунулся. Смотрю, народу – полна пристань, и все у перил теснятся, и на пароход глядят, кричат что-то, платками и шляпами машут. Слышу, мой капитан командует: «Вперед, тихой!», а из машины ему кричат: «Есть, вперед тихой!» И вдруг за стенкой каюты что-то завозилось, зашумело, заплескала вода, а пристань поползла куда-то назад. А капитан снова командует: «Вперед, до полного!» Возня и шум за стенкой сначала усилились, а затем перешли в равномерный, глухой торопливый стук, а пристань уже далеко позади осталась… Пошел пароход!..
Берег пока знакомый. Вот устье Ярбы прошли, за ним заводы – механический, лесопильный, а от городка нашего только соборная церковь виднеется на высокой горе.
В это время пришли в каюту капитан и Екатерина Васильевна.
– Ну, давай, – говорит капитан, – с нами обедать, – и нажал кнопку звонка.
Я стал отказываться, мне уж надоело в каюте сидеть, да и пароход очень хотелось осмотреть. Но Екатерина Васильевна с таким озабоченным видом стала настаивать, чтобы я пообедал, что пришлось согласиться.
После обеда капитан говорит мне:
– Теперь иди погуляй по пароходу, посмотри, а я спать лягу, мне ночью на вахте стоять. В воду только не упади!
Весь пароход я обежал. Первый класс меня поразил – никогда не видал я такой роскошной обстановки. Особенно в рубке красиво – стены обиты серебристой клеенкой, диван красного бархата, на столе, покрытом белоснежной скатертью, серебряное ведро, а в нем бутылка с золотой головкой. А на потолке – люстра с электрическими лампочками. И на ней дрожат и позванивают хрустальные граненые подвески. Заглянул я и в одну из незанятых кают – тоже хорошо: два дивана бархатных, столик у окна, умывальник… А пассажиров не видно. Только в рубке за маленьким столиком обедали два каких-то толстых барина с красными лицами.
Но интереснее всего мне показалось на нижней палубе, в третьем классе. Народу здесь полным-полно. Не только на решетчатых деревянных лавках, что в два этажа вдоль стен установлены, но и на дровах, и на мешках, и на бочках, а то и просто на полу, на своих вещах – везде люди. И сидят, и лежат, и стоят, и ходят. Кто чай пьет или жует что-то, кто в вещах своих разбирается, кто так сидит. Шутят, разговаривают, хохочут, поют, на гармошке пиликают. И все веселые (мне самому-то весело было, вот и казалось, что все веселые). Хорошо, думаю, на пароходе ездить!
А потом машиной заинтересовался – она была видна через машинный люк. Долго смотрел, как качаются блестящие шатуны, вертятся кривошипы и вал. И пахнет из люка хорошо – машинным маслом и перегретым паром.
Наконец, вышел на самую корму, вот где хорошо-то! Из-под кормы пенистая вода убегает и на солнце блестит так, что глазам больно смотреть. Ветерок мягкий, ласковый, луговой травой и речной водой пахнет. А кругом-то! Правый берег куда-то вверх лезет и по склону его лепятся березки и сосенки, а левый – до самой воды зарос кудрявыми кустами ивняка, а за ними луга поемные. Вот, думаю, счастливые, кто на пароходе живет, – всегда кругом у них такая красота!
В это время слышу, петух где-то совсем близко около меня запел. Оглянулся я, вижу, у стенки деревянная клетка стоит, а в ней петух и куры тюкают мирно носами в пол клетки. Может быть, я бы им и позавидовал, да в это время как раз вышел на корму мальчишка-поваренок, в колпаке и замасленной белой куртке. Вынул из клетки одну курицу да тут же на полене топором отрубил ей голову и ушел, а курицу с собой взял…
На корме мне больше не захотелось оставаться. Поднялся я на палубу, обежал ее. На носу постоял. Здесь, думаю, еще лучше, чем на корме, – и вид шире, и оба берега и сама Сна далеко видны… А курица… ну, что ж, на то она и курица… Ведь их едят, я и сам ем… А все-таки как он ее! Топором тюкнул, и готово. А ведь ей жить хочется… Ну, не буду про нее думать!
Пошел гулять по палубе. Вижу, в штурвальной рубке, у большого рулевого колеса, штурвала, стоит знакомый мне бородатый пароходский, который меня к капитану провел. Захотелось мне с ним поговорить, да не решился: стоит он, как каменный, только руками слегка шевелит, когда колесо поворачивает. Прямо вперед смотрит, а глаз не видно – бровями совсем завешены. Все-таки подошел я к штурвальной рубке, заглянул в нее. В рубке еще двое – парень молодой в жилетке, тоже у штурвала стоит, вперед смотрит, и помощник капитана, такой щеголеватый маленький человек, в белом кителе, на складном стуле сидит и папиросу курит. Стою и гляжу на них, что они делают.

Вдруг говорит мой бородатый знакомый:
– Видно, тебя капитан Бутузов с нами взял? Куда же ты это едешь? – а сам ко мне и лица не поворачивает, все вперед глядит.
Удивился я. Оказывается, он меня заметил, узнал, хоть и не глядит по сторонам и глаза бровями завесил. Разговорились мы ним. Оказалось, что он лоцман, а парень молодой – его помощник, штурвальный. Стал я их обо всем, что кругом видно, расспрашивать, а им, вероятно, скучно было. Они тоже меня спрашивать стали – кто такой, зачем в Людец еду, надолго ли… Только помощник капитана в разговор не вмешался, но и он к нему прислушивался. А мы обо всем говорили, меня все интересовало. Речку какую-то проехали, я спрашиваю, как ее зовут, бакены стоят, красные и белые, я о них спрашиваю, для чего они поставлены, что означают; село на берегу показалось, я о селе спрашиваю, пароход с караваном судов встретился – и о нем спрашиваю: куда идет, чем суда нагружены…
А время все идет да идет незаметно.
Постояли несколько минут у пристани близ завода с высокой, как башня, трубой. Деревню какую-то на правом берегу прошли, за ней лес начался, а слева вдруг открылась широкая даль лугов, а среди них тут и там вода блестит.
– А вот и Людец видно, – говорит лоцман и показывает рукой куда-то в луга. Смотрю, верно, совсем в стороне от реки виднеется село в. самой глубине лугов – церковь белеет, возле нее не то роща, не то сад большой и домики толпой стоят.
– Как же так, – говорю, – Людец ведь на реке стоит, а это село совсем в стороне от реки.
– Да он на реке и стоит. Это Сна так обманывает. Тут по сухому-то пути до Людца пяти верст не будет, а по реке и все девять. Берег-то Сны, вот он! Гляди, какие она петли делает!
Прошли еще версты четыре, а Людец нисколько ближе не стал, все так же в стороне виднеется.
Слева показалась какая-то река небольшая, в Сну впадает. Спрашиваю лоцмана: какая это река.
– А это, – говорит, – Прорва. Да она не настоящая река-то, а так себе, проток. Видишь, вон там словно как озеро блестит – это Глухая Сна, старая река, староречье, значит. Прорва-то и соединяет Глухую Сну с нынешней. Раньше, говорят, тут ложок был просто, а однажды весной в полую воду его и размыло, прорвало, значит. Вот она Прорвой и называется.
Так вот она, думаю, эта самая Прорва, с которой Матвей Иванович приносит своих удивительных щук и окуней! Только совсем я ее не такой себе представлял. С парохода-то она уж очень невзрачная. Да полно, та ли это Прорва?
– А что, – спрашиваю, – рыба в Прорве есть?
– Рыбы тут много! Щуки, окуни, ерши, караси. Большие!
Нет, пожалуй, та самая Прорва!
В это время пароход вышел из-за мыса. И то село, которое я еще недавно издали рассматривал, вдруг совсем близко оказалось. А лоцман говорит:
– А вот и Людец наш!
– А где приставать будем? – спрашиваю.
– Приставать мы здесь не будем. Здесь и пристани нет.
– Не будем приставать? А как же я в Людец попаду?
– Лодку высвищем. Перевозчик лодку подаст к пароходу. В нее и сядешь, а он на берег тебя доставит. А сейчас ты иди-ка собирай свои пожитки да на корму выходи. Да Катерине Васильевне скажи, что к Людцу подходим, а то она опять опоздает.
Мне немножко жаль стало, что путешествие мое так скоро кончилось, но и Людец меня интересовал. Попрощался я с лоцманом и штурвальным и побежал в каюту.
Капитан спал еще, а Екатерина Васильевна сидела у столика и шила что-то. Сказал я ей, что Людец близко. Екатерина Васильевна заторопилась.
– Ах, – говорит, – дошить я не успела! Мне немного осталось. Ты иди на корму, а я сейчас, сейчас приду.
В это время загудел над нами свисток, какой-то особенный: ту! ту! ту! ту-ту! ту!
– Уж лодку свистят, – говорит Екатерина Васильевна, – иди же на корму! А я сейчас, сейчас… Только вот петлю домечу.
Захватил я свой чемоданчик, удилища и вышел на корму. Смотрю, уж мы против села идем, а впереди от перевоза к нам наперерез плывет лодка. А пароход идет, ходу не убавляет.
Только, когда лодка чуть не к самому носу парохода подошла, колеса замедлили свое движение, а потом и совсем остановились. В этот момент лодка вдруг у самой кормы появилась. Перевозчик в красной линялой рубахе бросил вдруг весла, шагнул на нос лодки и ухватился за цепь, которая нарочно для этого прикрепляется вокруг кормы парохода.
Матрос с парохода придержал лодку багром, а другой матрос одновременно спустил в нее лесенку железную с перильцами, – она пришлась в серединку лодки, – и говорит:
– Ну, кто в Людце сходит, садись!
Останется, думаю, Екатерина Васильевна! И стою. В лодку спустились каких-то два пассажира, а я все стою. Матрос спрашивает:
– А ты, мальчик, что же? Боишься, что ли?
– Нет, – говорю, – Екатерину Васильевну жду! – А в это время как раз и она на корму прибежала с корзиной своей и пакетиками. А уж сверху, с палубы кричат:
– Скоро ли там? Что пароход задерживаете?
Уселись, наконец, все в лодку. Лесенку подняли, пароход зашумел колесами и стал быстро уменьшаться, и вот уж он далеко от нас ушел, а мы на средине большой реки качаемся на поднятых пароходом волнах.
III
На берегу нас встретили три маленькие девочки Екатерины Васильевны.
Поздоровалась мать с ними и говорит:
– Ну, вот я гостя вам привезла!
Девочки уставились на меня, а я почему-то сконфузился.
А Екатерина Васильевна спрашивает:
– А Шурка где же?
– Он в лес ушел с ребятами, за удочками! Как пообедали, он и ушел! – тоненьким голоском сказала Верочка, высокая худенькая девочка лет семи.
Пошли по сыпучему желтому чистому песку, который покрывал берег до самой воды. Даже ноги в нем слегка вязли, и идти было тяжело.
Вдоль берега за высоким сплошным забором тянулся большой, весь густо заросший, старый сад.
Только прошли мы старый сад, за ним другой, молоденький, по крутому береговому склону рассажен, а на самом верху среди молодых деревцов стоит дом, такой веселый с виду, приветливый.
– Вот и наш дом! – говорит Екатерина Васильевна.
Вошли мы в маленькую калиточку возле бани, поднялись по крутой дорожке вверх. Задняя половина дома оказалась в два этажа. Окна в нижнем этаже совсем близко к земле. А за домом – двор, большой, с разными сарайчиками и амбарчиками. Вошли в дом, прошли большую светлую переднюю и оказались в столовой. Екатерина Васильевна вдруг заторопилась и говорит девочкам:
– Ну, вы занимайте гостя, а я пойду!..
Захватила свою корзину, узелки и ушла куда-то в заднюю половину дома.
Остался я с девочками. А мне раньше с девочками совсем не приходилось встречаться. Школы тогда были для мальчиков и девочек отдельные, а в домах, где есть девочки, бывать мне не приходилось. Поэтому, о чем с ними говорить, я совсем не знал. Стою возле своего чемоданчика и на них гляжу, а они – на меня. Наконец, Верочка спрашивает:
– Это твой чемодан?
– Мой, – говорю.
– А палки эти тоже твои?
– Мои, только это не палки, а удочки!
– А у Шурки удочки не такие.
На этом наш разговор и кончился. Стоим и молчим. Потом девочки переглянулись между собой, хихикнули обе и убежали куда-то. А я один остался. Сижу.
Окна в комнате все цветами заставлены. Над дверями портрет какого-то генерала с неестественно перетянутой талией. Большие стенные часы громко тикают. А под потолком мухи жужжат. Много мух! Скучно мне стало.
Вышел я в переднюю, оттуда на двор и в садик перед домом и лег на траву.
Вид передо мной чудесный! Прямо – река, широкая, спокойная, как стекло, гладкая. За ней безграничные зеленые луга. Только на самом горизонте видна зубчатая полоска леса да село какое-то. Среди лугов тут и там вода блестит, а около села как будто целое большое озеро. Ага, думаю, это та самая Глухая Сна, что я с парохода видел. А Прорвы не видно…
Солнце уже довольно низко опустилось. Но птички еще пели в саду. Одна из них так явственно выговаривала: «Пе-етю видите!», что хотелось спросить ее: «Какого Петю?»
Долго ли я так лежал, не помню. Только сзади вдруг неслышно появился мальчик одних лет и одного роста со мною, смуглый, загорелый, босой и без шапки. Но одет очень чистенько и как-то даже щеголевато: рубашка светлая, чистенькая, аккуратно ремешком перетянута и одернута, штанишки до колен аккуратно подвернуты.
Ни слова не говоря, лег он тоже на траву неподалеку от меня. Лежим оба и молчим. А я по своей привычке внимательно сбоку разглядываю его.
Лицо у него смуглое, глаза как будто суровые, верхняя губа слегка кверху вздернута, и под ней белые зубы блестят. Загорел весь до того, что на носу кожа лупится, а шея сзади под затылком совершенно черная. Так меня эта шея поразила, что я невольно выразил вслух свое удивление:
– Шея-то у тебя какая! Черная!..
А он мне:
– А тебе какое дело! – И вздернутую свою верхнюю губу опустил на нижнюю, сжал губы, и лицо у него приняло презрительное и суровое выражение.
Я так и не нашелся, что ему сказать, и мы замолчали. А потом он меня спрашивает:
– Тебя как зовут?
– Шуриком.
– А меня Шуркой.
Ага, думаю, это и есть Шурка, сын Екатерины Васильевны, которого она так смешно называет – сарданапалом.
А Шурка говорит:
– Мы завтра с ребятами к Якову Ивановичу едем. Поедешь с нами?
– Поеду, – говорю. – А к какому это Якову Ивановичу?
– А к губернатору.
Что такое, – думаю, – губернатор, ведь это какое-то большое начальство. Откуда в Людце губернатор? И спрашиваю недоуменно:
– А он где, губернатор-то?
– А он на реке, на бакенах сидит. Вон там! – и махнул неопределенно рукой, куда-то в сторону большого сада.
Я опять ничего не понял. Губернатор… На бакенах сидит. Что все это значит? Бакены – ведь это те красные и белые колпачки, которые я вчера видел с парохода. Они, действительно, на реке стоят, но как можно на них «сидеть» да еще губернатору?.. Уж не смеется ли надо мной Шурка? Но нет, Шурка говорил обо всем этом вполне серьезно, как о вещах общеизвестных.
Не решился я расспросить Шурку более подробно – не хотелось мне перед ним обнаруживать свое невежество.
Скоро Верочка тоненьким голоском позвала нас чай пить, а после чаю Екатерина Васильевна спать нас отправила, хотя еще не было десяти часов.
Спать мне пришлось вместе с Шуркой, в его комнатке, которая оказалась в нижнем этаже задней половины дома. Комнатка маленькая, но такая же аккуратная, как и сам Шурка. Все прибрано и все на месте.
Перед сном мы разговорились. Я ему рассказал о себе, удочки свои показал, а он мне свои. Я им подивился – очень хорошие удочки, хоть и самодельные. Удилища прямые, легкие и крепкие. Шурка сказал, что они из вересу [7]7
Верес, иначе можжевельник, – небольшое хвойное деревце, чаще кустарник.
[Закрыть]. Верес я знал только как невысокий кустарник, а оказывается, он деревцами растет. И очень хорошие выходят из него удилища.
Выяснилось в разговоре с Шуркой, кто такой «губернатор», который «на бакенах сидит». Дело, оказывается, совсем простое: в двух-трех верстах от Людца на другом, берегу Сны живет один людецкий крестьянин, Яков Иванович Вершин, по прозвищу «губернатор», а живет он там потому, что он бакенщик, то есть надсмотрщик за бакенами; это и называется «сидеть на бакенах». Завтра жена его посылает ему свежего хлеба, а повезут хлеб два сына Якова Ивановича – Володя и Вася, приятели Шурки. А Шурка с ними хочет ехать и меня зовет. Вот и все.
Посмеялись мы над недоумением моим и легли спать.
Только успел я глаза закрыть, – и все, что я видел за этот большой для меня день, все это, как живое, мне вдруг снова представилось: и блещущая на солнце вода, и зеленые, убегающие назад берега, и черные усы капитана Бутузова, и Глухая Сна среди зеленых лугов, и отрубленная голова курицы, и завешенные бровями глаза лоцмана. Все это проплыло в моих глазах, смешалось, и я заснул.
IV
На другой день, как только мы с Шуркой на двор вышли, нас уже ждали там и Володя и Вася Вершины. Пришли они с вестью неприятной – ехать к Якову Ивановичу нельзя, незачем.
– Мамка тесто вчера не ставила, – сказал Вася, младший из Вершиных, белоголовый мальчуган лет семи, с синими наивными глазами.
А брат его, Володя, одних лет с нами, крепкий такой, широкий в плечах мальчик, плечи у него совсем квадратные, и голова прямо на них посажена, словно и шеи нет, – поглядел на него насмешливо и говорит:
– Он уж ревел сегодня, что не поедем!
– А вот и не ревел! Что врешь! – яростно сказал Вася, а у самого сейчас слезы готовы брызнуть из глаз.
И я был разочарован, поглядел на Шурку, показалось, что и он тоже. Но только Шурка ничем не проявил своего неудовольствия.
Прошли мы всей гурьбой в садик, уселись там на траве, где мы вчера с Шуркой познакомились. Разговорились.
Оказалось, что Шурка пользуется большим авторитетом среди своих ребят. Это сразу почувствовалось: и по тому, как он с ними разговаривал, и как они к нему относились. Ишь ты, думаю, какой командир! Захотелось и мне чем-нибудь весу себе придать. Рассказал я ребятам, как я в реке тонул, когда ходил ловить большого окуня. Но на ребят мой рассказ большого впечатления не произвел, а Шурка даже заметил пренебрежительно:







