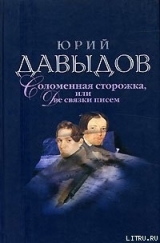
Текст книги "Соломенная Сторожка (Две связки писем)"
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 36 страниц)
Не стану анатомировать ни натуру Дегаева, ни поведение Тихомирова, уцелевшего члена Исполнительного комитета «Народной воли» первого состава, ни нескольких других эмигрантов, примыкавших к Тихомирову, – факты, одни факты.
Дегаев – Судейкин, Судейкин – Дегаев (от перемены мест слагаемых сумма не меняется) уловляли души десятками. Но оставались «кончики» подозрительных обстоятельств. Они ничем не грозили инспектору: тот не обретался в революционном подполье. А Дегаева все круче гнул и прижимал страх возмездия. Быть может, сильно преувеличенный, но оттого не менее ужасный. Дегаев сломя голову бросился за границу. Он покаялся. Но и в пароксизме страха оставался реалистом – предупредил: многое, мол, из моих сообщений Судейкин не доверил ни высшему начальству, ни своим бумагам, оставляя до поры при себе. Выходило, что смерть Дегаева не избавит от гибели уже проданных и преданных. Выходило, что обреченных спасла бы только смерть Судейкина.
Дегаеву предложили умыться его кровью. Дегаев согласился, выставив два условия. Первое: все останется тайной для русского подполья, ибо инспектор заслал туда столько шпионов, что даже и ему, Дегаеву, они не ведомы. Второе: убрав Судейкина, он, Дегаев, уберется из России. Навсегда. На всю жизнь… Ну что ж, с ним не спорили.
Предлагая народовольцам свою «шпагу», Лопатин догадывался, что серия чудовищных провалов – результат предательства. Принимающие «шпагу» даже не намекнули о Дегаеве. Все искажают кривые зеркала заговоров: дали, видите ли, слово мерзавцу хранить его тайный замысел, а Лопатину, несмотря на «дружеские отношения», ни слова, ни намека.
Поражают, однако, не кривые зеркала, они неизбежны. Поражает другое. Уже в России Лопатин, как сказали бы нынче, вычислил Дегаева. Тот сделал свое дело и унес ноги. Но дело, за которое взялся Лопатин (он говорил: «собрать рассыпавшуюся хоромину»), – дело это только начиналось. Возникала «молодая партия». Быть может, со временем Лопатин надеялся влить в новые мехи новое вино? Быть может… Он едет в Дерпт – там налажена нелегальная типография. Едет в Москву, в Ростов, в Одессу, связывается с другими городами, ищет, находит, одни нити закрепляет, другие нити сучит, у него десятки адресов, фамилий, кличек, дюжины срочных дел, он озирается, чуть ли не каждый может носить маску. Он ведет торопливые заметки на тонюсеньких листках, заметки всегда с ним, он спит, а под подушкой револьвер, голыми руками не возьмешь, он все успеет уничтожить, непременно успеет, так ведь бывало не однажды.
Его взяли голыми руками. Средь бела дня. На Невском, близ моста, где вздыблены кони и напружены мускулы юных атлетов. На него напали сзади, он закричал в ярости, его втолкнули в пролетку, он изловчился, вывернулся, успел выхватить свои листки и бросить их в глотку, его шею заклешнили, сдавили, он захрипел, закатывая глаза и мгновенно синея.
О, как торжествовали на Фонтанке – в департаменте полиции, в штабе корпуса жандармов. У директора департамента г-на Плеве, всегда анемично-бледного, розовели щеки и блестели глаза, когда тонким своим перышком, фиолетовыми чернилами писал он доклад на высочайшее имя. О, как они торжествовали в ту проклятую субботу: затравить и свалить матерого Лопатина, а в придачу готовенький проскрипционный список. Аж троих чиновников – скорее, скорее, скорее – засадили строчить «Копии заметок Германа Лопатина, отобранных у него при задержании 6 октября 1884 г. в Санкт-Петербурге». Одиннадцать страниц большого формата: имена, адреса, имена, адреса. Римские проскрипционные списки ставили людей вне закона; эти, здешние, – под его молот. Одиннадцать страниц – имена, имена, имена. О каждом шифрованная депеша. И каждая депеша открывает перечень страданий и лишений, продолжая общий, всероссийский мартиролог…
Меня охватила странная тупая апатия. Я вяло спустился по лестнице, сумеречной даже в ясные дни, вышел во двор, стал ходить по асфальтовой дорожке и курить, никчемно шевеля носком ботинка опавшие листья.
Там, наверху, меня ждали документы судебного процесса. Там, наверху, в дворцовом покое, собрались военные судьи – этот Цемиров, генерал с замашками квартального надзирателя, эти светски-лощеные, невозмутимые гвардейцы штаб-офицерских чинов. И уже появились жандармский полковник Оноприенко, сухощавенький, черноглазенький, с желчным лицом, и его сослуживец жандармский ротмистр Лютов, корректный и педантичный, у него, трудолюбца, столько забот: еще не закрыв дело Лопатина, он уже открыл дело Александра Ульянова.
Там, наверху, ввели подсудимых, и некто Вейгельт, льняной, светлоглазый, говорили, отменный исполнитель цыганских романсов с собственным аккомпанементом на семиструнной, титулярный советник Вейгельт прочищал горло для чтения обвинительного акта, предрешавшего смертный приговор Лопатину и Саловой, Сухомлину и Якубовичу, Иванову и Кузину, Гейеру и Ешину, Конашевичу и Стародворскому.
Пятого июня 1887 года военный суд вынесет резолюцию.
Пятнадцатого июня 1887 года приговор войдет в силу.
Несколько дней и несколько ночей приговоренные к смерти будут ждать тихого, торжественного и, случалось, грустного: «Пожалуйте».
Я знаю, императору угодно будет всемилостивейше повелеть: смертную казнь заменить каторгой, Лопатину и еще четверым – бессрочной, вечной. Я-то знаю, успел взглянуть на последние листы пухлого фолианта. Но они… они ждут смерти.
Я хожу по асфальтовой дорожке, курю, шевелю опавшие листья. Бывают и в архиве такие дни… Герман Александрович сказал бы «нервоедящие».
* * *
Спустя лет десять после исчезновения старшего брата в потустороннем шлиссельбургском заточении Всеволод Александрович в один отнюдь не прекрасный день решился ехать в Петербург, на Фонтанку. В пути из Вильны он твердил себе, что ничего, ничего, ничего не добьется, ничего, ничего, ничего даже и намеком не услышит про Германа, но этот рефрен как раз и означал, что Всеволод Александрович все же питал какую-то слабенькую надежду.
В Петербурге он и разговаривать не стал с мелкой сошкой, а сразу записался на прием к директору департамента полиции. Пришел в назначенный день и, мельком взглянув на других просителей, тотчас сам себя ощутил мелкой сошкой. Чувствуя эту унизительную, постыдную свою незначительность, он сидел, сжав зубы, уставившись в карминный, тускло-блескучий паркетный узор.
В приемной было то, что всегда там бывало в приемные дни. Длинный и плоский, как рейсшина, дежурный чиновник, стараясь избавить высшее начальство от скуки общения с этими женщинами в трауре, с этими исплаканными старушками, со всеми, кто значился в списке, предлагал: «Прошеньице напишите-с… Прошеньице напишите-с…» И оттого, что он прибавлял «с», почему-то чудилось: «Авось и обойдется, все хорошо будет…» Однако редкий просил бумагу, и дежурный чиновник опять пришепетывал: «Прошеньице напишите-с…» На него переставали обращать внимание, говорили вполголоса: «А ваш-то за что?» И непременно оказывалось, что «наш-то» совершенно ни за что, может, кто другой и не безвинно, а «наш-то», ей-богу, безо всякой причины… И в этих настойчивых повторах таилось упование убедить не соседа, а вон того, кто скрывался за высокими дверями директорского кабинета. И еще перепархивало с уст на уста доверительное, не соотносившееся с тем, кто в кабинете: «А знаете ли, мне знакомый прокурор говорил, что вскоре выйдет общее решение относительно облегчения… Нет, нет, весьма осведомленный господин, о-о-о…»
Пригласили Всеволода Александровича.
Они давно были знакомы, Дурново и братья Лопатины. Как же, встречались! Сановник, блеснув пенсне, брякнул звонком, приказал принести какую-то папку, Дурново перелистнул бумаги, стал читать вслух, Всеволод Александрович, потерявшись от волнения, удержал в памяти лишь обрывки: «Единственное существо, по отношению к которому на мне лежат при жизни нравственные и материальные обязательства, это мой сын… Мать его состоит в русском подданстве… В последний раз я видел его в Париже… Дальнейших сведений не имею…» Всеволод Александрович не мигая смотрел на папку, как на свет в оконце, Дурново захлопнул ее, как ставни. Всеволод Александрович пробормотал: «Мы посылаем племяннику деньги». – «И отлично делаете, – похвалил Дурново. – Дети всегда страдают безвинно». – «Позвольте я напишу брату», – попросил Всеволод Александрович. «Это наистрожайше воспрещено, – ответил директор департамента. – И не мною, не мною, вы знаете, – поясняюще прибавил он, воздевая указательный палец. – Я уж и без того преступил инструкцию. – Дурново как бы в задумчивости усмехнулся. – Все-таки в некотором роде старые знакомые». И, наклонив коротко остриженную, в иглах седины голову, потянулся к звонку.
С той приметливостью к пустякам, какая ослепительно кратко возникает в минуты сильного волнения, Всеволод Александрович навсегда запомнил ручку этого бронзового колокольчика – грустный вислоухий спаниельчик…
«Нравственные и материальные обязательства», – эхом доносилось из каменной могилы. Материальные посильно исполнялись, а нравственные… Пока Бруно бегал в коротких штанишках, ничего нельзя было поделать, находясь за сотни верст. Но минули годы, Бруно – студент, дозволена переписка, из каземата доносится: «Всего чаще мерещится мне Вологда», – и решительное «нет» переписке «с моим милым мальчиком». Стало быть, долг за ним, дядюшкой.
Всеволод Александрович пригласил племянника в Вильну. Дожидаясь, тревожился, не откажется ли Бруно? Конечно же по наущению матери. И не обнаружатся ли в племяннике невнешние черты той женщины, что оборвала в душе Германа все струны жизни? Да и сумеешь ли воздействовать на молодого, однако, вероятно, вполне сложившегося человека примером и обликом отца? Примером и обликом, надо полагать, искаженным. Пусть и не нарочито, а с безотчетностью, свойственной бывшим женам… О семейной драме старшего брата Всеволод Александрович знал только то, что эта драма завершилась разрывом, но, как бывает даже с людьми достаточно объективными, безоговорочно принял сторону Германа. А много спустя расслышал из загробного, шлиссельбургского: «В силу разных интимных причин все струны жизни были порваны в моей душе еще ранее окончательной катастрофы со мной», – расслышал и испытал такое чувство, словно Зинаида Степановна нанесла ему личное оскорбление…
Племянник предварил приезд телеграммой.
Всеволод Александрович словно бы и незаметно для самого себя очутился на вокзале за час раньше срока. Он тут был со всеми знаком, с ним здоровались, спрашивали, по какой он надобности, Всеволод Александрович радостно объяснял, что вот-де встречает племянничка-студента.
Из вагонов высыпали приезжие, Всеволод Александрович быстро отыскал глазами Бруно – вот он! – походка была отцовская: плечами враскачку, и эта походка казалась очень уместной на деревянном перроне, похожем на палубу. Всеволод Александрович шагнул было навстречу племяннику, но тотчас остановился: узнает ли Бруно своего дядюшку?
Всеволод Александрович не находил в своей внешности разительного сходства с братом, но в желании, чтоб Бруно узнал, было нечто экзаменационное: если меня узнает, стало быть, и отца помнит. И в этом своем желании ощутил он двойственность: будто б и Герман стоял рядом, стоял и тоже ждал, узнает ли сын иль не узнает?
Высокий, стройно-сухощавый, гимнастической выправки студент, в форменном сюртуке белого полотна и легких серо-синих брюках, поставил у ног саквояжик и, обмахиваясь фуражкой, всматривался в лица встречающих. Он дважды пересекся взглядом с Всеволодом Александровичем, но вскользь. «А походка-то как у Германа, адмиральская», – опять подумал Всеволод Александрович и, сняв шляпу, направился к Бруно.
Бруно показалось, что он давным-давно знает не этого чернобородого человека, машущего шляпой, а вот этот улыбающийся очерк рта. Они обнялись, пошли об руку, размениваясь вопросами-ответами, ничего, в сущности, не значащими, но дело-то было не в словах, а в том, что дядюшка и племянник словно бы примеривались один к другому, весело сознавая, что это им удается, как удается идти в ногу, не толкаясь локтями.
Еще в Москве, получив приглашение в Вильну, Бруно почувствовал мамино смятение и понял, что это оттого, что ему предстоит наведаться во «вражеский стан».
О семейной драме они никогда не говорили. Не запрет был, не табу, а словно бы все само собою разумелось, и это не тяготило, не мучило, потому, вероятно, что жилось покойно, уютно, и Бруно любил Горского. Разрыв же отца и матери представлялся очень, очень давним. То было почти в младенчестве, в Париже, а Париж тоже очень давно истаял в сером, лиловом, туманном, остались разве что интонации «истого парижанина», какими русские гимназии не одаряют даже пай-мальчиков.
И все же, подрастая, Бруно думал об отце. Расспрашивать маму он не решался. В его детской робости была недетская деликатность. Нет, он не предполагал встретить холодный мамин отпор, а боялся своими расспросами причинить боль отчиму.
Победило, однако, любопытство не совсем ребяческое, потому что Бруно хотелось знать человека, которого постигло такое непоправимое несчастье.
Они были вдвоем, она стала рассказывать, в чертах ее прекрасного лица проступало выражение молодой отваги, и Бруно чувствовал восторг участия в невероятно опасных приключениях, не книжных, не майнридовских, а взаправдашних.
Изо всего, что она и в тот раз, и потом рассказывала, Бруно особенно приник к истории, как папа плыл в лодке-душегубке по огромной бешеной сибирской реке со страшными скалистыми берегами, поросшими девственным лесом, где водились косматые звери и бродили беглые каторжники.
Он уже был студентом, когда прочел биографическую заметку об отце, написанную Лавровым в Париже лет десять тому назад. Мама сказала: «Нелегальное издание» – и прикусила губу, Бруно заметил тень обиды и гнева: «Это ведь мой почин, это ведь я многое сообщила Петру Лавровичу».
Бруно понял, что тут какая-то размолвка с Лавровым и какая-то связь с той драмой, которую они с мамой не трогали. Бруно почти не ошибся, почти догадался.
Петр Лаврович был привязан к обоим – к Герману и к Зине, разрыв переживал горестно, но сентенциями не кадил, справедливо полагая, что нет ничего гаже принудительного, «в законе», супружества. Потом, когда Герман оказался в бессрочном заточении, а Зина сошлась с живописцем Горским, Лавров ничего не имел против этого человека, но Германа-то любил наравне с дочерью Маней и ничего поделать с собою не умел, и ему не хотелось обращаться к Зине с чем-либо относящимся к Герману. Она это заметила, обиделась и разгневалась. И все ж не хлопнула дверью, а продолжала бывать в давно знакомой квартирке на улице Сен-Жак – помогала собирать материалы к биографии Лопатина. Просила лишь об одном: чтоб ничего не было «сугубо личного».
Но как раз именно это личное, как полагали втайне друг от друга и Зинаида Степановна и Бруно, не могло не возникнуть в Вильне. И Бруно изготовился к сопротивлению на тот случай, ежели его маму заденут хоть намеком.
На Тамбовской, однако, был задан лишь этикетный вопрос о здоровье Зинаиды Степановны. Казалось бы, вежливо отвечай, вежливо благодарствуй, и баста. Ну нет, в банальной краткости вопроса, в мимолетности вопроса Бруно и усмотрел враждебность к его матери. И едва Всеволод Александрович осведомился, видел ли племянник нелегальную брошюру «Процесс 21-го», Бруно, выпрямившись и твердо глядя на дядюшку, в свою очередь осведомился, известно ли Всеволоду Александровичу, что именно Зинаида Степановна подала Лаврову мысль приложить к брошюре биографическую заметку, и не только мысль подала, но и деятельно способствовала сбору материалов? Всеволод Александрович не удержался от удивленного восклицания и смущенно забрал в кулак свою длинную, черным веером бороду, а тетка Лидия Яковлевна, к которой, правду сказать, Бруно не проникся симпатией (ее хлопотливая заботливость казалась ему не совсем искренней), потупилась.
Все эти дни Бруно не разлучался с Всеволодом Александровичем. За полночь сидели под круглой висячей лампой; обедали в чистеньком общественном саду, где журчал фонтан; брели тропой вдоль железной дороги, в сторону бывшего монастыря, а теперь летней резиденции виленского епископа.
И это там, на повороте тропы, увидев сквозь листву старинную часовенку в солнечных пятнах и шевелящихся тенях от высоких сосен, это там Всеволод Александрович остановился, задумался, вычерчивая тростью зигзаги, потом сказал как бы и не племяннику, а себе: «Говорят, древний герб нашего города…» – и спросил: «Ты знаешь о святом Христофоре?» Бруно повел плечом: что-то, где-то, когда-то не то слыхал, не то читал о каких-то подвижниках, о каких-то королях или герцогах.
Был гул литовских сосен, облитых полуденным солнцем. Большое доброе лицо Всеволода Александровича светилось удивлением и радостью – он сознал самое главное, самое существенное. Христофор, святой Христофор… Если быть точным, Христофором-то стали звать потом, после подвига, когда уж, наверное, и на земле его не было, да дело-то не в этом, совсем не в этом, ты слушай, Бруно, слушай… Вообрази: Христофор, могучий, исполненный сил, стоял, опираясь на посох, близ бурного потока. Скалы, кустарник жесткий… И тут подошел к нему младенец, голенький, кудрявый, и попросил перенести на другой берег. Христофор поднял младенца на плечи, понес наперерез стремнине. Ох, каким тяжелым оказался этот младенец, каким тяжелым даже для него, могучего Христофора. А поток ревел все грознее, все глубже был поток. Христофор выбивался из сил, мелькало: не могу больше, не могу, не могу, но он нес младенца, а тот был все тяжелее, тяжелее… Ты понял, Бруно? Он нес на себе Грядущий День.
Вечером Всеволод Александрович отдал ему весточки, полученные из Шлиссельбурга.
Бруно взял листки и затворился в комнате. Положив на столик, коснулся, как незрячий, подушечками пальцев – в шероховатости бумаги ощутилась шероховатость казематных плит. Он стал зажигать лампу, спичка дрожала. Разлился свет, выступили строки – ровные, как по ниточке, каждая буква, мелкая и отчетливая, будто галька на дне ручья, и Бруно услышал гармоническую ясность этого почерка.
Сыну я писать не буду, потому что слишком люблю его, чтобы огорчать его молодость мыслями о трагической судьбе отца. Было бы лучше, если бы Б. считал меня давно умершим. Затем по характеру моих отношений с его матерью, мне нельзя было бы не внести в переписку с ним или фальшь, или сдержанность, чего я не умею и не хочу. К тому же самый факт этой переписки едва ли был бы по сердцу его матери, а я не желаю ни за что на свете портить их взаимных отношений внесением в них каких-либо диссонансов. Одним словом, писать ему не могу и не хочу, как он ни дорог мне. Большое спасибо тебе за сообщение кое-каких сведений о Б.Я очень рад за него. Пусть он живет занимательно, ярко, со всей полнотой и разнообразием житейских впечатлений! Пусть даже самая наука будет для него ответом на спрос собственной души и на требования жизни, а не формальной обязанностью, наложенной обычаем в заранее предустановленных рамках. Больно и унизительно мне иной раз подумать, что я ничем не помог ему в этом отношении, тем больше чести его матери, которой удалось справиться с нелегкой задачей в одиночку. Дай бог и дальше им обоим всяческих успехов и счастья! Лицом Бруно вылитый портрет своей матери. Иной раз я просто вздрагиваю, взглянув нечаянно на его фотографию: точно из рамки вдруг взглянула на меня его мать! Сам я могу реализовать себе взрослого Бруно только умом; в памяти же моего сердца ему всегда не больше семи лет. Всего чаще мерещится мне: Вологда, раннее утро, Бруно наскучило утреннее одиночество; и вот я чувствую, как легкие детские пальчики осторожно поднимают мне веки и как тихий– детский голосок спрашивает робким шепотом: «Папа, ты спишь?» Затем раздается радостный вопль: «Нет, ты не спишь! У тебя губы смеются!» И те же дерзкие детские пальчики начинают ерошить сверху мои усы, чтобы обнаружить ясней эту предательски обличительную улыбку губ…
О том, как я живу, ты можешь судить и по догадке. Сладости подневольного житья-бытья известны тебе немножко из собственного опыта. Прибавь сюда, что эти сладости вкушаются уже годы и годы. По-видимому, ты все же разделяешь общераспространенное в «публике» мнение о плодотворности уединения для спокойного, систематического мышления. Но ведь это только всеобщее простодушное заблуждение. На деле плодотворно только уединение добровольное и временное. Но довольно. Я мало склонен к меланхолическим излияниям, элегическим жалобам и тому подобным вздорным сентиментальностям.
Бруно бросился ничком на постель.
* * *
Потом, позже, не мог припомнить, как оно подошло вплотную, это ощущение, но самое ощущение помнилось даже как бы и не памятью, а телесно, всем существом: бесконечное одиночество в замкнутом пространстве, из которого выкачан воздух. В слова это не вмещалось. Не жизнь и не смерть? Но такое невообразимо…
На другой день он уезжал. Глядя из окна вагона на улыбающегося Всеволода Александровича, Бруно внезапно догадался, отчего, впервые увидев дядюшку, узнал этот очерк губ под усами: «Нет, ты не спишь! У тебя губы смеются…» – дядюшка Всеволод улыбался так же, как отец.
Высунувшись по пояс из окошка вагона, Бруно долго махал фуражкой.
* * *
Зинаиде Степановне казалось, что Бруно отсутствует месяца два, а то и дольше. Она и тревожилась, и тосковала, с грустной улыбкой припоминая, как впервые отчетливо осознала превращение сына в мужчину.
Это сделалось внятным при виде автора «Войны и мира».
Толстой приезжал из Хамовников верхом – приезжал к скульптору Трубецкому. Поджарая нервная лошадь, пританцовывая, брызгала талым снегом; Толстой, спешившись, как-то смешно и сердито притопывал, сбрасывая грязь со своих сапог. Зинаида Степановна, глядя из окна на старика в поддевке и картузе, вдруг подумала не о том, что видит гениального и великого, а удивленно и растерянно почувствовала свое сходство с графинюшкой Ростовой, удивившейся и растерявшейся оттого, что ее Николенька неприметно стал взрослым.
* * *
Зинаида Степановна была причастна к тому, что ее сын выбрал юридический. Она внушала: юриспруденция – орудие служения «малым сим»; особенно в такие глухие годы как нынче. Не умолчала и о пристальном внимании его отца к законодательству. (Никогда не говорила «Герман» или «Герман Александрович»; всегда: «твой отец».) И ногтем отчеркнула строки в лопатинской биографии, написанной Лавровым: «Г.А. стоял за мнение, что революционеру необходимо знать законы, что ему выгодно во многих случаях бороться с обвинением на легальной почве и в заключении отстаивать свои легальные права. Лопатин тщательно изучил все части нашего спутанного законодательства, которые могли быть ему полезны, и не раз сбивал с позиций даже известных док в препирательстве на почве пунктов закона. Этими-то знаниями он и помогал не раз тем из своих острожных товарищей, которые внушали ему симпатию. Многим он писал прошение, ссылаясь на тот или другой закон. Не одного он выручил своими советами…»
Студент Барт не пропускал даже курса международного права, хотя на лекциях графа Комаровского мухи дохли. Педель Аверьяныч, надзиравший за дисциплинарностью, серчал на эдакую сурьезность – и рублишком не поживишься. Другие господа студенты, случается, и пятишницу сунут да и прохлаждаются, хоть трава не расти, в «Русском трактире». Или насупротив – в Манеже. Скачки там бешеные, выезды – пальчики оближешь. На скачках носастый Илюшка Поляков, банкирский сынок, беспременно со своего жеребца грохнется – хохот. А ежели выезд купца Окромчаделова, всей Москве известного по кличке «Окромя неча делать», ежели его выезд, то уж такой фарс – дух вон! Так нет, господин Барт лекций не пропускает…
Барт посещал не только свои, обязательные, факультетские, но и те, где часов не замечают. Впрочем, на историко-филологический вообще-то валом валили. Правилами воспрещалось, да поди-ка удержи, когда под гром рукоплесканий всходит на кафедру человек, чем-то очень похожий на старинного подьячего. Он становится бочком, прямой ладонью оглаживает глухой черный сюртук. И мгновенная тишина: профессор Ключевский приступает к истинно художественному воссозданию картин Истории.
А с того дня, как дома, на Мясницкой, обсудили записку, представленную ректору Московского императорского, с того дня Бруно Барт стал посещать и лекции по литературе. Лектор, почтенный профессор Стороженко, был автором этой записки, поддержанной подписями и других профессоров, знаменитым Сеченовым в том числе. Смысл обращения к ректору был тот, что недопущение евреев в университет не только вопиющее безобразие, но и средство развращения студентов-христиан, приучающихся пользоваться привилегированным положением. «Ваша записка никакого практического значения иметь не будет», – сказал ректор, пожимая плечами. «Будет иметь принципиальное», – возразил Стороженко. Ректор улыбнулся: «Лет через сто, Николай Ильич». Стороженко вспыхнул: «Тем позорнее для нас!»
На юридическом посещать лекции «чужого» профессора Стороженки сочли необходимым: пусть ректор и иже с ним знают, что записка, поданная лучшими профессорами, уже имеет практическое значение.
Все это было хорошо, «порядочно», но Зинаиду Степановну тревожила самолюбивая сдержанность сына. Не то чтобы ей хотелось распахнутости, амикошонства, однако от этой сдержанности, казалось Зинаиде Степановне, должно веять холодом, отбивая у товарищей охоту к дружескому общению с ее Бруно. К тому же он не прочь был щегольнуть белым кантом на зеленом форменном сюртуке – верный признак университетского аристократизма. И не зарекался от белых перчаток. Ему бы дворянскую фуражку – вылитый лицеист. Прибавьте грассирование, упругую гимнастическую худощавость – и вот вам денди.
Зинаида Степановна намекнула об этом осторожно. Бруно отвечал, что у него нет желания играть роль рубахи-парня. Усмехнулся: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Зинаида Степановна полусогласилась. Она, мол, и сама не прочь выглядеть «комфортабельной», и все ж, мой милый, не так уж приятно, если тебя принимают за какого-нибудь корнета Отлетаева. Он опять усмехнулся: «Встречают по одежке, провожают по уму». Звучало чуть высокомерно. Но у Бруно были резоны ссылаться на пословицу.
Она это поняла, когда он попросил поляковское издание «Капитала». У нее был экземпляр, обряженный в переплет со славянской вязью: «Библия» – легонькая, а все ж маскировка – давно уж «Капитал», некогда дозволенный цензурой, изымался при обысках. Вряд ли квартира художника Горского была на примете охранки, Зинаида Степановна осторожничала «на всякий случай» – дорожила книгой, большую часть которой перевел «доисторический» Герман, тот, что еще не был знаком с нею. А книга-то вдруг и понадобилась Бруно. И притом, что называется, на вынос. Куда? Кому? Бруно сказал: «Ставропольцам». Ему казалось, что этого достаточно – папиным-де землякам. Зинаиде Степановне этого было недостаточно. Бруно объяснил: у них, в университете, есть и ставропольческое землячество, на Знаменской живут, – народничество, толкуют вроде бы исчерпанно; марксизм строг и точен; вот они и принялись за «Капитал». Зинаида Степановна колебалась. И все же объявила: из дому не выпущу, пусть приходят и здесь конспектируют.
Приходили, конспектировали; конспекты уносили на Знаменку. Зинаида Степановна уверилась в том, что ее сын, ее Бруно, не «опрощаясь», не отказываясь ни от белого канта, ни от белых перчаток, вовсе не выглядит в глазах коллег каким-нибудь корнетом Отлетаевым.
Оказалось, не только там, на Знаменской, но и в «Ляпинке» – шумном, безалаберном общежитии. И не только там, на Большой Дмитровке, но и у Никитских ворот, в студенческой пивной, где, сдувая пену с ритуальной кружки, решали бездну общественных вопросов.
Но все это было как бы предрубежным. Рубежом была весна. Взялась она наидружнейшей оттепелью. Москва-река в два дня очистилась, льдины вставали на попа и рушились, старожилы такой весны не видывали. И Московский университет тоже.
Ее сын, ее Бруно, не прятался на Мясницкой от забастовки.
Чего они хотели, Бруно и все другие, почти все?
Долой полицейщину! Долой устав восемьдесят четвертого года! Да здравствует автономия университета!
Проректор надсаживался:
– В кар-цер! В кар-цер!
Бастующие просили историка Ключевского не читать лекцию. Историк Ключевский, просьбе не вняв, взошел на кафедру. Студенты ушли.
Профессора Колоколова по той же причине ошикали.
Профессор Соколовский сетовал на недостачу кутузок. Под громовое «улю-лю» он выкрикивал:
– Я в свое время сиживал – и ничего, образумился…
Сторожа, отставные солдаты, пятились, приседая, как бабы у курятника: «Господа! Господа!» И глохли от двупалого свиста.
Но с Тверской заворачивали, прицокивая, казачьи эскадроны. И уже гремело на Никитской пехотное: «Рррота, стой!»
После благовещенья Бруно пришел домой. Благой вести не принес: университет закрыт.
Зинаида Степановна сказала тихо и строго:
– «Будь что будет, а я свой долг исполню». Это – Пастер.
Ее сын, ее Бруно, ответил:
– Я свой долг исполнил, но что же будет?
– Поедем за границу. Там продолжишь ученье.
– Нет, – сказал он, – из России я не уеду.
* * *
Все это припомнив живо, Зинаида Степановна сызнова увидела насупленного старика в картузе и поддевке и опять, как некогда, удивленно и растерянно подумала о том, что дети вырастают быстро, слишком, пожалуй, быстро… Но вспомнив все это, но подумав об этом, она без связи, внезапно, но наитию решила, что Бруно, минуя городскую квартиру, возьмет с вокзала к Соломенной сторожке. Она быстро собралась и уехала на дачу.
И точно, вечером Бруно был в Петровском-Разумовском. Зинаида Степановна просияла: нет, не переменился, вот ведь, едва расцеловавшись, стал рассказывать, ну точь-в-точь как и мальчиком, поспешно, доверчиво.
Но, по мере того как Бруно рассказывал, Зинаидой Степановной сильнее и сильнее овладевали навязчивые впечатления, те самые, что и на Мясницкой, смешиваясь с запахами ремонта и колокольным звоном, однако сейчас они не перетекали одно в другое, а сливались друг с другом, вызывая необыкновенное душевное состояние, не радостное и не мрачное, иное, которое она и не умела, и не пыталась определять, а только опять сознавала свою посвященность Герману. Она ходила по веранде, садилась, вставала, тянулась к ветвям бузины, срывала листок, прикусывала зубами и опять ходила, пересекая наклонный сноп солнечных, уже тусклых лучей, и лицо ее, оставаясь бледным, словно бы вспыхивало, шелковая блузка отсвечивала багровым, и вся ее фигура, несколько располневшая, обретала летящую легкость.








