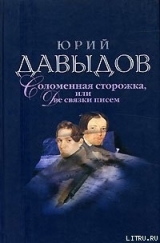
Текст книги "Соломенная Сторожка (Две связки писем)"
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 36 страниц)
Эмигранты пошучивали: Бурцев учредил революционную охранку. Ему было не до шуток. Странное дело, люди, отведавшие и тюрьму и ссылку, не понимали, что пора взглянуть на отечественную историю, на день сегодняшний и день грядущий и с точки зрения развития тайной полиции – сила безличная, но не безликая, все нарастающая и всепроникающая. Возобновив парижское издание журнала «Былое», в России запрещенного, Бурцев намеревался иллюстрировать безличность этой силы; учредив на окраинной улочке Люнен домашнее розыскное бюро, Бурцев обращался к ее личностям. В первую голову к Раскину. И уже установил, кто он такой.
Любовь Григорьевна сжимала худенькие кулачки:
– Не верю! Никогда!
У Бурцева не хватало решимости повторить ей то, что он уже говорил ее товарищам, то, что готов был кричать с Эйфелевой башни: «Азеф – провокатор! Глава БО – агент полиции!»
Над ним трунили отнюдь не беззлобно: «Мсье Пинкертон, вы попались на удочку! Порочить вождей партии? О, испытанное средство политиков вообще, политической полиции в особенности».
Может быть, только вчерашний каторжанин, обладатель громадного жизненного опыта, человек, которым он, Бурцев, восторгался еще в молодости, может быть, только Герман Александрович признавал, что улик с избытком. Но даже и он, проездом в Лондон, вот здесь, в этой крохотной, обшарпанной, убого меблированной комнате, даже Лопатин, все выслушав, сказал после долгого размышления: «Львович, нужно вбить последний гвоздь. Лопухин нужен, его «да». Чертовски трудно, не спорю. А духом не падайте. По слову Петра Великого, и небывалое – бывает».
Без потверждения Лопухина и впрямь нельзя было обойтись. Бурцев не располагал подлинниками документов, а копии… Примет ли копии третейский суд? Бурцев настаивал на третейском суде, и эсеровские цекисты уже соглашались. Соглашались. Ибо в лучшем случае – маньяк. Так вот, третейский суд удовлетворится ли копиями? Положим, Герман Александрович видывал и подлинники – там, в Питере, на квартире сына. Но сможет ли даже Лопатин, председатель суда, заручиться поддержкой двух других судей – Кропоткина и Фигнер? Допустим, сможет. Однако нет сомнения, что даже и тогда эсеровские цекисты, защищая честь мундира, вольны все отвергнуть: копии – не доказательства. И только Лопухин, только его «да» разорвет замкнутый круг.
Но сейчас, глядя на большеротую, большеглазую Любу Менкину, как курит она лихорадочно, курит одну за другой папиросы «Вдова Жоз», и сжимает кулаки, и повторяет «никогда не поверю», а нервный тик подергивает ее лицо, такое измученное, такое измученное и гневное, – сейчас Бурцев не думал ни о копиях, ни о подлинниках, ни о третейском суде, ни о Лопухине. Он понимал ее негодование, ее муку, он сострадал ей и, понимая и сострадая, не убеждал в своей правоте. Господи, он-то убежден, хоть сейчас под топор, убежден бесповоротно. И даже главный козырь и самого Азефа, и защитников Азефа, и ее, Любин, главный козырь: «А покушение на Плеве? А покушение на великого князя?» – Бурцев отвергал: игра шла на двух столах. И только. Но все это он не в силах был растолковать Любови Григорьевне. Кому угодно, где угодно, но не этой несчастной женщине, для которой – он же видит – изобличение мужа – катастрофа. Нет, не в силах, даже призывая тени удавленных, даже взывая к их женам, невестам, детям. Взъерошенный, тщедушный, в мятой, несвежей сорочке, помаргивая воспаленными от бессонницы веками, он избегал ее гневно-пылающих глаз.
– Знаете… – проговорила она едва слышно, но очень отчетливо. – Знаете, господин Бурцев… Если вы публично не отречетесь, я убью вас – Лицо уже не подергивалось тиком, бледно было последней бледностью.
«Фурия, – испугался Бурцев, – настоящая фурия».
– Я жду, – сказала она по-прежнему тихо и отчетливо.
Он попятился. Ее губы скривились:
– Крыса. Подлец.
Как вслепую она вышла в крохотную прихожую и хлопнула дверью. Бурцев подбежал к дверям. На лестничной площадке послышался всхлип. Он хотел выйти, нашаривал замок, руки не слушались, он чувствовал совершенную невозможность хоть чем-нибудь помочь ей.
* * *
Двумя днями позже он мчался в Кёльн.
В древнем городе его не занимали ни средневековые улочки, похожие на след жуков-короедов, ни романские или готические храмы, ни певческие ферейны, обилие которых свидетельствовало о музыкальности бюргеров, ни цитадель, грозный облик которой воплощал германский милитаризм. Ничто не привлекало Бурцева в городе на Рейне – только улица Домгоф, 40.
В агентстве Международного общества спальных вагонов рослый, как вахмистр, швейцар покосился на щупленького человечка в дешевой паре и котелке, однако пропустил его в апартамент солидный, красного дерева, точь-в-точь салон океанского парохода. Служитель-клерк в усах а-ля кайзер сухо осведомился: «Что угодно?» Звучало на русский слух: «Какого рожна?»
Бурцев объяснил: мой патрон, его превосходительство Алексис Лопухин, должен на этих днях проехать через Кёльн на Берлин; мы, к сожалению, разминулись; благоволите взглянуть, не получена ли от его превосходительства депеша? Служитель, обретая корректность, отыскал телеграмму с курорта Буртшейд – заказ на билет в двухместном купе спального вагона. Но это было еще не все, и у Бурцева вспотели виски, – он осведомился, нельзя ли ему ехать в одном купе с его превосходительством? «So!» – ответил служитель, шевельнув усами а-ля кайзер.
В вечерний час, душный, блеклый от множества вокзальных фонарей, он увидел Лопухина на перроне. Мелькнуло Бурцеву: «Эка, породистые ходить-то умеют», – шел Лопухин твердо и вместе легко, спокойно. Бурцев оставался на перроне, пока не прозвонил колокол и обер-кондуктор не крикнул: «Готово!» – а тогда уж и вошел в вагон. Но и тут не заспешил, а подождал, пока поезд наберет ход. И тогда уж отворил дверь в купе с диванчиками голубой тисненой кожи.
В темных, чуть раскосых глазах Лопухина плеснуло смятение, большие, плотно прижатые уши вспыхнули малиновым, как, бывало, в детстве, когда гувернер шпынял за провинности.
Отвечая на бурцевское «Здравствуйте», пожимая его цепкую, сухонькую лапку, Лопухин успел взять себя в руки. Что ж, подумалось Лопухину, ты этого хотел, Жорж Данден… Но мольеровский комедийный мужик, окрутившийся с дворянкой, пенял себе за неравный брак, Алексей же Александрович вроде бы недоумевал, как же это он сам же и учинил нынешнее рандеву.
Все это не ускользнуло от Бурцева. В отличие от Лопатина, Бурцев не подозревал в Лопухине двурушника. И не равнял с каким-нибудь ротмистром Донцовым: двадцать пять тысяч на бочку – и нате с, шерстите документы вильненской охранки. Нет, Лопухин – это… это… Впрочем, к черту, не теряй время… Экспрессом до Берлина пять-шесть часов, а там пересадка и прости-прощай… Нельзя было терять время, а надо было убедить Лопухина в глубокой своей осведомленности, а потом и сразить двумя предприятиями БО, сущность которых вряд ли ясна бывшему шефу тайной полиции.
Но Бурцев, напряженный и собранный, чувствуя, как опять потеют виски, Бурцев и теперь не кинулся очертя голову. Правда, истинная правда, что-то в нем было от шпиона, или, употребляя благородный синоним, от разведчика: он взял проселком – повел речь о литературных планах, о возрождении «Былого», о намерении издавать газету «Будущее», и Лопухин спрашивал и переспрашивал, поддаваясь иллюзии обыкновенного, как за чашкой чая, интеллигентного собеседования. Словно бы между прочим Бурцев упоминал о своих обширных связях в эмигрантской среде и, упоминая, произносил не без нажима имя Савинкова, второго человека в Боевой организации, Бориса Савинкова, очень хорошо известного Лопухину по роду прежних занятий на Фонтанке.
– Этот пресловутый Савинков, кажется, женат на дочери покойного Успенского? – светски осведомился Лопухин. – Глеба Успенского, писателя, не так ли?
– На дочери. А со стороны матери – племянник покойного художника Ярошенки, – сказал Бурцев и едва приметно усмехнулся: ишь, Алексей-то Александрович так и шарахнулся от Азефа. – Вы, конечно, понимаете, – продолжал Бурцев, – что я и в Париже не оставил разыскания, направленные к изобличению провокаторства. Уверен, это должно импонировать именно вам, человеку известных государственных воззрений.
– Я их не скрывал и не скрываю, – насторожился Лопухин, сознавая, что «литературное» предисловие окончено.
– А я, Алексей Александрович, не намерен скрывать результаты в достаточной степени важные.
Лопухина будто холодом проняло. Он почувствовал острую неприязнь к тщедушному «следопыту» в мятой сорочке. Не курьерский стучал на рельсовых стыках – в ушах Лопухина стучал презрительный окрик императора Александра Третьего: «Уб-рать двоеженца… Убрать свинью…» Нет, подумал он, не уступлю – об Азефе ни звука.
А Бурцев и не называл имя Азефа. Говорил: «центральный агент», «центральный провокатор», «глава Боевой организации», «член цека эсеров». Только так говорил он, сидя напротив Лопухина, иногда наклоняясь к нему, и тогда Лопухина кололи и обжигали металлические точечки, остро мерцавшие за стеклышками пенсне.
– Центральный агент, – говорил Бурцев, не спуская глаз с Лопухина, – добровольно, еще студентом обручился с департаментом, теперь он инженер-электрик. – И после короткой паузы: – Если позволите, я назову настоящее имя этого агента. Вы скажете только: да или нет.
Лопухин непроницаемо молчал.
– Центральный провокатор, – говорил Бурцев, – стоял у истоков партии социалистов-революционеров. Объединял разрозненные кружки, засим выдал съезд, собравшийся в Харькове. – И после паузы несколько длиннее прежней: – Если позволите, Алексей Александрович, я назову настоящее имя. Вы скажете только: да или нет.
Лопухин упорно молча.
– Член цека, – говорил Бурцев, – выдал томскую подпольную типографию и «Северный союз социалистов-революционеров». – И еще удлинил паузу: – Если позволите…
Лопухин молчал.
– Глава Боевой организации, – говорил Бурцев, – выдал Северный летучий боевой отряд. И боевой комитет в Питере. – И еще, еще продлив паузу: – Я могу назвать настоящее имя. Вы скажете только: да или нет.
Лопухин, отерев лоб платком, молчал.
– В последнее время, – говорил Бурцев, – центральный агент отправил на виселицу семерых революционеров. Я могу сообщить все охранные клички вашего бывшего агента. Раскин, например. Или – Виноградов. А если угодно, могу назвать имя подлинное. Вы скажете только: да или нет.
Ах, если б можно было уйти. Или выставить из купе этого неряшливого господина в мятой сорочке и захватанном галстуке. Неподвижный, совершенно неподвижный Лопухин чувствовал себя так, словно он нелепо мечется из угла в угол.
– Позвольте мне, – вкрадчиво и вместе торжественно продолжал Бурцев, кажется и сам-то впервые с такой весомостью ощутив полноту своей осведомленности, – позвольте, Алексей Александрович, рассказать еще кое-какие подробности деятельности центрального агента вашего бывшего департамента. Если все предыдущее оставляло вас, увы, равнодушным, хотя все это вопиет о нарушении законности в отправлении полицейских функций, то уж теперь… – И он опять помедлил. Но помедлил как-то иначе, чем прежде, и Лопухину почудилось, что в этой медлительности есть какое-то сожаление о нем, Алексее Александровиче Лопухине.
– Пожалуйста, пожалуйста, – повторил Лопухин, будто стараясь стряхнуть это сожаление. – Я слушаю, Владимир Львович.
И Бурцев выложил козыри. Козыри тех, кто яростно опровергал Бурцева, яростно защищая Азефа.
– Ваш центральный агент, – сказал Бурцев, – был закоперщиком и распорядителем убийства вашего министра. А потом, несколько месяцев спустя, и убийства его императорского высочества великого князя Сергея. Все это мне известно от Бориса Викторовича Савинкова. Не доверять ему в данном случае нет оснований ни у вас, ни у меня.
Гремел курьерский – Лопухин тонул в тишине. Светили матовые лампы, похожие на лилии, – Лопухин тонул в темноте. О, давние догадки… Потрясло Лопухина не то, что Азеф выдавал подпольщиков. И не то, что он многих, провоцируя, обрекал эшафоту. Потрясло, сокрушило… Теперь уж не имело ни малейшего значения, что убиенный Плеве был чудовищным гасильником, а убиенный великий князь – ретроградом. Значение имело только то, что они были представителями высшей власти и были убиты агентом высшей власти.
– Вы не могли не знать этого сотрудника, Алексей Александрович. Позвольте назвать подлинное имя Раскина?
– Какого Раскина? – задохнулся Лопухин. – Я никакого Раскина не знал. Я знал инженера Азефа.
Оба в изнеможении откинулись к диванной спинке. Гремел курьерский, светили лампы, из-под оконной шторки пробивалась дымчатая розовая полоска.

Потом, словно бы отдышавшись, переведя дух, Бурцев сказал:
– Я с поезда на поезд – и в Париж.
Лопухин не отозвался.
– От всей души хотел бы поблагодарить вас, – продолжил Бурцев и осекся: Лопухина как подменили, плечи подняв, смотрел он на Бурцева надменно и холодно.
– Вы не смеете благодарить меня, господин Бурцев. Я руководился соображениями общечеловеческого свойства, а вовсе не желанием помогать революции.
– Сама себе поможет, – заметил Бурцев.
– И отделается от самой себя, – презрительно парировал Лопухин.
– О, как же, как же, кто-то из французов, кажется, из наполеоновских маршалов: чтобы избавиться от революции, надо совершить ее. Так, кажется… А вот Наполеон-то, Наполеон: он знал только одного совершенного предателя – Фуше. Мы теперь знаем другого.
Лопухин отодвинулся в тень, в угол.
* * *
Печальная монументальность была бы к лицу этим старикам – они не виделись, почитай, лет тридцать, – а вот на тебе, как первокурсные. И ведь где? В центре Лондона, спешащего без толкотни и шумящего без крикливости. В привокзальной пивной спросили пива; Герман, отхлебнув, толкнул Феликса локтем: «Ну, брат, это уж не питерская моча поповой кобылы!» И оба захохотали.
Печальная монументальность была бы к лицу Лопатину и Волховскому, а они… Оказывается, мистер Волховской снял мистеру Лопатину комнату за пятнадцать шиллингов в неделю, а мистер Лопатин, задрав бороду, взвыл от лондонской дороговизны, – и они опять расхохотались.
Ехали подземкой. Было гулко и душно. Лопатин отирал пот. Волховской весело сулил блаженство Гайд-парка, где блеют барашки, а деревья столетние. «Деревья уж тогда были столетними, – сказал Герман, – а минуло-то ого…» Они разговаривали возбужденно и громко, но пассажиры, лондонские пассажиры, слывущие каменно-отчужденными, не поджимали губы: есть особое очарование в морщинах, озаренных радостью.
Они вышли из подземки у Гайд-парка.
Комната в коттедже была и вправду хороша – с мансардой на Тамбовской ни в какое сравнение, но Лопатин проворчал, что в его времена – допотопные – точно такая обошлась бы раза в три дешевле. Однако осматривался с удовольствием – квадратная, светлая, а постель королевская: ткнул кулаком – рука ушла по локоть; камин, кресла, зеркальный шкап, на полу линолеум, фаянсовая чаша умывальника и ворох чистых полотенец. А хозяйка – экая «миломордочка»…
– Ваше имя, сэр?
– Никак, – бодро ответил Лопатин. – Писем не жду, посетителей тоже. Вот разве этот господин, – он указал на Волховского.
– Когда вы привыкли вставать, сэр?
– Потрудитесь стучать в семь с половиной утра.
– Да, сэр.
Пожалуй, дольше, чем нужно, он провожал ее взглядом.
– Ты чего? – окликнул Волховской.
– Да так, ничего… Вот, видал, ей и дела нет, кто я такой. Получай ключ, вход отдельный – живи. Всегда любил Лондон за чувство свободы.
Хотя он и говорил то, что думал, но думал не о том, о чем говорил: в улыбке «миломордочки» был отблеск звездной палубной ночи.
Прошлой осенью Лопатину разрешили «родственный объезд», он был в Одессе, у младшей сестры, оттуда отправился на Кавказ, к другим сестрам. «Святогор» резал волны, горели ходовые огни, горели звезды.
Было уже поздно, пассажиры разбрелись, а он остался на палубе; рядом в плетеном креслице сидела молодая женщина, белел кружевной воротничок. Они разговорились, как могут разговориться случайные попутчики в теплую звездную ночь ранней осени, когда всем существом забираешь здоровый, крепкий дух моря.
Еще за ужином в кают-компании, выпив стаканчик вина, он перехватил взгляд этой незнакомки в скромном глухом платье, с крохотными часиками, приколотыми на груди, и ему показалось, что она смотрит на него так, как смотрят, определяя: «Тот иль не тот?» И сейчас, на палубе, она нет-нет да и поднимала на него глаза, стараясь определить, тот иль не тот. Он полагал, что она путает его с кем-то, быть может, с тем, кого знала девочкой, еще не старого, еще не седого, и оттого, что он так полагал, ему было и немножечко смешно, и немножечко грустно.
Горели ходовые огни, горели звезды, голоса на капитанском мостике смолкли. Она робко сказала: «Можно я вас поцелую?» – сердце его стукнуло кругло, и весело, и страшно, он близко наклонился, она потянулась к нему, но он опередил и сам поцеловал в губы, да так, что она охнула, задохнулась, порывисто встала. И он тоже встал, прислонился спиной к фальшборту, ошеломленный, в своем распахнутом легком пальто, в широкополой шляпе, мягко сбившейся на затылок. Сеялись звезды, море поднялось стеною, будто опрокидываясь. «Ох, какой вы… Ох, какой вы…» – повторяла она, он сжимал ее тесно, вплотную, прямо в круглые часики шибко и кругло билось его сердце… Потом она отстранилась: «А завтра вот так же другую, да?» Он рассмеялся: «Завтра? Взгляните на меня: могу ли я рассчитывать на завтра? Еще один поцелуй! И, как говорят в романах, прощай навек!» Она тоже рассмеялась, в ее смехе не было ни сострадания, ни снисхождения.
Утром «Святогор» пришел в Севастополь. Подвалила военная шлюпка-шестерка, кто-то, тонкий в поясе, махал офицерской фуражкой; облокотившись на фальшборт, она отвечала взмахом платка. Лопатин, труня над собою, уверял себя, что это ее брат, непременно брат, да, да. Обернувшись, увидев Лопатина, она достала из сумочки комплектик фотографий, подняла, помахала вместе с платком, он узнал этот комплектик – издание Шлиссельбургского комитета, портреты бывших узников, Лопатина тоже. Он усмехнулся и отдал вежливый поклон, но, видит бог, ему не хотелось думать, что давеча, когда сыпались звезды и море вставало стеной, она целовала не его, Германа Лопатина, а воплощение «мученика идеи ».
* * *
– Ну-с, до завтра, отдохни с дороги, – сказал Волховской, – а завтра мы уж наговоримся досыта.
– Завтра? – ответил Лопатин, смеясь. – Можем ли мы рассчитывать на завтра? Нет, я тебя не отпущу.
Они вышли из дому, пересекли улицу и, держась у берега светлого, постепенно ширящегося озера, углубились в сень Гайд-парка, в тяжелую, налитую соками зелень.
– хемотри-ка! – вдруг изумился Лопатин, палкой указывая вверх. – Смотри-ка! Откуда она? Раньше-то ведь не было?
– Как – не было? – удивился Волховской. – Да они тут всегда были.
– «Всегда-а-а», – протянул Лопатин. – А при мне не было… – В голосе его звучало огорчение почти детское. Словно кто-то обманул его, что-то отнял, похитил.
А-а, вон что, догадался Волховской. Белки с кисточками на ушах, ведь они не водились в Гайд-парке в те времена, когда Герман бывал в Лондоне. Нет, не водились, белок завезли из Северной Америки лет двадцать тому. Господи, двадцать, а Германа уже не было среди нас, живых, живущих… Может, только в эту минуту, только вот сейчас так пронзительно ощутил Волховской громадно-долгое отсутствие своего старинного друга. Что стоят мои мытарства, подумалось Волховскому, что они стоят в сравненье с искусом Германа?..
Он не ошибался, но он был не совсем прав, этот человек, все еще юношески стройный, с карими смеющимися глазами, совершенно седой, но красиво седой, с легким стальным отливом, как, бывало, у свежих стариков девяностых годов, когда еще мыли голову подсиненной водой. Не совсем он был прав, Феликс Вадимович Волховской, он тоже познал и тюрьму, и ссылку, и острое, свистящее напряжение побега.
Его привлекали по делу Нечаева, а он – ни сном ни духом. Были питерские застенки, были и московские. В Москве его пытался вызволить брат Германа – скромница Всеволод, да в сердце-то отвага львиная, – напал на конвой и был схвачен. А ссылка в Кяхту, в пограничную Кяхту? Пыльные ветры, пыльная тоска. Волховской повторил побег Бакунина: из Старого Света в Новый, через два океана. Не так-то легко досталось в Лондоне, когда со Степняком-Кравчинским поднимали они «Фонд вольной русской прессы» – редакцию, типографию, книжный склад… Герман считает себя отпетым здоровяком, а он, Волховской, считает себя отпетым весельчаком, да так ли уж весело в эмиграции, без надежды увидеть родину… И все же, и все же чего стоят его мытарства в сравненье со смертным приговором, с вечным заточением, – чего они стоят в сравненье с искусом Германа, с его громадно-долгим отсутствием?.. «А при мне их не было…» Ох, многого при тебе не было, брат мой Герман. Вот этот парк, вот там праздновали Первое мая, и твой покорный слуга приветствовал английских пролетариев от имени русских рабочих, но ведь и от твоего имени тоже, потому что никто из нас не был членом Генерального совета Интернационала, а ты был, как и мой сосед на трибуне – старик Энгельс. Он всегда спрашивал, нет ли новостей, не слыхать ли о тебе, он и Тусси, Тусси Маркс…
Волховской иногда виделся с Тусси в библиотеке Британского музея. Или у нее дома. В том мрачном квартале, где диккенсовские трущобы с бесконечными железными лестницами, грязными конторами, трубочистами, кухонным чадом, прокисшим пивом и этими мрачными физиономиями мелкого делового люда.
Две черные кошки с красными бантами на шее неслышным дозором появлялись в прихожей – Тусси грустно улыбалась: «Они не дадут меня в обиду». Кошки следовали по пятам, садились у камина, одна справа, другая слева, неподвижно аспидные на фоне рыжего пламени. Тусси – высокая, прекрасно сложенная, с густыми, вьющимися, темными волосами – была неизменно приветлива. Но, странно, в квартирке, похожей на тысячи викторианских, в крохотной квартирке устойчиво пахло близким несчастьем. Тусси никогда и ни на что не жаловалась. Она была неутомимой труженицей, корреспондировала в журналы и газеты, по праву считалась незаменимой на всех социалистических конгрессах.
Однажды она сказала Волховскому: «Отец редко кого так любил и уважал, как Германа». А слышалось явственно: я редко кого так любила и уважала. И еще: «Я была девчонкой, когда он впервые пришел к нам на Мейтленд-парк-роуд… Мне было двадцать восемь, когда он пришел ко мне накануне своей последней, роковой поездки в Россию… Поверьте, он не предчувствовал – знал! Энгельс, вот уж кто понимал, что такое отвага, Энгельс восхищался: «Наш смелый, до безумия смелый Лопатин»… Герман поклонился и обнял меня: «Теперь уж действительно – прощайте»… В прекрасных глазах Тусси переливались рыжие отблески камина. Кошки, аспидные сфинксы, были неподвижны.
В присутствии мужа она замыкалась. Возникала какая-то гнетущая напряженность, Волховскому непонятная. Но он мог бы побиться об заклад, что уже и тогда ему крепко не нравился Эвелинг. Неужели потому лишь, что бритое лицо Эдуарда жухло в паутине тонких, ранних морщинок и потому, что волосы были прилизаны так гладко, что и блоха поскользнулась бы, а зубы крупные, лошадиные, как на карикатуре «типического британца»? Да он и не был «типическим британцем», этот Эвелинг. Не потому лишь, что был ирландцем, а потому, что типический Джон Буль… Тусси, смеясь, рассказывала, как покойная матушка – ее иронии побаивался даже Гейне – определяла «типического»: кичится своим Мильтоном, которого не знает, своей свиной отбивной, которую хорошо знает, и, наконец, Вильямом Шекспиром; но все это пустое, всерьез он принимает только отбивную… А Эвелинг? О, Эвелинг умен и общителен, беспечен и доверчив. Вместе с Муром перевел «Капитал» на английский, как Герман вместе с Фрицем – на русский. Огромный, как и у Германа, запас естественнонаучных знаний… Как Герман, как у Германа… Не тут ли и крылась причина неприязни? Краем уха слыхал Волховской, будто старик Маркс подумывал о женитьбе Тусси и Германа. Может, это и примерещилось кому-то, но, вспоминая друга, томящегося в Шлиссельбурге, Волховской нет-нет да и воображал Германа здесь, в Лондоне, вместе с Тусси. Воздушные замки и грезы, но, сдается, этим тогда и исчерпывалась неприязнь к Эвелингу.
И лишь потом, когда несчастье совершилось, когда Тусси приняла яд, узнал Волховской, как этот человек измучил Тусси своим чудовищным эгоизмом, распутством, вечными долгами, для уплаты которых не гнушался домашним воровством… А Германа не было, не было, не было… В письме почти предсмертном запрашивала Тусси известия о Германе… А Германа не было, не было, не было… До последнего часа звучал в душе ее тоскующий голос уже умершего Энгельса: «Вот мы сидим здесь, и я не уверен, что вот-вот не откроется дверь и не зайдет Герман Лопатин. Да, да, в один прекрасный день он снова зайдет в мою комнату, спокойно сядет передо мною и разразится смехом…»
– Сядем, – сказал Волховской.
– Сядем, – согласился Герман.
Белка, распушив хвост, вознеслась на вершину дерева. Тени ветвей шевелились, и казалось, что солнечные пятна на траве тоже шевелятся.
* * *
Когда Волховской умолк, Лопатин минуту-другую незряче глядел на эти тени, на эти пятна, потом медленно поднялся и подошел к озеру, зачерпнул полные пригоршни и погрузил лицо в холодную воду. Волховской прикрыл глаза: не мог он, не мог смотреть, как у Германа вздрагивают плечи.
* * *
После Гайд-парка нет ни малейшей охоты окунаться в перипетии того, что происходило тогда же, летом девятьсот восьмого года, здесь же, в Лондоне, на Ноттингхилл-Гэт.
Кто-то весьма остроумно заметил – история слишком важная вещь, чтобы отдавать ее в руки историков. Внесем поправку: смотря каких. Но эсеровскую конференцию в здании Вест-Лондонского этического общества уступаю другим историкам, хотя это как раз тот случай, когда требуется сугубая осмотрительность.
Однако вовсе обойтись без этой конференции нельзя. Ясности ради сообщу некоторые подробности.
Надо сказать, что дело было поставлено конспиративно. Помещение находилось в глубине сада. Делегатские мандаты подвергались суровой проверке. Никто из заседавших – а было их несколько десятков, приезжих россиян и эмигрантов-парижан, – не имел права что-либо записывать. Несмотря на секретность, среди «чистых» затесалось с полдюжины «нечистых». Об этом было известно устроителям, и все-таки, вопреки столь прискорбному обстоятельству, обсуждались все пятнадцать пунктов повестки дня.
Присутствовали и Лопатин с Волховским, оба безмандатные. Первый – почетным гостем, которого все здесь называли партизаном русской революции или Ильей Муромцем русской революции; второй, лондонский «долгожитель», – покровитель, советчик.
Герман Александрович слушал ораторов без особого интереса. Все они будто отстали от поезда, однако из опасения насмешек делали вид, что ничего особенного не приключилось. Ораторы полагали, что они подводят итоги революции пятого года; Лопатин полагал, что революция пятого года подвела итоги ораторам. Малый интерес к повестке дня не умерял его живого интереса к самим по себе делегатам – они из пловцов, что гибнут в водоворотах террора, пловцов, достойных лучшей участи. И в Питере, и сейчас, здесь, чем пристальнее всматривался Лопатин в держателей эсеровских рычагов, тем отчетливее сознавал то, что ему, правду сказать, ужасно не нравилось: принципиальное нежелание считаться с личностью, душой ее и биографией; не личность важна, а «единица», мошна, из которой можно черпать безоглядно; и честолюбие, карьерность, родственность с чиновничеством, пусть вместо мундира пиджачная пара и косоворотка. Что же до мрачной и пылкой приверженности к террорной доктрине, к террорной практике… Герман Александрович не согласился с публицистом, который утверждал, что эти люди уже охвачены атавистическим желанием «полизать крови». Будем справедливы: не охвачены; будем точны: еще не охвачены. Зато тот, кто возглавляет Боевую организацию, «лижет кровь», урчит, мерзавец, и «лижет».
Вот так, присматриваясь и размышляя, Лопатин и шепнул Волховскому:
– А это что за каннибал?
– Где? Какой?
– Вон там, справа… Экие чувственные губы.
– А! – Волховской странно хмыкнул. – Почему же «каннибал »?
– Да ведь глаза-то! Глаза профессионального убийцы. Во всяком случае, человека, скрывающего черную тайну. Я давеча видел его в садике, во время перерыва, он фуражку надел, я и подумал: такой апаш встретит в глухом углу девчонку – непременно изнасилует, а потом задушит. Или наоборот; сперва задушит, потом изнасилует.
Волховской, сжав его локоть, быстро объявил:
– А это и есть знаменитый Иван Николаевич!
Они переглянулись.
Ну конечно, Герман не утаил от старого друга своих подозрений, да и раньше ходил темный слушок об Азефе, но чтоб вот так, «по глазам» определить, этого Волховской не ожидал даже от Германа.
Лопатин был поражен: особь с явной печатью Каина пользовалась таким влиянием, такой любовью. Разумеется, гипноз покушений на Плеве, на великого князя Сергея. И все же, и все же… Но как раз потому, что он мгновенно, «по глазам» угадал Азефа, Лопатин почувствовал неуверенность, колебания. Совсем недавно, проездом через Париж, на улочке Люнен, у Бурцева, было иначе. Как хорошо, подумал Лопатин, как хорошо, что ты настоятельно рекомендовал Львовичу вбить последний гвоздь.
То не было отрицанием «физиогномики». То было нежелание отдаваться плохому впечатлению. И всегдашнее желание обнаруживать хоть что-нибудь светлое. Требовалась серия наблюдений, позволяющих схватить личность в пучок непростых конкретностей. И все же он не мог одолеть антипатии к Азефу. Не мог при встречах обменяться с ним рукопожатием.
Азеф при всей своей вялости, которую все здесь принимали за усталость (а была она следствием опустошенности, на сей раз почему-то не восполненной курортными заботами о дочурке и вдове казненного боевика), при всей своей вялости Азеф остро и тонко чувствовал опасность, исходившую от Лопатина… Старые революционеры? Азеф презрительно ронял губу: у старых революционеров только одно достоинство – то, что они старые. Однако Лопатин… Лопатин… Азеф не раз слышал: Илья Муромец русской революции. Понимал: особый авторитет, вес особый. Отнюдь не возрастной, не по причине тюремного стажа… Все это сознавая, чуя антипатию «старичины», Азеф с каждым днем все сильнее и настоятельнее испытывал желание покорить «старичину». Не страх, не боязнь разоблачения толкали к тому. Нет, не страх, ибо уже было сказано Азефу: «Останься!» Не страх – другое: покорить и распорядиться по своему усмотрению. Да только не так, как боевиками, не так, как с боевиками. И вовсе не ради вящих заслуг перед департаментом, перед Фонтанкой, перед Герасимовым. Плевал он на них. Ради себя, вот что. Для себя, вот что. Он, Азеф, подведет Илью Муромца к краю бездны, склонит над бездной, ужаснет бездной. Он, Азеф, сделает то, что не сделал Шлиссельбург, – пусть рухнет, осознав никчемность своей незапятнанности, никчемность всей своей жизни, всех своих надежд.








