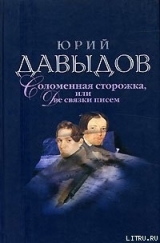
Текст книги "Соломенная Сторожка (Две связки писем)"
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 36 страниц)
С ней, Зиной, он не зарекался обсуждать вопросы теоретические и практические. И не отрезал, как ножом, ее возражения. Но едва заходила речь именно о нем, Германе, как он усматривал в ее намерениях желание остепенить муженька. Он подозревал дамское тщеславие. И даже, сдается, расчет на эдакий профессорский, литераторский комфорт… Ах, конечно, она, женщина, озабоченная здоровьем и воспитанием единственного сына, холодела при виде розовых картонных билетиков на похлебку с ломтем хлеба – такими билетиками парижские благотворители ссужали парижских люмпенов. И, конечно, до смерти боялась пресловутой ночлежки на улице Токвиля или гадких меблирашек на улице Сент-Оноре. Но, видит бог, никогда она не приценялась к костюмам от знаменитого Ворта и не рассчитывала держать щекастого лакея в красной суконной куртке и серых панталонах. Подозрения Германа оскорбляли Зину.
Была, однако, забота общая.
Великий путешественник, он уже пересекал отечество с запада на восток, с востока на запад – от Невы до Ангары и обратно. Теперь предстояло пересечь с юга на север – от Ташкента до Петербурга. Препятствия вставали громадные, пожалуй, и неодолимые. И они с Зиной отвергли вариант юг – север, как заведомо гибельный.
Возник вариант иной, сложно-маневренный. Он требовал хождения по присутствиям. А это требовало присутствия в Петербурге. И Зина с трехлетним «английским ребенком, находящимся на попечении», отправилась навстречу пыльным бурям и многотрудным хлопотам.
Хлопоты взяли больше полугода. На одном прошении кто-то начертал: «Лопатин, по-видимому, совершенно отрезвился – прошу сообразить, есть ли возможность удовлетворить его просьбу. Лопатина я знаю с 1866 года – не террорист, за остальное не ручаюсь»… Господи, да разве даже и она, Зина, поручилась бы «за остальное»? Просьба ж была о переводе из Азии в Европу. Ну, скажем, в испытанные ссылочные места – в Вятку или Вологду.
Особое совещание, одно из тех, что временно возникали на весьма продолжительное время, сочло наконец возможным извлечь отставного коллежского секретаря Лопатина из-под ташкентского солнцепека.
* * *
До Самары он следовал, ибо ссыльные не ездят, а следуют, бесконвойным. Из Самары, однако, велено было следовать подконвойным. Очень это не понравилось Лопатину по причине всем свойственной нелюбви к арестантскому положению. Он подал прошение самарскому начальству: доберусь, мол, самостоятельно. Начальство отказало. Канцелярист-проказник подшил бумагу к делу и пробежался резвым карандашиком:
Герман, Герман милочка!
Шампанского бутылочка,
Полфунтика икры —
Свободен будешь ты!
Старший канцелярист приписал в сердцах: «Идиот! Сам пойдешь за Германом Лопатиным. Социалист чертов!»
Добившись перевода мужа в Европейскую Россию, Зина со своим «английским ребенком» пустилась в губернский город Вологду.
Тамошний полицмейстер давно уж расписался в том, что принял ссыльнопоселенца Лопатина «в исправном виде».
И точно, ссыльнопоселенец, бурно радуясь жене и сыну, выглядел «исправно». Извозчик осадил на Кузнечной, у бревенчатого дома под железной крышей. Кустилась черемуха, неурочно кричал петух – должно быть, по случаю свидания Лопатиных.
Тотчас прихлынула публика. Накрыли стол. Герман выставил сметанное масло, очень свежее и вкусное, в жестяной банке со смешанной и непонятной надписью: «Кудрявая»…
Ох, напрасно, совсем напрасно рассчитывали в Петербурге на то, что Лопатин «отрезвился»: он тут в такой «запой» ударился – святых вон! Весел был, огонь и натиск: желанное утоление жажды русских впечатлений, русской речи, русских лиц… Чудилось Зине, будто он широко распахнул объятия, да и загребал, загребал под свое крыло публику молодую, нерастраченную, бойкую, воззрений не всегда строго определенных, но всегда красного цвета: ружейного мастера и телеграфиста, почтового экспедитора и акцизного счетовода, семинариста и купеческого отпрыска, учителя гимназии и гимназиста-старшеклассника и уж, понятно, всех до единого студентов-вологжан, недавно вытуренных из университетов.
В честь Зининого приезда в доме на Кузнечной пили пиво, гитара бренчала: «Улыбнись, моя краса, на мою балладу, в ней большие чудеса, очень мало складу». Потом на мотив французской «Марсельезы» пели русскую: «Отречемся от старого мира; отряхнем его прах с наших ног». Герман подмигнул Зине: «Поконспирировали немного, а?»
Это ведь там, у моря, в Гастингсе, где прибой сшибал с ног и они целовались, ощущая на губах соленую влагу, это там, в Гастингсе, они получили однажды листок, исписанный в столбик Петром Лавровичем: «Отречемся от старого мира» – Лавров просил Германа «немного поконспирировать», почему-то не хотелось Петру Лавровичу ходить в поэтах, смешно стеснялся, ну и просил Германа перебелить да и послать безымянно в редакцию «Вперед!».
Мы пойдем в ряды страждущих братий,
Мы к голодному люду пойдем…
А с чем пойдете, коллеги? Без капитала в дороге пропадешь, это уж и моему Бруно ясно. Нуте-с, Зинаида Степановна, выкладывайте: она привезла несколько экземпляров «Капитала».
– Бакунисты, – продолжал он, блестя глазами, – бакунисты талдычат: нечего вносить в массы революционное сознание. «Зачем?» – спрашивают они. И отвечают: «Чернорабочий человек уже потому, что он чернорабочий, – социалист по инстинкту»… Мираж. Мираж и нелепость!.. – Лопатин держал на широкой ладони том «Капитала», держал и покачивал, как бы приглашая убедиться в весомости политической экономии. – А без этого, – заключил он, – мы все обречены на слабоумие.
Белая ночь была в Вологде.
Штабная квартира помещалась на Московской, у сестер Юшиных. Где-то их видела Зина, где-то встречала… И точно, в Питере, на сходке. Ага, слушательницы Высших женских курсов, высланные на родину. И этот студент тоже «возвращен», худющий, бледный, с чахоточным румянцем, – поклонился застенчиво: «Алексей Рукин».
Гурьбой поехали за город.
Как, Зинаида Степановна ничего не знает о Марье Федоровне? Да ведь это ж – Кудрявая! Намекающим жестом Герман изобразил жестяную коробку. Ах, вот оно что: молочная ферма Кудрявой, такая фамилия? Герман рассмеялся. Десять с лишним лет назад, похищая из Кадникова Петра Лавровича, он, похититель, был осведомлен, кто они такие, супруги Кудрявые: помещики, да, но из тех, коими оченно недоволен жандармский полковник фон Мерклин… В доме Кудрявых, что напротив гимназии, всегда жили ссыльные, хозяева поддерживали их не таясь, в открытую; на званых вечерах – непременно присутствовали и крамольники – уж как вам, господа, угодно, коли опасаетесь, вот бог, а вот порог… И ферму с холмогорками, куда сейчас ехали гурьбой, завели ссыльные, дело доходное, на экспорт идет в Москву и Ярославль – голштинское и парижское, а заодно и сыры. И, надо отметить, Марья Федоровна не сидела сиднем, очень она деятельная дама.
Вот уже где проводить лето с Бруно: хоть одним воздухом питайся, парным и душистым.
* * *
Поверите, лишь нынче, вот сейчас, когда я разложил на столе материалы о вологодском пленении Лопатина, бросилось в глаза имя студента Рукина, входившего в лопатинскую «дружину». Между тем сравнительно недавно, рассуждая о смысле и значении архивных разысканий, я, извините самоцитирование, писал: «Для меня записки каких-нибудь безвестных сельских священников Рукиных ценнее высочайшего рескрипта. Рескрипты на поверхности, и они поверхностны. А тут, в большой пожухлой тетради, чудом уцелевшей, тут полуторавековые заметки о семейных происшествиях. Без таких тетрадей нет и быть не может полноты исторической правды».
В статейке, предназначенной научному журналу, я не стал уточнять, что эта самая тетрадь мирно полеживает в соседней комнате, у моего тестя.
Так вот, имя Алексея Рукина бросилось мне в глаза только сейчас, после чего я сам бросился в соседнюю комнату. Тесть достал заветную тетрадь. Надо сказать, что он много наслышан о Лопатине, нас изредка навещает внучка Германа Александровича. И вот нежданно-негаданно: один из родственников моего тестя состоял в вологодском лопатинском кружке.
Мы прочли на стр. 31-й, исписанной, как и вся тетрадь, черными, невыцветшими чернилами, а почерк хоть в набор: «Старший сын дяди, Алексей, старше меня одним годом, даровитый и красивый юноша, успешно в 1877 году кончив гимназию, поступил в С.-Петербургский университет, но учился в нем, кажется, только три года. Он увлекся политикой, попал под суд и, после продолжительного пресмыкания по крепостям и острогам, выслан был на житье в Вологду, где служил в Казенной палате».
Тесть принялся расспрашивать, кто ж еще из его земляков поименован в документах лопатинской поры. Я начал перечислять, но скоро умолк – очередное имя вызвало дружное изумление и тестя, и моей жены: «Кудрявая?!» – воскликнули они в один голос и, перебивая друг друга, заговорили о Мише Кудрявом, погибшем на фронте, о Мишиной жене, она умерла от родов, осталась дочка Оленька, теперь уж совсем, совсем взрослая, хорошо бы сейчас же дозвониться… Вот эту-то Оленьку еще первоклассницей застал и я, наведываясь женихом в арбатский переулок: Оленька, пра-, пра– (а может, и еще раз пра-) внучка Марьи Федоровны Кудрявой, жила в большой коммунальной квартире с моим будущим тестем и моей будущей женой, где кроме них обитал взвод мужчин и полурота ударного женского батальона.
Ну а тогда, в Вологде, Оленькина пра-, пра– и, наверное, еще раз пра-, тогда Марья Федоровна Кудрявая помогла снарядиться в дальнюю дорогу жене и сыну Германа Александровича. Они опять были его «авангардом» – уезжали в Париж.
А «главные силы» временно задерживались. Надо было тщательно подготовиться к противозаконному исчезновению. К какому по счету? «Да кто ж их считает?» – смеялся Лопатин.
Несколько месяцев спустя вологодская лопатинская «дружина» получила из Петербурга радостно-ироническую телеграмму: «Здоров, некогда, экзамены».
* * *
Есть магическое словосочетание: «странное совпадение». Говорю «магическое» потому, что прочтешь – «по странному совпадению» – и возникает ощущение достоверности. Может быть, именно оттого, что сказано «странное».
Я готов предложить совпадение, но всего-навсего календарное. При желании можно, пожалуй, узреть таинственные токи судьбы, но для меня, грубого материалиста, они неприемлемы.
Было так.
Поздним метельным вечером, в глухом местечке, едва заметной тропкой, известной лишь контрабандистам и кордонным стражникам, подчинявшимся министерству финансов, но кормившимся на финансы контрабандистов, по этой тропке беглый Лопатин пересекал границу Российской империи и Прусского королевства.
В тот же вечер в Париже, в многолюдном зале, ярко освещенном газовыми рожками, разыгрался скандал, и один из присутствующих, а именно художник Горский, снова увидел эту женщину в тяжелой шапке волос темного золота. Она уходила вместе с почтенным стариком, с которого он, Горский, мог бы писать умного боярина времен Московской Руси, если б нынче не услышал, что это и есть Лавров, «коновод нигилистов».
Вот уже год как Горский жил в Париже пенсионером российской Академии художеств. Каждое утро, легкий и стройный, сбегал он со своего пятого этажа и весело кланялся консьержу. Дородный привратник улыбался: этот русский – обворожительный малый.
Горскому было наплевать, сухо на дворе или панель при дождике подернута эдаким жирком, который, пардон, пованивает. Где бы ни застигал голод, Горский беспечально утолял его сосисками и сидром. И с удвоенной энергией посещал ателье парижских мастеров. На свою мансарду он возвращался сквозь рой каретных фонарей – красных, зеленых, белых. Отлично! Ты укладываешься в академический пенсион, нет нужды стучаться в дверь с объявлением: «Консульство предупреждает соотечественников, что не выдает никаких денежных пособий».
Первые месяцы Горский не брался за кисть. Была освобожденность. Не праздная, а праздничная: он посещал ателье парижских мастеров. Даровано было Горскому свойство, в живописцах нередкое, в поэтах и прозаиках редчайшее: умение оценить даже то, что чуждо, ощущение цехового братства. Он посетил Жерома и Лоранса, Бонна и Мункачи. Он увидел наконец работы Мане.
Горский писал этюды, писал и консьержа. Польщенный толстяк доставал бутылочку: «Настоящий кюрасо, мсье». А винцо-то было дрянное, на тех апельсинных корках, которые грудами выметали из парижских театров, сбывая дошлым виноделам. Не нравился Горскому этот кюрасо. И свои этюды тоже не нравились.
Это, однако, не убивало его интереса ни к выставкам акварелей на Вандомской площади, ни к встречам с собратьями в кабачке «Пуаро», ни к вечерам в клубе на улице Тильзит, или, как запросто говорили наши, на Тильзитке.
И в клубе, и в Обществе взаимного вспоможения русских художников старшим на рейде был Алексей Петрович Боголюбов – седоусый, седовласый, и эта зоркость серых глаз, как у впередсмотрящего на фрегате. А может, такая же, как у его деда, у Радищева.
Ну-с, что же нынче у нас на Тильзитке? Какая-то декламация? Пожалует сам Тургенев? Прекрасно!
В ярко освещенном зале, увешанном полотнами, рисунками и шаржами, Горский увидел завсегдатаев, но заметил и пришлых, прежде здесь как будто не виданных. Сюда, в клуб, где суетливым домоправителем распоряжался пейзажист Сакс, сюда-то эти люди пришли, кажется, впервые. То, что называют печатью среды, выдавало в них демократов, радикалов, а то и вовсе революционеров.
Вечер еще не начался, не было ни Тургенева, ни Боголюбова. Одни рассаживались, другие прохаживались, зал полнился гуденьем, все было б обыкновенно, когда б ни некоторая напряженность от присутствия «не своих» да не мелькал бы невсегдашний, какой-то оробелый Сакс, похожий на пастора, которому грозит отлучение от церкви (если, конечно, пасторов отлучают).
Здороваясь с приятелями и оглядывая собравшихся, Горский увидел молодую даму, ту самую, которую приметил недавно на выставке акварелей, поразившись тициановскому золоту ее волос. Издали наблюдая за ней, как она наклоняется, всматривается, отступает и опять приближается, он почувствовал, что главное в этой женщине не внешняя прелесть, не гибкость и не тициановское золото, а что-то не внешнее. Горский думал о ней и потом, когда она ушла, думал, покуривая в маленьком кафе, и внезапно решил: самостоятельная! Да, да, самостоятельная, независимая, отважная. Сейчас эта женщина стояла за спинкой кресла, прямая, горделивая и сумрачная, как Диана-охотница. Горский обрадовался, будто давно и тщетно искал ее, но тотчас понял, что радуется тому, что она не парижанка, не француженка, а русская, и это почему-то было очень важно и существенно. В кресле, за которым она стояла, положив руки на высокую спинку, сидел почтенный старик с лицом, – так Горскому подумалось, – умного боярина времен Московской Руси, и Горскому мелькнуло, что было бы куда как замечательно изобразить их вместе, эту Диану и этого боярина… В зале произошло движение, собравшиеся потеснились, сдвинулись, Горский тоже. Он оказался среди тех, кто окружил Боголюбова, появившегося в клубе.
Алексей Петрович, апоплексически красный, вздернув брови, допрашивал пейзажиста Сакса. Тот отвечал запинаясь, тоном человека, которому позарез необходимо напомнить пословицу о повинной голове и несекущем мече.
– Какие-то… неумытые, – кипятился Боголюбов. – Да кто они? Откуда? Кто пригласил?
– Право, не знаю, Алексей Петрович, – лепетал распорядитель-пейзажист, – Вроде бы ниоткуда… Сами пришли, ей-богу…
– А этот? Вон тот, в кресле-то, длинноволосый, этот кто?
– Лавров… Коновод нигилистов, – совсем смешался бедный Сакс.
– Батюшки, – ахнул Боголюбов, – да кто же этого-то звал?
– А он говорит: Иван Сергеич.
– Эка, Тургенев… – с сердцем молвил Боголюбов. – Ну, положим, Иван Сергеевич и пригласил, а он, видишь, всю свою челядь навел. – Боголюбов в страшной досаде ляпнул себя по ляжкам. – Решительно невозможно! А что же Иван-то Сергеич, а?
Боголюбову отвечали, что Тургенева не будет – прислал сказать, что заболел. У Алексея Петровича как гора с плеч, ну, стало быть, и вечер отменяется, нельзя без нашего принципала. Так и объявим! А не захотят, велю погасить освещение… Боголюбову стали возражать, что выйдет скандал, но тут в зале зашикали, Горский обернулся, увидел – чернявый молодой человек, мгновенно напомнивший Горскому задушевного друга Левитана, вышел на средину, угловато поклонился и стал читать стихи. Стихи были о том, как Каракозова ведут на казнь, а он думает свою последнюю думу о народе и свободе. Боголюбов опять ахнул, длинным белым пальцем забросил за ухо седую прядь, отчего стала видна его большая, словно кипятком обваренная, пунцовая ушная раковина, заговорил зычным голосом:
– Цель нашего общества и нашего клуба мир, а не революция! Это против устава и программы! И мы не позволим…
Все вскочили, стали стучать стульями и кричать; чтец-декламатор, бледный как мел, что-то сказал Лаврову, и «нездешняя» публика устремилась к выходу, походя костеря жрецов искусства трусами, лизоблюдами, глупцами, филистерами…
Горский, ошеломленно озираясь, на минуту пересекся взглядом с Дианой-охотницей, взгляд у нее был презрительный, и Горский быстрым шагом, как к барьеру, пошел вслед за «коноводом нигилистов».
На улице у подъезда Горский обратился к Лаврову: ему, художнику Горскому, стыдно за своих собратьев, но пусть господин Лавров не считает всех до единого подобными Алексею Петровичу Боголюбову, он, Горский, смеет заверить, что не только он стыдится, другие тоже, Алексей же Петрович попросту не желает получить выговор от посла, дойдет до Петербурга, но вообще-то черт с ними со всеми… Горский был очень взволнован и очень искренен, Лавров протянул ему руку, и эта женщина протянула руку, и еще кто-то, и еще. Горский пошел вместе со всеми, Лавров, усмехаясь, сказал, что все они подвергнуты остракизму, и «афинские изгнанники» вдруг страшно развеселились. Горскому тоже стало весело. Он взял фиакр и предложил отвезти домой господина Лаврова, любого, кто пожелает, он сейчас возьмет еще один фиакр, потому что вчера получил пенсион и богат, как Крез, и может себе позволить… Горский болтал, был развязен, сознавая, что поступил хорошо, благородно и это оценено, замечено, этому отдано должное, и он совершенно свободно обращался к Зинаиде Степановне, сидевшей с ним рядом в фиакре, в окошках которого мелькало и кружилось белое, красное, зеленое.
В мае он поспешно убрался из города.
Горский тосковал по пейзажу, это было как голод. Но это было и не совсем так, ибо он искал спасения – он больше не мог жить там, где жила Зинаида Степановна.
Он следил за ней в Латинском квартале, из углового кафе, дожидаясь, когда она со своим златокудрым Бруно отправится на прогулку. Он попадался ей навстречу будто ненароком. Она пеняла ему, что он перестал бывать у Лаврова, он, краснея, оправдывался занятостью.
Он не показывался на улице Сен-Жак после того, как там, у Петра Лавровича, познакомился с мужем Зинаиды Степановны. Она сказала: «А вот и мой беглый каторжник». Лопатин, замедлив поклоном, пристально взглянул на Горского. Потом, дома, художник мучительно вникал в смысл этой пристальности и нашел иронию, тревогу, надменность.
Горский твердил, что он нисколько не виноват перед Лопатиным. И все-таки чувствовал себя мазуриком. Это было непереносимо, надо было бежать. Он сказал Зинаиде Степановне, что собирается в деревню, на пленэр. Они стояли под платаном. Потупившись, Горский ощущал, как дрожит лист на дереве. Да, да, мямлил Горский, уезжаю в деревню – пленэр, знаете ли, открытые пространства, вот только не могу решить, куда ехать… Она сказала: «Пожалуй, в Буживаль».
В Буживале, от Парижа недальнем, Горский нанял квартиру во втором этаже, над молочной. В молочной можно было столоваться не только молочным: аромат бараньего рагу раздразнил бы и ипохондрика. Колокол романской колокольни возвещал время. Буживаль называли деревней. Горский назвал бы селом – и церковь есть, и жителей тыщи три.
Из знаменитостей в этот сезон никто, кажется, не жаловал Буживаль, наезжали лишь грядущие рембрандты в компании с «лягушками», то бишь резвыми созданьями, не слишком благопристойными. Будущие мэтры щеголяли в лихо заломленных мятых шляпах и в блузах, заляпанных краской; горластые, они обращались друг к другу не иначе как «идиот», «кретин», «осел». Их подружки, презирая купальные костюмы, прелестно обнажались под ивами и лезли в воду, хохоча и брызгаясь.
Если у берега свернешь направо и поднимешься по крутому проселку в красивый английский парк с каштанами и ясенями, увидишь двухэтажную виллу «Les Frenes»1212
«Ясени» (франц)
[Закрыть].
Вилла не нравилась Горскому своей архитектурной слащавостью. Еще учеником Академии художеств он побывал в Риме, в окрестностях Вечного города были точно такие же. Но, глядя на тамошние виллы, Горский не испытывал недоумения. А здесь, в Буживале… Автор «Бежина луга», «Хоря и Калиныча» – и эдакая напыщенность?
Между тем именно эта вилла овеяла Горского как бы внезапным и радостным озарением. Он хлопнул себя по лбу: как было ни догадаться еще там, в Париже, под платаном? Нет, не догадался, сдуру предположил, что Зинаида Степановна посылает его в Буживаль, как в традиционную мекку живописцев. А теперь-то и сообразил, понял – ведь Зинаида Степановна (впрочем, ее муж тоже, но это неважно, это не имеет значения) в давней дружбе с Тургеневым, а стало быть, в Буживаль ей ездить куда как удобно.
И влюбленный Горский стал ежедневно заглядывать на железнодорожную станцию. Он расхаживал по дебаркадеру, напустив на себя вид рассеянной независимости. Но едва слышался свисток локомотива – замирал. Увы… И оставалось наблюдать, как клочья паровозного дыма, перетекая деревья, дают листве причудливые оттенки.
* * *
Зина и вправду намеревалась часто навещать Тургенева: рядом с виллой, где жила со своим семейством мадам Виардо, был деревянный домик с мансардочкой и островерхой крышей. В оконной раме – вид на излучины Сены. В настенных рамках – виды Орловщины: «Береза с сороками», «Взбудораженное поле», «Долина с колодцем», «Дорога вечером»… Одна из сорок смахивает на цаплю, поле немного серо, а придорожная больница, пожалуй, уж слишком бела. Что за беда, если все так гармонично, так мягко, хорошо и верно. Да ведь и он сам, Иван Сергеевич… Иные находят в нем нечто от Юпитера! Этого нет, есть гармония и мягкость, все так хорошо и верно, даже этот слабый рот и тонкий голос. Посылая Горского в Буживаль, Зина намеревалась бывать там часто. И, может быть, не только ради Тургенева. Но теперь, после того как там побывала Скворцова, Зина боялась Буживаля.
Зинина подруга недавно ездила в Буживаль. Мадам Виардо, желтолицая, похожая на мула, владычица и усадьбы, и судьбы Тургенева, высказала мадемуазель Скворцовой резкое порицание: он утомлен визитациями, вот только что была Тата Герцен, он очень плох, нельзя же так… И вдруг огромные, прекрасные глаза ее наполнились слезами. «Идемте», – сказала мадам Виардо.
Тургенев лежал на застеленной постели. Он был в сером просторном костюме, в петличке – цветок. Он поднял большую тяжелую, словно литого серебра, голову; приглашающим жестом повел кистью руки, у него была широкая белая ладонь. Мадам Виардо вышла. Скворцова присела у изголовья. Перемена в облике Ивана Сергеевича сразила ее. Тургенев был измучен донельзя, морфий лишь на краткий срок утишал муки. Он смотрел молча. Потом сказал, трудно ворочая языком:
– Видите, в каком я положении. Страдаю невыносимо. Помочь никто не может, кто бы ни лечил… Послушайте, я человек не верующий и вправе распоряжаться своей жизнью. Прошу вас, дайте мне отраву, и я покончу с этими мученьями.
Что?! – вскрикнула Скворцова. – Что это вы говорите, Иван Сергеевич!
Она успела взнуздать себя: врачу не пристала истерика.
И заговорила тем деланно ровным тоном, солидным и уверенным, каким врачи говорят с пациентами, а взрослые с детьми: ваша болезнь, Иван Сергеевич, нервная, науке известно, что поправка иногда наступает скорее, нежели предполагают; мы, почитатели вашего гения, еще очень многого ждем от вас, и я уверена… Он словно бы отодвинулся во тьму. Потом сказал, впадая в забытье:
– Да ведь я и так уже отравлен. Как же вы не понимаете причину моей болезни? Я же отравлен… Привезите мне отраву.
Он медленно смежал веки. Скворцова выбежала на цыпочках.
Вернувшись в Париж, не заходя домой, помчалась на улицу Гой-Люссак.
Германа не было. У Зины сидела Гончарова, удивлявшая внешним сходством с Петром Великим. Первой из россиянок Екатерина Дмитриевна училась на здешнем медицинском факультете. Гончарова уже заканчивала, когда Зина и Скворцова еще только поступили. Поклонницы Писарева, они не боготворили Пушкина, но в их отношении к Екатерине Дмитриевне, племяннице жены поэта, сквозила особенная нежность, отсвет детского, гиминазического, семейного. У Лаврова же и Лопатина были с Гончаровой дела практические: на ее парижский адрес поступала корреспонденция из России.
Скворцова упала в кресло, на востреньком личике кончик носа белел, как отмороженный. Они были подавлены ее рассказом. Им было страшно. Убеждение Ивана Сергеевича в том, что он отравлен… Мадам Виардо? Боже мой, как к ней ни относись… Герман судит строго: мадам экспроприировала Тургенева у России… Но это? Это исключено! Рассудок Ивана Сергеевича мутится от нечеловеческих, нестерпимых болей, от частого приема морфия… Они были подавлены, им было страшно. Кто б ни отправился в Буживаль, рискует услышать ужасную просьбу. Право на смерть не принадлежит ни одному медику в мире. Но у кого есть право рассуждать об этом бесправии у одра погибающего в муках саркомы?
А дня три спустя пришел из Буживаля конверт. Зина успела прочесть записку раньше Германа и тотчас спрятала ее. Теперь она не могла не ехать: надо было опередить Германа. Энгельс, это она знала от Лаврова, говаривал: наш общий друг – смелый, до безумия смелый… И если Герман решится… Господи, он же потом не простит себе, до гроба не простит…
Зина поехала в Буживаль. Сеялся дождик, окно слезилось, холмы и рощи затянуло мглою, придорожные вязы вскипали и метались. На дебаркадере Зина раскрыла зонтик. Длинная улица была пустынной. Только сейчас она подумала о Горском. На минуту ей вспомнилось, как он бурно взволновался, знакомясь с Германом. Она подумала: бедный Костя.
На маленькой булыжной площади у реки тускло блестели клеенчатые накидки рыбаков. Яхтсмен в трико, отважный, как Лаперуз, выбирал якорь. Зина свернула на дорогу к вилле.
Иван Сергеевич спросит: отчего не приехал Герман? Она солжет: Герман отлучился в Лондон. А Ивану Сергеевичу нужен именно Герман. Тургенев говорит: «Несокрушимый». Ему нужен «несокрушимый». Когда они были в России, Герман навестил Тургенева в гостинице. Иван Сергеевич закричал: «Безумный, отчаянный вы человек! Уезжайте, бегите! Не сегодня завтра вас арестуют…» Герман, смеясь, ссылался на неотложные дела. И был арестован. Иван Сергеевич строил проекты освобождения: «Сделаю все, что могу». И вздыхал: «Да могу-то слишком мало… А перед такими, как он, я, старик, шапку снимаю…» Теперь просил: приезжайте в Буживаль, надо поговорить об очень, очень важном. Ему нужен безумный, отчаянный человек. Именно, он, Герман, а не они, дамочки-эскулапки, со своей медицинской этикой.
Сеялся дождик, аллея шумела. Она увидела белую парадную лестницу и замедлила шаг. Господи, разве солжешь об отлучке Германа? Да, но прежде-то ее встретит мадам Виардо. И выкажет неудовольствие, как Наде Скворцовой… Зине вдруг страшно захотелось, чтобы мадам Виардо не пустила, прогнала ее. Но нет, подумала Зина, этого не случится, этого не случится, они ведь в дружбе давно, поди, уж лет десять, еще с того времени, когда Иван Сергеевич передавал через Германа деньги на издание «Вперед!». А музыкальные вечера? И там, в Париже, на улице Дуэ, и здесь, в Буживале… Герман не очень-то жаловал мадам, но ее меццо-сопрано повергало его в трепет – мороз, говорил, подирает по коже от этого надломанного голоса. Почему-то ему слышалась надломанность. Не Сен-Санс или Мейербер «забирали», он к ним равнодушен, а романсы на слова Фета, Пушкина, Тургенева, на музыку положенные самой певицей. «Друг мой, я звезды люблю – и от печали не прочь…» Нет, они с мадам Виардо старые знакомые, и мадам Виардо не встанет поперек. И ты придешь к Ивану Сергеевичу и станешь уверять, что Герман совсем ненадолго отлучился, непременно нагрянет в Буживаль, какие сомнения, непременно… А дома, в Париже, ты положишь конверт с запиской в стопку свежих писем, Герман прочтет, но прочтет-то позже, после того как ты скажешь, что была в Буживале, что Ивану Сергеевичу сейчас ни до каких, пусть и самых важных, разговоров, следует подождать, и Герман, конечно, согласится…
Не резкий, раздраженный отпор встретил Зину – сосредоточенная, скорбная неприступность. Испанские глаза были сухими, отсутствующими, лицо изжелта-бледным. И в голосе мадам Виардо впервые расслышала Зина ту надломленность, которую всегда слышал Лопатин. «Нельзя, мой друг. Это не каприз. Он близок… У него жажда смерти», – сказала мадам Виардо.
Приглашение к обеду показалось диким. Не раскрыв зонтик, она пошла на станцию. Шла, не огибая лужи. Длинные коричневые скамьи на дебаркадере были мокрыми. Зина села. Появился служитель, предложил укрыться под станционной крышей. Она поблагодарила и не двинулась с места, отдаленно, как о посторонней, подумав, что это и глупо, и простудливо…
Горский курил в станционном зале.
Он нынче не встречал утренний поезд – кто же отправится в Буживаль при такой непогоде? К утреннему, из Парижа, не ходил, а к дневному, на Париж, прибежал – в Буживале стало невмоготу.
Он увидел ее на дебаркадере. Поезд гулко отдувался. Зина спешила к вагону, взъерошенная, мокрая, как бы даже и ростом была меньше, ох, совсем не Диана-охотница. Шалость, восторг, смятение бросили Горского в тот же вагон.
* * *
Поезд ушел, оставил острый запах дыма, и меня, слитно с этим запахом, охватило неприятное опасение – из всего сказанного не возникает ли у кого-либо подозрение о треугольнике, набившем оскомину: муж – жена – любовник?
Нет, герои мои не из постного сахара и ничто человеческое им тоже не чуждо, однако чего не было, того не было. Пресловутый треугольник неуместен в материалах к роману.
Уместно другое, совсем другое.
Лопатин в ту пору собирался вновь покинуть Францию. Он почти не надеялся еще раз увидеть берега Сены. Роковые сложились обстоятельства. О них – чуть позже. А сейчас о сугубо личном.
Расставаясь с Францией, Лопатин расставался с Зинаидой Степановной. Это расставание, обоюдно мучительное, называл Герман Александрович последним актом семейной драмы. Некоторое время она писала ему в Петербург. Я читал эти письма: «Милый Герман…» Потом наступило молчание. «Оттуда не выходят, оттуда выносят», – говорил шеф жандармов: Лопатина поглотил каземат Шлиссельбурга. Его жизнь кончилась. Ее жизнь продолжалась. Она вышла за Константина Николаевича…








