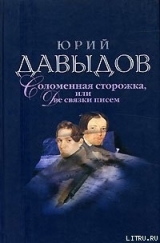
Текст книги "Соломенная Сторожка (Две связки писем)"
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 36 страниц)
«Сибирские отрасли», горячо занимавшие его, упирались в две цитадели – министерство внутренних дел и министерство финансов. Соответственно и министров: того, кто увлекался ваянием, – Тимашева, и того, кто отличался упрямством, – Рейтерна.
Оба были сильно недовольны Синельниковым.
Тимашев, в прошлом начальник Третьего отделения, не прощал крутое самоуправство, с каким тот гнал заслуженных чиновников. Нерадивы? Взяточники? Оно верно, нехорошо-с, да зачем же сразу-то: «В отставку! В отставку!» А ежели и увидит, что поторопился, все равно кричит: «Ну, извини! На этот раз ты действительно не украл. Ну, не сегодня, так завтра украдешь. Вот мы и квиты». Хуже всего – публично шельмует, в газете, в «Иркутских ведомостях». Да еще хлопочет об издании двухнедельника «Сибирь». От такой публичности выходит разрушение доверия общества к администрации. Реформатор, прости господи! Он, Тимашев, здесь, в столице, что есть мочи сдерживает господ обличителей, а этот реформист гремит, как Зевс-олимпиец. И пожалуйста, одни несуразности, одни беспокойства. А все оттого, что нет ясности воззрений… Лучшая гарантия ясности, полагал Тимашев, в свитских вензелях на эполетах. У него были вензеля не первый год. А лучшая гарантия спокойствия, полагал Тимашев, ваяние статуэток. Он ваял смолоду. Говорили, что Александр Егорович обладает отменным вкусом. Во всяком случае ложу в Михайловском театре он абонировал: его вдохновляли роскошный бюст мадемуазель Девериа и восхитительные бедра мадемуазель Лотар.
Рейтерна, министра финансов, господь обнес артистизмом, зато наделил практицизмом. В отличие от Тимашева, он не боялся гласности, не боялся прессы, а боялся лишь одного – нарушения финансовой дисциплины. Пусть погибнет мир – гроссбух превыше мира.
Принимая Синельникова и в служебном кабинете, и по-домашнему, в своей холостяцкой, без женской прислуги квартире, находившейся в министерском здании на Мойке, Михаил Христофорович выслушивал генерала, ничем не обнаруживая раздражения, разве что на его большом белом хрящеватом носу изредка подрагивали резко вырезанные ноздри.
Притязаниям «сибиряка» Рейтерн противодействовал не потому, что не понимал необходимости развития производительных сил страны. О, хорошо понимал, очень хорошо, но стремился к тому, чтобы это развитие цвело на почве частных капиталов. Синельников не отрицал, слава тебе господи, дельцов-спекуляторов, да вдруг и сосредоточивался на филантропических заботах во имя народного здравия и благосостояния. Прекрасно, если бы… Ведь он чего требует? От промышленников – стройте казармы. От казны – давайте солонину, крупу, муку, одежду, обувь: буду отпускать по заготовительным ценам. И пожалуйста, ущерб частному хозяину. Чувствительнейший! На что уж Базанов покладист, а ведь и он, мильонщик, жалуется. Тишком жалуется: с генералом, мол, шутки плохи, глядишь, дубинкой огреет. А нашему филантропу все мало, все мало. Рабочие с приисков при деньгах выходят, тут и законная выгода окрестной коммерции. Так нет! Этот Синельников простер и на вольнонаемных свою заботу, как на каторжных: чуть ли не весь заработок велит отбирать под форменную квитанцию, ступай, дескать, домой, деньги почтой получишь, целее будут, на хозяйство употребишь. А какое гонение на питейную отрасль! Ближе пятидесяти верст от приисков не велит держать винные подвалы. Кабаки норовит извести под корень. Ну-с, тут уж, сударь, ущерб не частной коммерции – акцизной системе, казенному капитальному доходу.
Во всем они были несхожи, Тимашев, выходец из школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, и Рейтерн, воспитанник Царскосельского лицея. Но оба сходились на том, что Синельникову недоступна высокая политика.
Он в службе служил без году полвека. Но именно в это ясное лето до конца сознал непреложное, непреходящее: никому ни до чего нет дела. Сознал равнодушие. Оно не было болезнью, пусть застарелой или даже неизлечимой, не было чьей-то злой волей, а было естественным, коренным, имманентным, стихийным, при известной доле иронии над самим этим равнодушием. Напротив, неравнодушие было б неестественным. После севастопольской встряски все продрали глаза: царица небесная, да как же мы живем?! Ну, огляделись, ну, потянулись, ну, почувствовали зуд в плече, ну, рукав засучили и… не успели засучить другой, как напала неодолимая зевота. И опять сомкнулось равнодушие, нечто стихийное и вместе уютное, как халат.
Государь вернулся из Ливадии. Синельников испросил высочайшую аудиенцию. Ему передали высочайшее благоволение. И приказание возвращаться в Сибирь. В ту ночь старик не спал, слушал дождь и порывы ветра – осень наступила сразу.
А утром Нева была буро-лохматой, над Невой носилась водяная пыль, дождь был разорван в клочья. Орудийный салют мерно сотрясал воздух. Синельников стоял во фрунт и думал о том, что опоздал родиться.
* * *
В Москве, даже и не вспомнив приглашение князя Долгорукова, Синельников с поезда петербургского пересел на нижегородский, а потом – пароходом, вниз по Волге, вверх по Каме – до Перми. Он был сумрачен, все торопился, как убегал. Он сам себе говорил, что получил горький урок и что энергия его разрушена.
Пермь была рубежной – откатилось недавнее, столичное: ангел на столпе и архангел на щипце, дорическая колоннада министерства на Чернышовой площади и цитадель финансистов на Мойке. Откатилось, истаяло в пространствах осени, и Николай Петрович испытывал мстительное чувство отдельности этих пространств и этой осени от всего, что осталось там, где ажурные решетки, вензельные эполеты и театральные мамзели, исполняющие «О, Venus, guel plaisir trouves ti a faire cassoder ma vertu?»1111
«О Венера, неужели тебе приятно играть моей добродетелью?» (франц.)
[Закрыть]
Из Перми в Томск Николай Петрович двинулся не на казенных, а на вольных. Не потому, что вольные дешевле, а потому, что они неказенные.
Этих ямщиков звали тут дружками, ездить с ними называлось ездить по дружкам. Самый звук слов нравился Николаю Петровичу, как нравилось и то, что здешние ямщики не говорили «в прошлом году», а говорили «лонись», не «лес», а «тайга», не «бывалый», а «видок», не «хорошая лошадь», а «степистая» или «конистая». Говор был окающий, и это тоже нравилось Николаю Петровичу.
Ямщики менялись каждые двадцать – двадцать пять верст. Дворы у них были просторные, под тесовыми навесами, дома тоже просторные, чистые, в здоровом запахе дерева и сена. Николая Петровича кормили мясными щами, кашей, сметаной; квас был ржаной, хорошо убродивший. Николай Петрович ел и пил с удовольствием, ощущая себя человеком походным, служивым.
Встречая на тракте запыленный люд с котомками и котелками, он, случалось, придерживал тройку – и громко, отцом-командиром:
– Откуда, братцы?
Не всей пятерней, не по-мужицки, не волоком стаскивали бородачи шапку, а, ухватив щепотью, легко сдергивали, и в этой ловкости угадывалась манера вполовину арестантская, вполовину солдатская.
– А мы с приисков, вашество, – отвечали они.
– Бог в помощь! – все тем же тоном отца-командира говорил Николай Петрович, опять ощущая свою несоотносимость с петербуржским. Он сознавал иллюзорность несоотносимости, но старательно удерживал это чувство, находя в нем какое-то сумрачное, мстительное удовольствие.
В Томске, в гостиницу Краузе, к нему пожаловали губернатор и полицмейстер. Визит был вроде разведочного. Слухи об отставке грозного Синельникова не утихали, визитеров свербило любопытство.
Николай Петрович раздражился: ишь шушера, так и принюхивается, так и принюхивается, и стал говорить о свидании с государем, о том, что государь был внимателен и ласков, интересовался отраслями сибирского дела, изъявил благоволение и благодарность. Подали шампанское.
Последовали приглашения отдохнуть с дороги по-домашнему, а не в гостинице, Синельников повторял «спасибо», «не беспокойтесь», повторял без раздражения, как бы даже и довольный тем, что сообщил томской администрации нечто очень необходимое и приятное для них же самих. Подали еще шампанского, пошел разговор, что называется, общий, а потом визитеры, дополняя друг друга, выложили новость, взволновавшую третьего дня «весь город».
Дело было не в том, что здешний исправник заарестовал беглую личность, такое приключается нередко, а дело-то было в том, каков хват попался. Он, ваше высокопревосходительство, только волосами встряхнул, эдакая шельма. Встряхнул, да и говорит: «Сорвалось!» Тут бы волком взвыть, ан нет: «Сорвалось!» – и только. Имя беглеца было известно Синельникову, как было известно и то, что беглец исчез бесследно. Об этом происшествии ему сообщили в Петербург. Сообщение, не ошеломив, вызвало ответную депешу об усилении надзора за Вилюйском, за Чернышевским, сам же по себе беглец не занимал Николая Петровича. Но сейчас, слушая едва ли не восторженные «шельма» и «хват», слушая об одолении всех ангарских порогов, а потом и Старо-Ачинского тракта, а потом и… Сейчас Николай Петрович не сумел бы толком выразить свое отношение к этому происшествию, потому что оно казалось ему чрезвычайным совсем не в служебном, не в административном смысле, а в каком-то ином. В каком именно? Вот это-то он и затруднился бы сказать и не захотел бы: тут что-то и как-то соприкасалось с его сумрачным удовольствием от противостояния всему давешнему, петербургскому.
* * *
Это он там, в Томске, волосами тряхнул: «Что ж делать! Сорвалось!» – и беспечально усмехнулся. В «железном уборе» везли Лопатина из Томска в Иркутск, а тайга вставала в своем уборе, осеннем, и небо было высокое, «гусей крикливых караван тянулся к югу».
Он пошучивал, посмеивался: «Что ж делать! Сорвалось!» Неудачный побег арестанты называли «простоквашей» – прокисло, дескать, молоко. Не было охоты походить на простоквашу. Вот и усмехался, пошучивал.
Впереди коней молва ручьилась. На станциях, пока запрягали подставу, толпился, глазея, разный народ. Эх, барин, барин, такие напасти своротил и так нелепо в Томске попался. Герман пошучивал, а на душе-то никогда так скверно не бывало.
На Боковскую станцию приехали затемно. До Иркутска оставалось тринадцать верст. У крыльца дожидались тройки. В освещенном дверном проеме Герман увидел испитое лицо Зейферта. Тройки и этот иркутский штабс-капитан неприятно поразили Лопатина: вот так Чернышевского доставили в Вилюйск, не уготована ли и тебе какая-нибудь «замерзайковская» волость?
– С приездом, – осклабился Зейферт.
– Бонжур, – буркнул Лопатин. – Надеюсь, Крахмальные ворота иллюминированы?
– Еще бы! – расхохотался штабс-капитан. – Все плошки пылают: такой у нас гость!
Тройки взяли с места как оглашенные. Зейферт, сидя рядом, полуобнял Лопатина.
– Да уберите-ка ваши грабли, – обозлился Герман, – с меня и этого довольно! – Он брякнул кандальной цепью.
– А с меня довольно рыскотни по вашей милости, – огрызнулся Зейферт.
Вскоре послышался шум Ангары, в темноте загорелись два высоких огня, не дрожа горели, не смигивая, как глаза драконов. Сильно и холодно пахнуло огромной, быстрой водой. Тройки загремели по бревнам обширного парома. Десятки возов переправлялись на нем в Иркутск, сейчас был он порожним.
– Шевелись, канальи! – гаркнул Зейферт в темноту. Невидимые паромщики отдали концы, налегли на руль, ворочая поперек течения, а оно уж своим норовом, своим обычаем легко принимало тяжелый бревенчатый плот, плотным гулом загудел канат, разматываясь на шпиле все быстрее, быстрее, быстрее. Не паром, говорили в Иркутске, а самолет, и вот он лётом, будто сам, летел наискось по течению, черная вода бурлила все громче, а наверху, во тьме, мчались, как бы отдельно, два немигающих мачтовых фонаря.
Все вместе – скорость движения и слитность с нею, гул и бурление, сильный, холодный, свежий запах воды и эти два огня-метеора, – все вместе было пронзительной болью, как бы сошедшейся в точку. Со дня томского ареста Лопатин словно бы не вполне сознавал беду свою, несчастье, катастрофу, но вот и сознал, оказавшись на этой бешеной, огромной, черной реке.
Паром ткнулся в деревянные мостки, коляски шатнулись и сдвинулись. Жандармы стали сводить лошадей под уздцы, лошади пугливо всхрапывали.
Паром пристал у Триумфальных ворот, по местному речению – Крахмальных. И ворота, некогда возведенные в честь вступления русских войск в столицу Франции, и, главное, этот тихий, ровный шорох под колесами, шорох мелкой речной гальки, устилавшей улицу, – все повеяло на Лопатина шелестом парижского асфальта.
* * *
Едва развиднелось, Герман приник к зарешеченному окну: не в секретную посадили – оконца секретных, он знал, упираются в бельмистую стену, а тут… В крупную клетку, как пейзаж для копииста, было расчерчено Знаменское кладбище. Кладбище кудрявилось кустами, обрызганными золотом. Высокое стояло небо, синего хрусталя, как по дороге из Томска.
Минула неделя – все переменилось.
Горбилось кладбище бурым и черным, в свинцовой штриховке осенних дождей. И припомнилась эпитафия, читанная где-то, когда-то: «Убыль его никому не больна, память о нем никому не нужна».
Далей не было, был смурый гнет. Мама при смерти, час ее близок, зовет она своего Германа. Странно: он не тревожился за отца, за сестер и братьев, ничего с ними не случилось. А мама, чудилось, при смерти, час ее близок, зовет она своего Германа. Он слышал не голос, а запах вербены, похожий на музыкальную ноту «ми», отходил от окна, лежал, смежив веки, но бурое и черное видел и во сне, как видишь осенний подлесок после долгого сбора грибов.
Минули недели – все переменилось.
Еще не поднявшись, едва скосившись на окно, он почувствовал эту перемену каким-то давним, праздничным гимназическим чувством: «Мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед…» Вскочил, подбежал, обеими руками ухватил решетку: снег, снег! Он засмеялся, во все глаза глядя на белое… В белоснежной блузке была Ниночка Чайковская, они целовались, как язычники, ничуть не помышляющие о «воскресе»… Белые блузки меняют на белоснежные платья, назовись невестой – и дадут свидание. Да, да, милая Ниночка, барышне-невесте дают свидания с заключенным-женихом. Право, Ниночка, не так уж и трудно назваться невестой, лишь назваться. Шепните почтеннейшей маменьке, она без затей, поймет, а ведь к ней-то, к Татьяне Флорентьевне, благоволит наш доблестный калиф Синельников. Ей-богу, Ниночка, назовитесь невестой! Никаких жалоб, черта с два вы увидите вашего покорного слугу в лучах славы.
Он иронизировал, а и вправду так было.
Беглец? Эка невидаль! Сотни «рысаков» ежегодно снимались с места, зачарованные вешним кукованьем. И перли на запад, и дохли в глухомани, и попадали под меткий выстрел забайкальского таежного охотника. Бедолаге мужику выгоднее было истратить заряд на своего же брата, чем, скажем, на зайчишку-тушкана или на белочку-попрыгунью. А как же? Живые деньги, прости господи. Длинный генерал за беглую головушку награду сулил, а генерал-то строг, да справедлив – не обманет… Нет, не был такой беглец невидалью. Другая статья, совсем другая, ежели ударился ты, что называется, «на ура», въявь, на счастье. И не с поселения, а прямиком из-под караула. Вот тогда уж действительно удалец, честь тебе и место, ласка и уваженье.
За Лопатиным как раз и числилось это «въявь», это «на ура» – побег с жандармской гауптвахты. Но все внахлест перекрыло ангарское, тут уж и старожилы ахнули.
Острог оказывал ему особенное внимание. Через уголовных, выносивших парашу, передавали и сахарок, и махорочку, прохудившиеся сапоги починили, хоть сейчас в путь-дорогу, изодранное платье залатали, как вновь построили. Он солгал бы, не признав, что все это было ему приятно и лестно.
Устоялась зима, Лопатина перестали держать под замком и щеколдой. Его камеру, как и все прочие, отворяли после утренней поверки.
Острог жил обыкновенной тюремной жизнью.
Общие камеры – сколок разноплеменной страны: русские, татары, армяне, евреи, цыгане, черкесы… Окладистые бороды, сизые затылки, курчавые волосы, серьга в ухе, картуз, мурмолка, дырявая шляпа… Эти – пришлые, то есть следующие в каторгу этапным порядком. А другие, которые в армяках с тузами, в грубых портках до щиколоток, в заскорузлых рубахах, в тяжелых башмаках-котах, эти – бывалые, коренные, «рысаки». Грохот обувки, смех, матерщина. Но есть и тихие закутки, скажем, где-нибудь при больничке, там тайная идет негоциация – торг спиртным, барыш процентов в полтораста; однако не заносись, а делись барышом с надзирателем. Или вот совсем уж секретно, случалось, что и в острожной церкви корпит великий искусник, фабрикант документов для будущих беглецов, а сверх того или прежде того – ассигнаций.
Умостившись на нарах и подвернув калачом ноги, проповедует некто, в семи водах мытый, наставник по части «уходов без спросу»: как решетку перепилить, как часового обмануть, куда путь держать. «Эх, чему только наш монастырь не научит!» – восхищается новичок. А бывалый ответствует ухарски: «Дальше Сибири не ушлют, а к Сибири не пришьют!»
Что еще? А, ну как же! Вечная, неустанная борьба за гражданское право на азартный картеж. Ух, эти ночные налеты начальников – фонари, стук, победный окрик: «Встань!!!» И перетряхивают скарб, и лезут в печку, и засматривают в каждую щель на нарах и под нарами. И – удаляются с трофейной, карточной колодой.
А наутро умелец, насквозь прожженный, с пергаментной физией и непечатной кличкой, возьмется за изготовление новой. Его обсядут, подадут самокрутку уже раскуренную, чтоб ни помехи, ни перерыва в рассказе-бывальщине. А рассказ, конечно, презанимательный, с историко-сравнительным уклоном.
– Вот ты возьми прежний суд, в раньшее время который, – вдумчиво говорит умелец, склонив голову набок и любуясь новорожденным трефовым валетом. – Да, в раньшее-то… Это вот приволокут в квартал. Квартальный там али помощник, комиссар, тут и свидетели, коль нашлись, а нет, так и не надо. Городовой доложит: так, мол, и так. Писарь знай свое: чирк, чирк. Ну, тебе и приговор: две, три плюхи с присказкой: «Впредь, дурак, держи ухо востро!» Тут все захохочут, и, значит, расходись кто куда. А городовому ты еще и магарыч. Ну, если хуже, то розог десяток али два. Тогда этот же городовой ведет в часть. А там кажинный день экзекутор, который от полудня до четырех приголубливает. Получил свое, распишись и проваливай. Весь оборот в два, три часа, и шабаш. А теперь? То-то душу-то мотают… Ладно. Ну, вот еще. Мелкая, скажем, кража – карман. Тот же городовой – судья. Сейчас он тебе мелом на спине круг, метлу в руки – валяй, мети мостовую. Метешь. А народ, а мальчишки-то – в смех. Особливо франтик какой попал али фря… Не-ет, нынче не то, нынче, брат, канительно. А тогда отдерут, и квиты. Теперь возьми преступление стоящее. Учинят следствие, опять же из квартальных следователь. У квартального, ежели дока, середь нашего брата есть такой шустренький, ему поблажки, на него сквозь пальцы, а он, значит, услуга за услугу, ну, этот и наведет на след, прямо укажет. А ежли отрежет: «Знать не знаю!» – то, значит, не знает али у самого рыльце в пушку. Ладно. Теперича – допрос. Попал к доке, он сейчас по сусалам, по сусалам. Иль мигнет служителю, тот все исполнит в лучшем виде. Ну, думаешь, это хорошо, это дело пошло правильно. А совсем другое, коли попал к истинному мучителю, это который все с улыбочками, да с коленцами, да с подходцами, шуточками-прибауточками. Знай наперед: селедкой велит кормить и пить ни-ни, клопам предоставит, глаз не сомкнешь. Как есть истинный мучитель. А который по мордасам – тот правильный, этому, брат, надо как на духу, от такого и свидетелю достанется, коли приврет… Ладно. Теперь скажу, как от мучителя избавиться. Тут ты ему прямо лепи, не бойсь: так, мол, и так, а я на это самое воровское дело с вашего-де согласия решился, потому как вы, значит, в доле. А такое, братцы, бывало, есть и будет… Хорошо. Лепишь ему, он на дыбы, а ты – свое. Его, глядишь, и отставят, сам же и попросит… Чего, чего? Не поверят? Ха! Сопля зеленая, не расцвел еще, только зацветаешь, а туда же – «не по-верят»! Да как же не поверят, ежли такое самое и приключалось! Вот возьмите – жил я на Москве. Есть там Кузнецкий мост. Знаешь? Ну вот, не знаешь. А он есть, улица такая. А был там, может, и поныне торгует, был там меховой магазин Мичинера. Вот его раз и помыли дочиста, тыщ на сто. Хорошо. Перво-наперво кличут Карпушку. Из наших был, но при ихней службе. Спрашивают: где? А Карпушка мнется. Ему: ты чего? говори! Нет, мнется. «Знаю, ваше благородие, да сказать не смею». Ему опять: говори, сукин сын! «Да ить, ваше благородие, они-то, меха-то, все до единого у господина пристава». Эй, кричат, эй, Карпушка, ври, да не завирайся! «Как перед истинным богом, ваше благородие! Да рази я б посмел?!» Доложили господину полицмейстеру, тот – господину оберполицмейстеру, тот велит с обыском. И что думаешь? Всё, как есть, находят. На мехах клейма от Мичинера… Не-ет, постой, ты имей терпение, это еще не все, потому как при обыске-то у господина пристава находят еще штуку – телец златой! Понял? Весь из золота литого, а глаза бриллиантовые. Вот крест! Тут уж не сто тыщ, не меха. А как получилось? Ты слушай. Приезжают в Москву двое, оба иностранные, один вроде немца али англичана, а может, и францужанин, но ведь так-то, на вид, вроде бы нас с тобою. А другой, братцы, черный, как в саже, черный-пречерный. Царь какой-то африканский, индейский, не знаю… Ладно, приехали. Сидят в гостинице, чай пьют с баранками. На столе самовар, брульоткой называется, господский. Ну, попили. Которому вроде нас с тобой спать охота, а головешкой которой, тому, вишь, погулять. Взял и пошел. А белый-то, не будь плох, весь этот царский-то багаж сгреб и – нету, пропал. Черный вертается: ахти, батюшки! Понятно, караул кричит. Послали за полицией. Приходят. Господин пристав во главе угла. Африканский ли, индейский – лопочет по-своему, разбери-пойми. А на шее, под рубахой, на цепочке – телец златой, бриллианты горят, это у него вроде бога ихнего, от сглазу. А пристав-то и углядел, ажио мурашки по спине: господи, царица небесная, да тут на всю жизнь детям-правнукам. Да-а, за такое кто б не решился! И что ж думаешь? Берет он этого царя индейского за шиворот и велит в каталажку. Никто ничего не понимает, царь этот тоже ни бельмеса. Одно слово: вор и бродяга. Его в острог, его по Владимирке – пошла Настя по напастям… Этого-то тельца и нашли. А где он, черный-то, врать не буду. Может, ты его где-нибудь туточки, в Сибирях, встренешь…
* * *
Вся эта публика, завидев знаменитого барина-беглеца, приглашала наперебой:
– Григорий Лександрыч, пожалуй к нам, коли не брезгуешь.
Он поправлял: я-де не тем именем крещен, не Григорий я. Ему терпеливо объясняли:
– Германы – это из христопродавцев. А ты – Григорий, Григорий Лександрыч, вот так.
Общее расположение к Лопатину приняло оттенок почти богомольный с того дня, как взялся он за всяческого рода прошения. Он умилял клиентуру не только ладом и складом, а и чистотою письменной отделки. Адвокат-доброволец особое предпочтение отдавал двум острожникам, и хоть они не просили юридической помощи, но подолгу оставались в его камере.
Мокееву Степану было около тридцати. Чернявый, сухой, горячий, быстрый, он обладал железной и цепкой физической хваткой, которую словно бы производили не мускулы, а нервы. Мокеев не принадлежал ни к пришлым этапникам, ни к бегунам-«рысакам». Забайкальский уроженец, он робил на прииске мильонщика Базанова. В острог пригнали Степана день в день с Лопатиным. Числилось за Степаном покушение на жизнь скупщика золота. Крутая перемена судьбы ошеломила Мокеева. У него была потребность в слушателе, хотелось избыть свою ошеломленность. А вместе с тем он что-то судорожно нащупывал, пытаясь вытащить на свет божий злодейскую причину этой перемены, чувствуя, что кроется она не в одной наглости витимского скупщика.
Лопатин сострадал Мокееву. Но состраданием не все исчерпывалось. Этот Степан Мокеев был первым рабочим, не мужиком, не ремесленником, а именно первым промышленным рабочим, с которым можно было толковать не мимоходом, не наскоро. И как раз о том, о чем можно было толковать лишь здесь, в Сибири.
Еще в ставропольской ссылке припал Лопатин к Марксовой критике политической экономии. И очень развеселился, прочитав, что даже любовь не сделала стольких людей дураками, как мудрствования по поводу сущности денег. Он не сделался дураком от любви к вдове полковника фон Неймана. И не одурел от мудрствования по поводу денег. Первым он был обязан самому себе. Вторым – доктору Марксу.
У врат науки Маркс выставил строки Данте, предпосланные путешествию в ад: «Здесь нужно, чтоб душа была тверда; здесь страх не должен подавать совета». Как тяжко ворочались эти фунты кофе, аршины холста, этот анализ товара, меновая стоимость и рыночная цена. А метаморфозы благородных металлов? Извлеченные из мира подземного, они излучают самородный свет, озаряющий мир земной. Золото и серебро по своей природе не деньги, но деньги по своей природе – золото и серебро. Они – продукт природы, и они – продукт общественного процесса.
И вот он, прямой добытчик самородного света Степан Мокеев. И уж Герман Лопатин постарается, чтобы этот прозрел. Но и Лопатину необходим не книжный «агент производства», а этот чернявый, сухой, горячий сибиряк с приисков мильонщика Базанова.
В его потребности были не только «химические» сродство и связь, которые Лопатин ощущал и в степных ставропольских станицах, и в приангарских деревнях, а была еще и взаимная зависимость по душе и судьбе: и этот Степан Мокеев, и он, Лопатин, шли одной дорогой, где «страх не должен подавать совета», дорогой в царство, не обозначенное на географической карте, но уже возвещенное знаменем Коммуны на парижской ратуше.
Мокеев отчетливо сопоставлял фунт лиха с золотником благородного металла. Золото и лихо держались в обнимку на берегах дикой реки. Роясь во тьме ущелий и грохоча в валунах, она грызла горные хребты, потом текла в долине посреди сосняка, посреди кедровника, вливаясь в Лену тремя рукавами: река Витим – золото и лихо.
– Как учнут поднимать в третьем часу утра…
Желваками играл Степан Мокеев: не вспоминал он, не рассказывал, не жаловался, а словно опять лежал на полу земляного барака.
Лопатин видел лондонское «воронье гнездо» – Сент-Джайлс, читал у Энгельса о трущобах. Видел и ночлежки, в каждой комнате по пять-шесть коек. Земляных же нор без окон и воздуха, без коек не видел – выспрашивал подробности. Мокеев усмехался: изволь, Лександрыч… Потом продолжал:
– Учнут нас будить в третьем-то часу утра, так мы повскакиваем, точно полоумные. Ходим, как отравленные мухи, сталкиваемся друг с другом, ничего не понимаем. Другого и не добудишься, пока не вытянут плетью. Опомнишься порядком уже на утреннем ветру, по колено в воде, в забое.
Опять Лопатин мягко тормозил Степана: до забоя надо ж что-то опустить в желудок? Он читал, как штрафуют английских лавочников за низкое качество мяса и овощей.
– Штрафуют?! – Степан скрипел зубами. – А не жалаешь ли, как праздничка, солонинки, от которой воротит рыло? Чай да краюха с солью – жуй, запивай. А коровьим маслицем заправлен чаек – благодать.
Герман читал у Энгельса о тифозных, чахоточных, рахитичных, цинготных; не по карману английскому работнику частный врач, обращается в благотворительные учреждения, их множество; все равно недостаточно, но множество, и больницы, и аптеки.
– А как же? – ощеривался Степан Мокеев. – И у нас больничка, и у нас фершал. А только кто он такой, Ксенофонтыч? Он же от Базанова Ивана Иваныча нанят, стало быть, не жди, чтоб дал тебе дух перевесть. А ежели и положит на койку, так день, другой – и поплыл туда, где нет ни забоя, ни кирпичного чайку.
Что такое truck-system, Лопатин знал: в хозяйских магазинах на фабриках рабочему вместо денег платили товарами. Оказалось, что и на приисках, в базановском княжестве, такую же хитрую механику устроили.
– Ты берешь, – рассказывал Мокеев, – а тебе записывают в расчетную книжку. Всякая дрянь рублями пахнет… Но погоди, до расчетной книжки – цельная вечность. Ты подымайся затемно, в третьем часу, ты шабаш затемно, в девятом часу. Это сколько выходит, а? Вот то-то! Напоследок робишь при факелах, так и трещат берестой. А глядь-поглядь – мать честная! – опять кубик недодал, урок не сполнил. Уж, кажись, и не разгибался, без мешка за спиной горбачом был, а нет – не вытянул. Коли так, волочи свою недоимку на другой день, на следующий – нипочем от этой волокуши не отцепишься. А времечко идет, и вот наползает середка сентября. Над каждой головушкой возносит приказчик расчетную книжку. Кричи не кричи, матерись не матерись, а весь ты как есть – со своим «забором», штрафами и кубиками… Однако припрятано то, что зовется «подъемным», а еще зовется «пшеничкой». Не каждому давались они, фартовому давались! Ради того и старались старатели. И прятали «подъемное» золотишко, прятали «пшеничку» кто в горбушку, кто в каблук. Обыск такой, что ни в каком остроге. Ну а потом – идите, ребятушки, не поминайте лихом, а того лучше выставляйте-ка своеручный крест на листе с контрактом: даст бог сезон – даст и пищу. Не жалаешь, рыло воротишь? Ну что ж, не каторжный, ступай – впереди слобода Витим…
Шли горбачи – мешок на хребте, вот и горбатый, – шли таежными тропами, берегами трех рукавов, впадающих в Лену. А на другой, высокой стороне Лены дымили печные трубы. Там, в слободе Витим, и бабы и мужики обитали как птицы небесные – без пахоты, без сева, без жатвы: ниспосылалась им манна – витимские приискатели. Выйдут из тайги одичалые, лохматые, в отрепьях – страда в Витимской слободе, в кабаках ее и избах, в лавках с товаром, доставленным илимским волоком. Да что там кабаки – каждая изба кабак. Жарят, парят, мужики у ворот зазывалами. А то и сопливых вышлют.
– Дяденьки, а дяденьки, – хватает мальчонка за портки, за мешок. – Дяденьки, идите к нам: у нас б… есть.
– Много ли? – хохочут горбачи.
– Мамка да сестра, с вас хватит, – пищит мальчонка.
И вот уж простоволосая молодайка, сидя на сундуке, лузгает кедровые орешки. А на столе штоф с полугаром, рупь за каждый шкалик-крючок. «Угорает» горбач, разевая рот на этих «крючках», но держится, пока еще держится.
– Дед, а дед, ну чего это унучка твоя со мною не поговорит?
Дед, восприявший от щедрот горбача, строго пришамкивает:
– Слышь, Дунька, поговори с парнем-то! – И, не дожидаясь ответа, хвастает: – Во, вишь, этих-то мне все дочки нарожали. А ты говоришь: плохо без сыновей. А на кой мне хрен сын-то? Меня девки прокормят получше твово сына, да-а, получше и без затрещин… Эй, Дунька, чего молчишь? Велено тебе, поговори с парнем.








