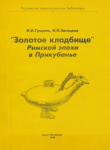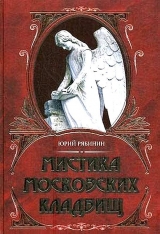
Текст книги "Мистика московских кладбищ"
Автор книги: Юрий Рябинин
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 34 страниц)
Антонин Петрович Ладинский прославился, прежде всего, тем, что он был одним из немногих эмигрантов первой волны, кто возвратился на родину. Особенных литературных заслуг он не имел. Впрочем, переводчиком он был замечательным. И некоторые его переводы издаются до сих пор. Короткую, но вполне исчерпывающую информацию об этом литераторе дает Нина Берберова в книге «Люди и ложи»: «Белый офицер, поэт, писатель. Эмигрант в Париже, 24, rue Fosses – St. Jacques. Служащий в конторе «Последних новостей». Вступил в «Северную Звезду» в 1931. После 1944 – «советский патриот»; в конце 1940-х гг. был выслан из Франции в СССР». Газета «Последние новости» была крупнейшим изданием всей белой эмиграции. Возглавлял «Новости» П. Н. Милюков. А «Северная Звезда» – это самая известная русская масонская ложа во Франции. Кроме Ладинского в нее входили – Н. Д. Авксентьев, М. А. Алданов, Г. И. Газданов, Д. М. Одинец, М. А. Осоргин и другие.
Поэт Владимир Агатов пошел в историю литературы благодаря одному своему стихотворению, процитированному на надгробии. Но это стихотворение дороже иных собраний сочинений. То, что «Темная ночь» любима уже несколькими поколениями русских, неудивительно. Но, как ни странно, «Ночь» нашла почитателей и на той стороне фронта: у немцев не было военной поэзии, равной нашей по своей патетике, по художественному уровню, и когда их ветераны Второй мировой читают переводы Агатова, Симонова, Суркова, Исаковского, Фатьянова, другие, они находят в них, по собственному признанию, ровно те же свои переживания, точно ту же свою боль, что чувствуют и русские солдаты.
Среди похороненных «в землю» известных писателей на Новодевичьем гораздо больше. Вот только некоторые:
Велимир Хлебников 1885–1922;
Валерий Брюсов 1873–1924;
Дмитрий Фурманов Большевик Писатель 1891–1926;
Писательница Анастасия Алексеевна Вербицкая 1861–1928;
Писатель проф. Василий Львович Львов – Рогачевский 30/IX 1930 г.;
Сергей Яковлевич Елпатьевский род. 23 окт. 1854 г. сконч. 9 янв. 1933 г. Я был бы счастлив показать людям то великое и прекрасное, что жило с нами «Близкие тени» писатель народоволец врач-общественник;
Писатель Борис Николаевич Бугаев Андрей Белый 1880–1934;
Писатель Гиляровский Владимир Алексеевич 1853–1935;
Поэт Николай Дементьев 1907–1935;
1884–1935 Писатель Павел Сергеевич Сухотин;
Н. Островский;
Писатель Пантелеймон Сергеевич Романов. Отзвучала жизнь. 1884–1938;
Писатель А. Малышкин 1892–1938;
Поэт Владимир Алексеевич Пяст 1886–1940;
Писатель Михаил Афанасьевич Булгаков 1891–1940;
Драматург Александр Николаевич Афиногенов 1904–1941;
А. Новиков-Прибой 1877–1944;
Поэт и драматург Виктор Гусев Лауреат Сталинской премии 30.1.1909–23.1.1944;
К. Тренев 1878–1945;
Демьян Бедный Ефим Алексеевич Придворов 13.IV.1883 г. – 25.V.1945 г.;
Алексей Николаевич Толстой 1883–1945;
Писатель Эль-Регистан. Габриель Аркадьевич Уреклян 1899–1945;
Сергей Алымов. Россия вольная, Земля прекрасная, Советский край – Страна моя! 1892–1948;
Писатель Евгений Григорьевич Вермонт 1906–1948;
Поэт Михаил Семенович Голодный 1903–1949 Не станет нас, – миллионы других Встанут за нами как тень Недаром любили мы молодых, За ними завтрашний день!
Александр Серафимович Серафимович (Попов) 1863–1949;
Василий Иванович Лебедев – Кумач 1898–1949;
Вс. Вишневский 1900–1951 Писателю – бойцу;
Писатель генерал-лейтенант Игнатьев Алексей Алексеевич 1877–1954;
Веретенников Николай Иванович Автор книги Володя Ульянов 1871–1955;
Тихонов – Серебров Александр Николаевич 1880–1956 Писатель;
Александр Фадеев 1901–1956;
Писатель Николай Дмитриевич Телешов Заслуженный деятель искусств 1867–1957;
Писатель Иван Федорович Попов 1886–1957;
Поэт Н. Заболоцкий 1903–1958;
Профессор-литературовед Иван Никанорович Розанов 1874–1959;
Борис Лавренев;
Литератор Анна Александровна Луначарская 1883–1959;
Еголин Александр Михайлович 1896–1959;
Писатель Лев Матвеевич Субоцкий 1900–1959;
Писатель Соколов Василий Николаевич 1874–1959 член КПСС с 1898 г.;
Писатель, депутат Верховного Совета СССР Панферов Федор Иванович 1896–1960;
Поэт Самуил Галкин 1897–1960;
Писатель Петр Георгиевич Скосырев 11.VI.1900–1960.24.IX;
Писатель Георгий Михайлович Брянцев 23 апреля 1904 г. – 1960 г. декабря 26;
Писатели Братья Тур. Леонид Тур 1905–1961. Петр Тур 1908–1978;
Писатель Дмитрий Дмитриевич Нагишкин 1909–1961;
Писатель Владимир Матвеевич Бахметьев член КПСС с 1909 г. 1885–1963;
Всеволод Иванов 1895–1963;
Николай Асеев 1899–1963;
Назым Хикмет 1902–1963;
С. Маршак;
Гудзий Николай Каллиникович Профессор Академик АН УССР 1887–1965;
Степан Злобин 1903–1965;
Писатель Александр Викторович Коваленский 1897–1965;
Писатель Степанов Александр Николаевич 2.11.1892–30. Х.1965;
Николай Чуковский 1904–1965;
Писательница Мария Федоровна Бахметьева член КПСС с 1917 г. 1889–1966;
Писательница Анна Антоновская 1885–1967;
Поэт Павел Арский;
Илья Эренбург 1891–1967;
Писательница Александра Яковлевна Бруштейн 1884–1968;
Е. Поповкин 1907–1968;
Леонид Антонович Малюгин Писатель 1909–1968;
Поэт Григорий Санников 1899–1969;
Лев Кассиль 1905–1970;
Ефим Николаевич Пермитин Писатель 1896–1971;
Твардовский Александр Трифонович 21.6.1910–18.12.1971;
Герой Советского Союза писатель, журналист Сергей Александрович Борзенко 1909–1972;
Писатель Аркадий Николаевич Васильев 1907–1972;
С. Кирсанов 1906–1972;
Поэт Ярослав Смеляков 1913–1972;
Поэт Александр Безыменский 1898–1973;
Поэт Михаил Васильевич Исаковский 1909–1973;
Всеволод Кочетов 1912–1973;
Герой Советского Союза писатель Левченко Ирина Николаевна 1924–1973;
Василий Макарович Шукшин 1929–1974;
Александр Львович Дымшиц 1910–1975;
Поэт С. Васильев 1911–1975;
Поэт Михаил Кузьмич Луконин 1918–1976;
Сергей Сергеевич Смирнов 1915–1976;
Константин Федин 1892–1977;
Драматург Алексей Файко 1893–1978;
Писатель Владимир Германович Лидин 1894–1979;
Поэт Николай Семенович Тихонов 1896–1979;
Агния Барто. Писательница 1906–1981;
Полевой (Кампов) Борис Николаевич 1908–1981;
Алексей Александрович Сурков 1899–1983;
Писатель Борис Черный 1904–1984;
Валентин Петрович Катаев 1897–1986;
Писатель Александр Петрович Кулешов (Нолле) 1921–1990.
Писательница Надеждина Надежда Августиновна 7.09.1905–14.10.1992.
Значит, Новодевичье отнюдь не уравнивает всех, кто здесь оказался. На кладбище существует две, по крайней мере, степени признания: урна в колумбарии – одна, а погребение в землю, не всегда даже «гробом», а иногда «пеплом», – другая, несоизмеримо более высокая.
Некоторые писательские захоронения до крайности запущены. Это, кстати, тоже подтверждает, что Новодевичье далеко не всегда гарантирует всякому попавшему на него признания в качестве национального достояния с соответствующими посмертными льготами. Если у покойного не осталось никого из близких, то могилу его, надгробие или урну в колумбарии участь ждет обычная в таких случаях, как на самом захолустном погосте, – запустение, разрушение.
На Новодевичьем повсюду встречаются таблички на могилах – «Родственникам просьба зайти в администрацию кладбища». Такие предуведомления администрация делает в тех случаях, если какая-либо могила многие годы не знает ухода, если разрушился или вообще исчез памятник на ней и т. п. Но, судя по тому, что и сами эти таблички ветшают со временем, положительного действия они не имеют, – родственники, как правило, не объявляются. Возможно, таковых вообще уже нет. Значит, какая-то часть захоронений главного московского пантеона обречена на исчезновение, как на любом кладбище.
Однажды, прогуливаясь по Новодевичьему, автор очерка стал свидетелем довольно необычной картины: несколько десятков детей, вооружившись метлами и граблями, убирались на могилах и расчищали дорожки. Оказалось, что это учащиеся расположенной поблизости 45-й школы. И уборка на кладбище – это их давняя традиция. Дело в том, что в советские времена пионерская дружина школы носила имя Николая Островского. А по соседству со школой, как мы знаем, находится самая могила автора культовой для своего времени «Стали». И вот инициативные пионеры придумали взять на себя заботу по уходу за могилой Островского. Поначалу это была, конечно, чисто идеологическая акция, но впоследствии, уже при нынешнем режиме, как рассказала нам заместитель директора школы по воспитательной работе Ирина Леонидовна Кокорина, она переросла, превратилась в некий практический историко-краеведческий факультатив, способствующий к тому же развитию у детей чувства собственной причастности к сохранению отечественного исторического и культурного наследия. В школе это и подобные мероприятия именуются «неделями добрых дел». Для детей польза от таких «недель» очевидная.
Но не может же эта польза служить оправданием некоторым взрослым в их нежелании уделять внимание погибающему культурному и историческому наследию в надежде, что ему – наследию этому – не позволят окончательно погибнуть… малолетние школьники!
На московских кладбищах, в том числе и на Новодевичьем, на грани исчезновения многие писательские захоронения. Но при этом Союз писателей – организация весьма авторитетная и, прямо сказать, не бедная – нисколько этим не интересуется. Не замечает. Сейчас среди членов СП и особенно в верхах союза почти нормой сделалось заявлять, позиционировать свою воцерковленность. Так, может быть, писательские вожди, перефразируя вероучение, считают, что СП не есть союз мертвых, но живых? Почему, видимо, предоставляют мертвым погребать своих мертвецов. Да! – и еще умывают руки, – конечно! Все по писанию.
Совсем недавно нишу с прахом упомянутого в колумбарном списке писателя Савелия Лев-Савина кто-то заботливо прикрыл стеклом. До этого же многие годы захоронение представляло собой зрелище в высшей степени удручающее: стекло отсутствовало вовсе, надтреснутая урночка лежала на боку, надпись на ней уже было почти не разобрать. Самый пепел просыпался! – и его постепенно выдувал ветер из ниши. Допустим, этот Лев-Савин был незначительным писателем. И даже, скорее всего. Но что же, это ему такое наказание посмертное выпало за его незначительность?! Так что ли? На Новодевичьем есть писатели, которым установлены грандиозные монументы, а подойдешь к нему, голову сломаешь, но не в жизнь не вспомнишь, что именно написал «зде лежащый». Значит, благоустройство захоронения зависит единственно от отношения к нему каких-то заинтересованных лиц. И меньше всего от заслуг или величины дарования покойного. Спасибо тем подвижникам, которые хотя бы отсрочили исчезновение захоронения писателя Лев-Санина, – может быть, когда-нибудь оно будет обустроено более основательно. Уж не дети ли из соседней школы опять пришли на выручку?..
В разной степени запустения находятся теперь на Новодевичьем могилы писателя Александра Степанова, поэтов Григория Санникова и Бориса Александровича Садовского (1881–1952), художника Георгия Богдановича Якулова (1884–1928), скульптора Александра Павловича Кибальникова (1912–1987), философа академика Марка Борисовича Митина (1901–1987) и некоторые другие.
Александр Степанов – автор известной дилогии «Порт-Артур», за которую он в 1946 году был удостоен Сталинской премии. Сколько раз книга эта издавалась по всему Союзу, трудно даже подсчитать. Относительно недавно, в связи со 100-летием Русско-японской войны, «Порт-Артур» опять оказался востребован. Виртуозно ориентирующиеся в конъюнктуре издатели не упустили своего: не без выгоды, вероятно, для себя, они в очередной раз выпустили книгу в свет. Но никто из них не догадался отчислить какую-нибудь «десятину» на восстановление могилы кормильца. А к следующему юбилею Русско-японской такая жертва может уже и не потребоваться, – могила Александра Степанова тогда просто не отыщется больше на кладбище.
Глядя на могилу скульптора Александра Кибальникова, нельзя не припомнить поговорку – сапожник без сапог. Там не то что величественного монумента, под стать эстетике автора Маяковского на Триумфальной, – сколько-нибудь приличной плиты нет! Так – невзрачная табличка, – и будет с него! Зато здесь же на кладбище, по соседству, стоит несколько работ знаменитого скульптора: памятники на могилах – драматурга Николая Федоровича Погодина (1900–1962), режиссеров братьев Васильевых, того же Маяковского и другие.
Философа М. Б. Митина за его верноподданническое служение официальной советской идеологии прозвали Мраком Борисовичем. А немедленно после смерти, в духе модных тогда перестроечных разоблачений, объявили «зловещей фигурой» и «Лысенкой философии». Но возникает вопрос вполне философский: достойно ли мстить могиле? История знает много примеров, когда недоброжелатели покойного вымещали свою ненависть на месте его упокоения – в разное время были целенаправленно разорены могилы Лжедмитрия I, Распутина, Столыпина и другие. Но неужели цивилизация так и не преодолела этих мародерских инстинктов?
Могила «Марка Борисовича» на Новодевичьем заросла многолетним густым бурьяном. О погребенном под этими джунглями сообщает лишь крошечная облезлая табличка, вроде тех, что втыкают в холмики на лагерных погостах. Вспомним, что здесь покоится академик АН СССР.
Первую могилу, которую видит всякий посетитель Новодевичьего, – поэта Николая Николаевича Асеева. Она находится у самого входа, по нечетной стороне аллеи. И тоже, кстати, «в озере». На монументе выбит год рождения поэта – 1899-й. На самом деле он родился на десять лет раньше. Многие годы, сколько стоит памятник, это недоразумение никто не исправляет, да и, кажется, не придает ему особенного значения.
На величественном монументе Сергею Алымову выбита строчка из его известного стихотворения «Россия». Но по какой-то причине там фривольно переставлены слова, причем эффект от написанного в значительной степени теряется. У Алымова в оригинале это звучит так: Россия вольная, страна прекрасная, Советский край, моя земля!
Есть на Новодевичьем, по крайней мере, одно захоронение… тайное. Вдове умершего поэта Николая Владимировича Шатрова (1929–1977) не позволили похоронить мужа на Новодевичьем, хотя у нее и имелся там родовой участок: не по заслугам-де! И тогда вдова, не регистрируя в кладбищенской конторе эти похороны, просто незаметно закопала, где следует, прах мужа и сделала на монументе соответствующую запись. На многие годы Шатров – настоящий большой поэт, которым восхищался Пастернак, – был незаслуженно забыт: советская критика находила «отсутствие социального оптимизма» в его поэзии и упрекала в упадничестве. Лишь в начале 1990-х Шатров был открыт заново. Эта заслуга принадлежит литературоведу и публицисту Льву Николаевичу Алабину, который принялся активно популяризировать Шатрова: писать о нем, публиковать в периодике его стихи и, в конце концов, пробудил интерес к поэту среди ценителей поэтического творчества. В последние годы в разных издательствах вышло несколько сборников стихотворений Шатрова. В 1971-м Шатров, словно предчувствуя свою посмертную судьбу, написал:
Развейте пепел – это тело,
Огонь душе не повредит,
Да и она сгореть хотела:
Сегодня быть не духом – стыд.
Писатель Евгений Ефимович Поповкин вошел в историю литературы не столько благодаря собственному творчеству, хотя его роман «Семья Рубанюк» и остается одним из лучших произведений о войне, сколько в заслугу за издание чужого текста. В 1966–67 годах, когда Поповкин был главным редактором журнала «Москва», он впервые опубликовал роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Нужно сказать, роман этот весьма сомнительных достоинств, но у молодых он пользуется некоторым успехом. Во всяком случае, «Мастер» сделался одним из самых издаваемых романов в последние десятилетия. И о Поповкине нет-нет, да и вспомнят, что это именно он дал популярному сочинению путевку в жизнь.

Могила автора «Мастера и Маргариты» – одна из наиболее почитаемых на кладбище. Но почтение, которое ей оказывают посетители, скорее вредит ее благоустройству, нежели идет на пользу: нигде больше на всем Новодевичьем так не вытоптана земля, как вокруг булгаковского камня. К тому же, камень, как можно судить, за многие годы ни разу не поправляли, – он завалился на спину, врос глубоко в землю и, как айсберг, едва возвышается над поверхностью.
Считается, что надгробие это стояло когда-то… на могиле Н. В. Гоголя в Даниловском монастыре.

Сейчас у Гоголя на Новодевичьем, так же, как и на прежнем месте, стоят два надгробия – большой гранитный саркофаг и новый черный крест на голгофе. Крест этот установлен совсем недавно, – многие годы на его месте на высоком постаменте – колонне с надписью: от Правительства Советского Союза, стоял белокаменный бюст, выполненный скульптором Н. В. Томским. Но прежде, еще в Даниловском монастыре, «в ногах» у Гоголя был установлен черный, грубо обтесанный, камень – «голгофа» с высоким крестом на вершине. Нынешнее надгробие выполнено как раз по его подобию. Но когда «от правительства» Гоголю был пожалован бюст на новую его могилу, старый камень за ненадобностью будто бы отволокли в гранильную мастерскую – авось пригодится для чего-нибудь.
Некоторые источники сообщают, что когда умер писатель Булгаков, его вдова, в поисках достойного памятника обожаемому супругу, заглянула и к каменотесам на Новодевичьем. Здесь, среди прочих бывших в употреблении надгробий, она вдруг, к изумлению своему, увидела старую гоголевскую «голгофу». Она якобы узнала ее по эпитафии – «Ей гряди Господи Иисусе». Смекнув, какое важное символическое значение приобретет этот камень на новом месте, вдова распорядилась положить его на могилу покойного мужа. Любопытно заметить, что узнала она камень не по выбитому на нем имени покойного, над которым он прежде стоял, а лишь по эпитафии.
Скорее всего, эта версия исходит от самой вдовы. Но, если сличить по старым фотографиям гоголевский камень с тем, что лежит теперь на могиле Булгакова, то, кажется, даже неспециалисту будет очевидно, что это вовсе не одно и то же: «голгофа» Гоголя была грушевидной формы – заостряющаяся к вершине, в то время как на булгаковской могиле лежит камень совсем других геометрических параметров – близкий, если уж сравнивать с плодами, к яблоку или картофелине. К пятидесятилетию со дня смерти Гоголя поклонники писателя украсили его надгробие новой деталью – в камне-«голгофе», ближе к вершине, было вырублено небольшое отверстие, лунка, для неугасимой лампады. Ее хорошо видно на фотографии в книге Саладина. Где такая лунка на камне, что лежит на могиле Булгакова? И уж тем более не может служить доказательством идентификации камня эпитафия. Это выражение – «Ей гряди Господи Иисусе» – встречалось на надгробиях в старину совсем нередко. Но, во всяком случае, байка, что-де на могиле Булгакова гоголевский памятник, так и прижилась.
Еще более изобретательно увековечила память мужа вдова поэта Владимира Александровича Луговского (1901–1957). Она разделила покойного на две неравные части и похоронила их в двух разных местах – в Москве и в Крыму.
Луговской очень любил Ялту. Он нередко говорил, что его сердце принадлежит чудному городу у моря. А жена, по всей видимости, эту фигуру речи – синекдоху, – образно передающую любовь мужа к экзотическому уголку, поняла буквально. Потому что когда он умер, жена распорядилась следующим образом. Эту потрясающую историю рассказал нам близко знавший Луговского поэт Евгений Рейн.
Вот, что сделала эта необыкновенная женщина. Она купила два ящика коньяку. С одним ящиком она явилась в мертвецкую и уговорила сторожа позволить ей вырезать у мужа сердце. Вырезать сердце! – легко сказать! – это же не локон с головы срезать. Но она смогла. Сама! Своими руками! Другой ящик пошел в уплату некоему крановщику, которого она подрядила посодействовать в ее бесподобной авантюре. При помощи мудреного агрегата была сдвинута в каком-то особенно любимом Луговским месте Ялты скала. Лихая вдовица положила под нее сердце мужа. И подельник аккуратно опустил скалу на место. Самый же труп Луговского обычным порядком отправился в Москву, где и был по чести похоронен на Новодевичьем. А в Ялте скала с сердцем поэта теперь одна из достодивностей города.
Еще одним из самых посещаемых писательских захоронений на Новодевичьем кладбище уже многие годы остается могила В. М. Шукшина. Известный артист Алексей Захарович Ванин снимался вместе с Шукшиным в фильмах «Калина красная» и «Они сражались за родину», он всегда рассказывает много интересного о Василии Макаровиче. По словам Ванина, смерть Шукшина была вовсе не случайна и, возможно, имела криминальный характер. Шукшин был для многих неудобен: некоторых очень раздражало его искусство, те ценности и идеалы, которые он проповедовал. Кстати, Ванин совершенно исключает популярную одно время версию, что якобы Шукшина извел Бондарчук на съемках фильма «Они сражались за родину». Действительно Шукшин вначале не хотел принимать участия в съемках у Бондарчука, потому что тот в свое время нелестно отзывался о его «Калине». Но уже когда он все-таки согласился, и началась работа, отношения у них установились исключительно доброжелательные. Больше того, как рассказывает Алексей Ванин, Василий Макарович замечательно себя чувствовал, даже поправился. Курил, правда, неумеренно. И его скоропостижная смерть стала для всех совершенным шоком.
Даже похороны Шукшина стали свидетельством некой закулисной игры, каких-то интриг против него. Кто-то распорядился похоронить его на Введенском кладбище – далеко не самом престижном в Москве. И там уже была выкопана могила. Тогда к самому Брежневу обратился Михаил Шолохов. Он просил посодействовать похоронить крупнейшего деятеля культуры в каком-нибудь более соответствующем его величине месте. Брежнев очень любил фильм «Живет такой парень», и, узнав, что автор любимой картины и есть этот самый Шукшин, лично распорядился похоронить его на Новодевичьем.
Разумеется, помимо писателей, на Новодевичьем похоронено много и другой творческой и научной интеллигенции. Список одних только ученых – академиков, профессоров, лауреатов, – по длине не уступит писательскому. Назовем лишь немногих: психиатр Владимир Петрович Сербский (1858–1917), хирурги – Алексей Васильевич Мартынов (1868–1934), Александр Васильевич Вишневский (1874–1948), Николай Нилович Бурденко (1876–1946), Александр Александрович Вишневский (1906–1975), авиаконструкторы – Николай Николаевич Поликарпов (1892–1944), Семен Алексеевич Лавочкин (1900–1960), Михаил Леонтьевич Миль (1909–1970), Андрей Николаевич Туполев (1888–1972), Николай Ильич Камов (1902–1973), Сергей Владимирович Ильюшин (1894–1977), Александр Сергеевич Яковлев (1906–1989), конструктор ракетно-космической техники Михаил Кузьмич Янгель (1911–1971), Георгий Николаевич Бабакин (1914–1971), Владимир Николаевич Челомей (1914–1984), геологи – Иван Михайлович Губкин (1871–1939), Владимир Афанасьевич Обручев (1863–1956), географ и полярник Иван Дмитриевич Папанин (1894–1986), биолог Владимир Иванович Вернадский (1863–1945), химик Николай Дмитриевич Зелинский (1861–1953), математик и геофизик Отто Юльевич Шмидт (1891–1956), физики – Сергей Иванович Вавилов (1891–1951), Лев Давыдович Ландау (1908–1968), Игорь Евгеньевич Тамм (1895–1971), Петр Леонидович Капица (1894–1984), Николай Николаевич Семенов (1896–1986), Яков Борисович Зельдович (1914–1987), историк Евгений Викторович Тарле (1874–1955), языковед Сергей Иванович Ожегов (1900–1964), философ Бонифатий Михайлович Кедров (1903–1985).

Надгробие на могиле Надежды Аллилуевой

Автонадгробие скульптора М. Г. Манизера
На камнях Новодевичьего то и дело встречаются знакомые имена художников, скульпторов и архитекторов: Николай Андреевич Андреев (1873–1932), Владимир Григорьевич Шухов (1853–1939), Иван Дмитриевич Шадр (1887–1941), Алексей Викторович Щусев (1873–1949), Сергей Дмитриевич Меркуров (1881–1952), Вера Игнатьевна Мухина (1889–1953), Иван Владиславович Жолтовский (1867–1959), Константин Федорович Юон (1875–1958), братья Веснины: Леонид Александрович (1880–1933), Виктор Александрович (1882–1950), Александр Александрович (1883–1959), Дмитрий Стахиевич Моор (1883–1946), Владимир Евграфович Татлин (1885–1953), Каро Семенович Алабян (1897–1959), Игорь Эммануилович Грабарь (1871–1960), Александр Михайлович Герасимов (1881–1963), Георгий Иванович Мотовилов (1884–1963), Владимир Андреевич Фаворский (1886–1964), Матвей Генрихович Манизер (1891–1966), Павел Дмитриевич Корин (1892–1967), Сергей Тимофеевич Коненков (1874–1971), Евгений Викторович Вучетич (1908–1974), Борис Михайлович Иофан (1891–1976), Дмитрий Николаевич Чечулин (1901–1981), Николай Васильевич Томский (1900–1984), Александр Дмитриевич Корин (1895–1986), Лев Ефимович Кербель (1917–2003).
Работы некоторых из похороненных на Новодевичьем скульпторов стоят здесь же – на кладбище. Это очень удобно: можно не только навестить могилу скульптора, но и познакомиться с образцами его творчества. О надгробных монументах А. П. Кибальникова мы уже вспоминали. Кроме того, на кладбище стоят памятники Максиму Алексеевичу Пешкову (1898–1934) и Л. В. Собинову, выполненные В. И. Мухиной; Вс. В. Вишневскому и О. Ю. Шмидту работы С. Т. Коненкова; Надежде Сергеевне Аллилуевой (1901–1932), Владимиру Леонидовичу Дурову (1863–1934) – И. Д. Шадра; надгробие А. Н. Толстого – скульптора Г. И. Мотовилова; бюст Н. В. Гоголя – скульптора Н. В. Томского.
С. Д. Меркуров еще в 1912 году вылепил романтическую скульптуру «Икар». Многие годы работа простояла в мастерской Меркурова, не попав ни в музей, ни украсив городского пейзажа. Когда же умер H.H. Поликарпов и потребовалось соответствующее славе покойного надгробие, Меркуров передал родственникам известного авиаконструктора своего давнишнего «Икара». Сейчас это один из памятников – «визитных карточек» Новодевичьего кладбища.

Ю. Б. Левитан
На могилах некоторых скульпторов стоят копии их же собственных произведений. Памятник С. Т. Коненкову – это его знаменитый «Автопортрет», за который скульптор был удостоен Ленинской премии в 1957 году. Скульптурная группа из двух аллегорических фигур – мужской и женской, – установленная над могилой М. Г. Манизера, исполнена по его же образцу. Надгробие Л. Е. Кербеля – уменьшенная копия его «Пьеты» в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.
На кладбище также стоит несколько памятников работы здравствующего Э. И. Неизвестного: Н. С. Хрущеву, Л. Д. Ландау, писательнице Галине Евгеньевне Николаевой (1911–1963).
Особый раздел Новодевичьего некрополя – артисты, режиссеры, музыканты. Возможно, они составляют самый длинный список. Одних надгробий с мхатовской чайкой здесь насчитается не один десяток. Вот только совсем уж немногие: артисты и режиссеры – Евгений Багратионович Вахтангов (1883–1922), Владимир Леонидович Дуров (1863–1934), Константин Сергеевич Станиславский (1863–1938), Василий Иванович Качалов (1875–1948), Сергей Михайлович Эйзенштейн (1898–1948), Всеволод Илларионович Пудовкин (1893–1953), Николай Павлович Охлопков (1900–1967), Иван Александрович Пырьев (1901–1968), Михаил Ильич Ромм (1901–1971), Борис Николаевич Ливанов (1904–1972), Борис Андреевич Бабочкин (1904–1975), Вера Петровна Марецкая (1906–1978), Борис Петрович Чирков (1901–1982), Григорий Васильевич Александров (1903–1983), Юрий Борисович Левитан (1914–1983), Игорь Владимирович Ильинский (1901–1987), Анатолий Дмитриевич Папанов (1922–1987), Людмила Васильевна Целиковская (1919–1992), Николай Афанасьевич Крючков (1910–1994), Иннокентий Михайлович Смоктуновский (1925–1994), Евгений Павлович Леонов (1926–1994), Евгений Семенович Матвеев (1922–2003), Георгий Степанович Жженов (1915–2005), Татьяна Ивановна Шмыга (1928–2011); музыканты и певцы – Леонид Витальевич Собинов (1872–1934), Александр Васильевич Александров (1883–1946), Сергей Сергеевич Прокофьев (1891–1953), Борис Андреевич Мокроусов (1909–1968), Вано Ильич Мурадели (1908–1970), Максим Дормидонтович Михайлов (1893–1971), Лидия Андреевна Русланова (1900–1973), Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906–1975), Сергей Яковлевич Лемешев (1902–1977), Клавдия Ивановна Шульженко (1906–1984), Иван Семенович Козловский (1900–1993), Святослав Теофилович Рихтер (1915–1997), Георгий Васильевич Свиридов (1915–1998), Альфред Гарриевич Шнитке (1934–1998), Никита Владимирович Богословский (1913–2004), Мстислав Леопольдович Ростропович (1927–2007).

Застывшая музыка. Надгробие А. Г. Шнитке
С недавнего времени у Новодевичьего появился филиал на окраине Москвы – Кунцевское (Сетуньское) кладбище. Поэтому похороны на «головной» территории стали теперь довольно-таки редкими. Но тем пристальнее внимание общественности к таким похоронам. Кого бы теперь здесь ни похоронили, то и дело слышатся возгласы: ну разве этот достоин Новодевичьего?! не могли уж его куда попроще! хорошо заплатили, наверное! Но с годами отношение к могилам меняется. Можно вспомнить, – какое почтение оказывали на первых порах хрущевскому захоронению! Теперь же его улыбающаяся круглая голова никаких эмоций у посетителей, кроме ответной улыбки, не вызывает. Потому что забываться стал этот деятель. Легенду о том, как он ботинком стучал в Объединенных Нациях, или как кукурузу в Заполярье сеял, люди худо-бедно еще помнят, – это интересно, забавно! А вот менее занятные подробности, – как, например, запретив иметь личное хозяйство, он разорил российское крестьянство, как, в результате, в стране хлеб впервые за всю историю оказался в дефиците, – такие подробности, естественно, забываются. Такая же точно судьба ждет и прочих покойных на Новодевичьем, к которым отношение пока, мягко говоря, неоднозначное, – со временем в памяти людей останутся лишь всякие связанные с ними забавности.