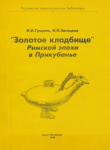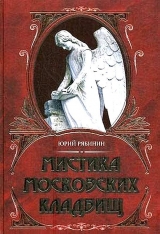
Текст книги "Мистика московских кладбищ"
Автор книги: Юрий Рябинин
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 34 страниц)
Всем, наверное, памятен фильм «Мертвый сезон» с Донатосом Банионисом в главной роли. О таких фильмах говорят: когда их показывают, с улиц исчезает народ, – все спешат к телевизору. У героя Баниониса был вполне реальный прототип, который, кстати, и непосредственно консультировал фильм, – это Конон Трофимович Молодый. В фильме есть очень напряженный и запоминающийся эпизод обмена на каком-то пограничном мосту нашего разведчика, захваченного вражескими спецслужбами, на его коллегу, из тех же, по-видимому, спецслужб, раскрытого и обезвреженного доблестными советскими чекистами. Этот эпизод в точности передает сцену обмена К. Т. Молодого на английского шпиона Винна в 1964 году в Западном Берлине. Винн был подельником Пеньковского – получал от него секретную информацию и передавал ее своим. Так они вдвоем и провалились. Только что один из подельников поехал на запад, в Донской крематорий – другой.
После Великой Отечественной, которую он прошел фронтовым разведчиком, К. Т. Молодый был «легализован», как говорится на профессиональном чекистском языке, в США. Там он стал заместителем советского резидента Рудольфа Абеля, нынешнего своего соседа по кладбищу. (Их могилы находятся совсем рядом, на одном участке: Абеля в первом ряду у дорожки, а Молодого – позади шефа, где-то ряду в третьем). Но пик профессиональной деятельности К. Т. Молодого пришелся на конец 1950-х, когда он работал в Великобритании. Там он добывал сведения о королевском флоте и о военных планах НАТО. И его деятельность была столь успешной, что у британского флота решительно не оставалось секрета, которого не знали бы в Советском Союзе. К. Т. Молодый действовал в тылу НАТО довольно долго, и все-таки, в конце концов, его арестовали и приговорили к двадцати годам лагерей. Но спустя три года, как уже говорилось, он по обмену специалистами оказался на родине.
Наверное, от одного имени Павла Анатольевича Судоплатова украинским сепаратистам никогда уже не будет спокойно спаться, настолько большую пользу он принес России. После гражданской войны, в которой Судоплатов успел поучаствовать еще чуть ли не ребенком, он поступил на службу в НКВД. Павел Анатольевич с детства великолепно знал мало-российское наречие и в конторе, само собою, стал специализироваться по проблеме украинского сепаратизма. А впоследствии был отправлен на нелегальную работу за границу. И вот там-то он совершил первый и главный, может быть, подвиг в своей жизни. Он лично ликвидировал лидера украинской анти-российской эмиграции Евгения («Евгена») Коновальца. Во время петлюровщины этот Коновалец прославился жестоким подавлением восстания рабочих киевского Арсенала. За что был приговорен Верховным судом УССР к казни. Исполнить приговор поручили Судоплатову.
Войдя каким-то образом в доверие к украинской эмиграции, Судоплатов добился встречи с Коновальцем. Но пришел к нему в гости не с пустыми руками. По украинскому обычаю он принес в подарок большую коробку шоколадных конфет. Никаких конфет, разумеется, там не было, – в коробке находилось взрывное устройство. Самым сложным в этой операции было не позволить Коновальцу немедленно наброситься на конфеты. Уж как там отвлекал его Судоплатов, неизвестно, но, во всяком случае, коробку Коновалец открыл лишь когда гость вышел. Судоплатов писал потом в воспоминаниях, что он недалеко отошел от квартиры Коновальца, как раздался хлопок, будто шина автомобильная лопнула. Недолго же лакомка позволил коробке оставаться непочатой. Это произошло в Роттердаме 23 августа 1938 года. День этот вполне заслуживает, чтобы его отмечали как одну из победных дат российской истории. И даже убийство Троцкого, организованное Судоплатовым спустя два года совместно со своим заместителем Наумом Эйтигоном, представляется событием менее значительным: если сравнивать, кто был опаснее в то время для целостности России, то, конечно, отживший свое Троцкий не идет ни в какое сравнение с Коновальцем. За операцию в Роттердаме Судоплатов получил орден Красного Знамени.
Колоссальную по объему работу проделал Судоплатов во время Великой Отечественной войны. В те годы он уже был заместителем начальника первого отдела НКВД – разведки. На этом посту он руководил всем движением сопротивления на оккупированных германскими войсками территориях – партизанами, подпольщиками, разведчиками, диверсантами. При его непосредственном участии был подготовлен и заброшен к немцам в тыл легендарный Николай Кузнецов.
После войны Судоплатов возглавлял борьбу все с теми же сепаратистами – так называемыми бендеровцами – на юго-западе России.

П. А. Судоплатов
А после 1953 года Павел Анатольевич попал в опалу. Его обвинили в сотрудничестве и пособничестве Берия, причем сняли генерал-лейтенантский чин, лишили всех наград и положили пятнадцать лет лагерей. Отсидел Судоплатов все пятнадцать лет, как один день. Рассказывают, что в 1967 году группа чекистов-ветеранов обратилась к Брежневу скостить в честь 50-летия органов ВЧК – КГБ заслуженному чекисту, участнику Гражданской и герою Великой Отечественной, хотя бы последний год отсидки. Брежнев ответил им коротко: не лезьте не в свое дело! Получилось так, что срок Судоплатову вышел аккурат накануне 30-летия его роттердамского подвига, – он вышел на свободу 21 августа 1968 года. Кстати, в этот самый день вступила в действие знаменитая «доктрина Брежнева»: Советский Союз не позволил отложиться одному из своих сателлитов – была оказана братская помощь попавшей в беду маленькой Чехословакии.
В последние годы существования советского строя Судоплатов находился на покое – писал воспоминания. В августе 1991-го, за несколько дней до крушения этого строя, он направил заявление в ЦК КПСС с просьбой восстановить его в партии: хочу, де, быть со своей партией в трудные для нее времена. Его заявление никто и рассматривать не стал, – там уже все собирали вещи.
И вот еще один парадокс истории: реабилитирован Судоплатов был в 1992 году, когда в стране установились порядки, против которых он всю жизнь боролся. Ему возвратили чин, и хотя бы в конце жизни он успел попользоваться своей генеральской пенсией. Ордена же ему вернули лишь посмертно.
Могила П. А. Судоплатова находится в противоположном от Молодого и Абеля конце кладбища – почти у самой южной стены, вблизи кладбищенской конторы. На довольно скромной гранитной плите написана лишь фамилия покойного с инициалами и годы его жизни. Такое впечатление, что могила Судоплатова насколько возможно законспирирована. Будто спрятана от глумления каких-нибудь новых коновальцев. И, конечно, эта типовая черная плита и все эти меры конспирации не достойны его памяти. Могила величайшего русского национального героя все-таки должна быть оформлена как-то иначе.
В 2005 году на могилу Судоплатова был возложен большой, в человеческий рост, венок с надписью на ленте: Русский коммерческий банк. Оказывается, и среди процентщиков есть люди, для которых слава России имеет какое-то значение.
По слухам, в школе КГБ есть специальный урок – экскурсия на Донское кладбище. Молодым чекистам здесь показывают могилы их героических коллег-предшественников и рассказывают об их подвигах.
Кстати, упомянутый Наум Исаакович Эйтингон (1899–1981) похоронен неподалеку от шефа, здесь же на новом Донском.
Очень много на новом Донском похоронено деятелей культуры. Иногда здесь можно сделать просто-таки неожиданное открытие. В энциклопедии «Москва» написано, что звезда сцены и кино 1930–70-х годов Фаина Георгиевна Раневская похоронена на Новодевичьем кладбище. Не тут-то было. Ее могила здесь – на Донском. Рядом с П. А. Судоплатовым. Кажется, ее вообще никогда не интересовал престиж по-советски. У нее было несколько орденов, которые она не носила, а держала в коробочке с надписью «Похоронные принадлежности». Конечно, когда авторы «Москвы» писали о ней статью, они и мысли не допускали, что великая актриса может быть похоронена где-либо, кроме Новодевичьего, а проверить не удосужились. А она завещала, чтобы ее похоронили на Донском, там, где уже покоилась ее сестра.
Среди сотен мраморных досок, закрывающих ниши с урнами по длинной кладбищенской стене, есть ничем не примечательная дощечка с малоинформативной надписью: Константин Митрейкин. 1905–1934. Этот человек, наверное, вообще не сохранил бы о себе никакой памяти, если бы Маяковский в поэме «Во весь голос» не упомянул некоего «кудреватого Митрейку», поэта-графомана, с его точки зрения. И действительно, вместе с сотнями таких же незначительных сочинителей стихов, он практически выпал из поля зрения даже специалистов. Выпустивший недавно большую антологию поэзии Евгений Евтушенко поместил туда и несколько строчек из его сочинений. И в примечаниях написал, что место захоронения Митрейкина неизвестно. Но не всем, впрочем, не известно. Некоторые знают, что Константин Митрейкин тут – в стене Донского кладбища.
Рядом с Митрейкиным стоит невысокий камень розового гранита с размашистой надписью: 1891–1956 РОДЧЕНКО Александр Михайлович. Этого довольно нашумевшего в свое время дизайнера и художника-авангардиста тоже вспоминают теперь чаще всего в связи с Маяковским: они вместе с ним входили в т. н. левый фронт искусств – ЛЕФ. В одной могиле с Родченко похоронена и его жена – художница-авангардистка Варвара Федоровна Степанова (1894–1958).

Ниша с прахом поэта Константина Митрейкина

Могила художников А. М. Родченко и В. Ф. Степановой
Вблизи Серафимовской церкви стоит деревянный крест с пластмассовой табличкой: Пригов Дмитрий Александрович 05.XI.1940–16.VII.2007. Крупнейший поэт-авангардист Д. А. Пригов – один из немногих известных современных литераторов, родившихся в Москве. Странным образом, среди писателей коренных москвичей – единицы. Пригов нередко подчеркивал свое столичное происхождение. Например, таким образом: «В Америке я обнаружил, что Пушкин – великий негритянский поэт. На одном приеме ко мне подошла негритянская поэтесса и, проведав о моей русскости, поведала о своей любви к Пушкину. Я отвечал, что тоже немало его уважаю. Да? – спросила она, – а вы лично его знаете? Я отвечал, что нет, так как проживаю в Москве, а он, в основном, житель Питера».

Могила Д. А. Пригова
По дорожке, что проходит вдоль монастырской стены, можно повстречать несколько знакомых имен. Прежде всего, в самой стене не может не привлечь внимание дощечка, на которой написано: Вильгельм Либкнехт 1901–1975. Под этой дощечкой покоится урна с прахом сына основателя германской компартии и внука основателя СДПГ, соответственно – Карла и Вильгельма Либкнехтов. А по краям дорожки попадаются памятники с именами – Евгений Аронович Долматовский (1915–1994), Юрий Владимирович Идашкин (1930–1997), Лев Зиновьевич Копелев (1912–1997).

Могила поэта Евгения Долматовского
Е. А. Долматовский в представлении, как говорится, не нуждается. Его стихи о войне, и особенно «Песня о Днепре», «Моя любимая», стали классикой. Правильно иногда говорят, что такая поэзия приблизила победу.
Критик Ю. В. Идашкин гораздо менее известен, но, по-своему, не менее интересен. В 1960–70-е годы он работал в журнале «Октябрь» у В. А. Кочетова. В то время считалось – работать у Кочетова, в его «цитадели политической реакции и консерватизма», значит прослыть верноподданным лакеем режима. Хотя на самом деле это абсолютно несправедливое мнение. В те же годы в «Октябре» работал Владимир Емельянович Максимов, которого ни верноподданным, ни лакеем уж никак не назовешь. Максимов об этом лицемерном отношении к «Октябрю» некоторых «прогрессивных либералов» так писал: «… И правые, и левые, и прогрессисты, и реакционеры кичились одними и теми же совдеповскими регалиями, получали одни и те же роскошные квартиры на Котельнической набережной и даровые дачи в Переделкине, насыщались одной и той же дефицитной жратвой и марочными напитками из закрытых распределителей, свободно ездили, когда и куда им вздумается. В известном смысле ортодоксы были даже предпочтительнее, потому что отрабатывали свои блага с циничной откровенностью, не нуждаясь в высокоумных, а, по сути, жалких объяснениях причин своего привилегированного положения».
В романе «Прощание из ниоткуда» Максимов рассказывает о первой своей встрече с Идашкиным в кабинете Кочетова: «В щель внезапно приотворенной двери ввинтилась круглая с залысинами голова: «Всеволод Анисимович, разрешите?» Кочетовское лицо сразу обмякло, посерело, осунулось: «А, это ты, Юрий Владимирович, заходи, знакомься, это и есть гроза тайги и тундры – Самсонов, бери его к себе, оформляй соглашение, повесть ставим в девятый». И мгновенно уткнулся в рукопись перед собой, сразу выключив присутствующих из сферы своего внимания… «Идашкин Юрий Владимирович, – шепотной скороговоркой представился Владу тот, увлекая его к выходу. – Ответственный секретарь редакции». Самсонов – это настоящая фамилия В. Е. Максимова.
Идашкин писал монографии преимущественно на тему подвига в советской литературе: «Литература великого подвига» (1970), «Истоки подвига» (1973), «Постижение подвига: Рассказы о творчестве Ю. Бондарева» (1980) и «Грани таланта: О творчестве Ю. Бондарева» (1983).

Могила Л. З. Копелева
Лев Копелев, так же, как и Юрий Идашкин, остался бы известен лишь специалистам, как малозначительный литератор, если бы не сделался прототипом одного из главных героев романа Солженицына «В круге первом» – Льва Рубина, лингвиста, принимающего участие в разработке в спецтюрьме № 1 МГБ – т. н. шарашке – переговорного аппарата, вначале кодирующего, а затем воспроизводящего человеческую речь. На самом деле в шарашке, где сидели вместе Солженицын и Копелев, создавали, как тогда это называлось, «полицейское радио», или, попросту говоря, радиотелефон, – детская игрушка, по нынешним временам. Освободившись, Копелев занимался литературой, – у него выходили книги в серии ЖЗЛ. Затем эмигрировал. И последние годы жил в Германии. За что уж он так почитался в Германии – неизвестно, но когда хоронили пепел, оставшийся от Копелева, на Донском присутствовало все германское посольство во главе с их превосходительством господином послом.

Монумент на могиле Бориса Брянского и Саши Красного
По левой дорожке, ведущей от бывшего крематория к воинскому мемориалу, стоит величественный монумент – большая черная плита с надписью Поэт Борис Брянский. И тут же, под этим камнем, покоится другой поэт, отец первого – А. Д. Брянский, известный больше под псевдонимом Саша Красный. Этот Саша Красный, скончавшийся в 1995-м, безусловно, войдет, и уже вошел, в историю литературы: он умер на 114-м (!) году, установив рекорд продолжительности жизни среди писателей.

«Литературная» стена Нового Донского кладбища
А слева от входа на кладбище, в стене, покоится прах драматурга Якова Петровича Давыдова-Ядова (1884–1940). Вряд ли теперь кто-то помнит самого драматурга и его драматургию. Но вот одно его произведение стало, как говорится, народным и, наверное, проживет ровно столько, сколько будут жить сама русская культура. Это слова к песне «Купите бублички». Он же автор слов и другой довольно известной песни – «Любушка» («Нет на свете краше нашей Любы»), которую долго исполнял популярнейший в свое время певец Вадим Козин.
Похоронены на новом Донском также – писатель Василий Павлович Ясенев (Краснощеков, 1902–1937); основоположница детского кинематографа Маргарита Александровна Барская (1903–1939); поэт «серебряного века» Константин Абрамович Липскеров (1889–1954); писатель Николай Иванович Замошкин (1896–1960); певица, исполнявшая песни народов мира на шестидесяти языках Ирма Петровна Яунзем (1887–1975), – она впервые исполнила песню Михаила Исаковского «В лесу прифронтовом»; писатель Борис Савельевич Ласкин (1914–1983); основательница и многолетний директор библиотеки Иностранной литературы Маргарита Ивановна Рудомино (1900–1990). У восточной стены на невысокой гранитной плите выбито: Воин, писатель Кочетков Гений Петрович Геннадий 1923–2006. Понимай, как знаешь… Впрочем, в семье всякий собственный писатель – гений. Это понятно.
Справа от Серафимовского храма, у стены колумбария, стоит стела чистого белого мрамора, увенчанная очаровательной девичий головкой. На стеле надпись: Народная артистка России Изабелла Юрьева 1899–2000. Королева русского романса. Изабелла Даниловна Юрьева была настоящим кумиром публики. Расцвет ее творчества пришелся на эпоху патефона. Тогда в стране не было ни одного патефона, который бы не пел голосом Юрьевой. И хотя она вполне могла бы петь до глубокой старости, – неугомонный Иосиф Кобзон на радость публике заставил Изабеллу Даниловну взять пару нот на ее столетнем юбилее! – эпоху радиол и магнитофонов Юрьева, тем не менее, почему-то уже не приняла.

Надгробие Изабеллы Юрьевой
Вся история XX века представлена на новом Донском. По захоронениям здесь можно выстроить подробнейший рассказ об эпохе – от первых политкаторжан до возвратившегося из эмиграции советского диссидента, ученого и поэта Кронида Любарского (1934–1996), от зачинателей отечественной авиации до создателя космического корабля «Буран», академика Глеба Евгеньевича Лозино-Лозинского (1909–2001). Что ни захоронение, то повод вспомнить какую-нибудь байку о советском режиме.

Могила Г. Е. Лозино-Лозинского
Вот, например, слева от памятника разведчику К. Т. Молодому – могила Бетти Николаевны Глан (1903–1992). Она была когда-то директором ЦПКиО им. А. М. Горького. Однажды ей позвонили из Кремля и сказали, что товарищ Сталин сегодня посетит парк. И объявили, во сколько именно он приедет. Бетти Николаевна решила, что к этому времени она успеет сходить в парикмахерскую, – не могла же она предстать перед любимым вождем с куафюрой, не убранной по высшему разряду. Но Сталин приехал раньше и директора парка на работе не застал. В результате к Бетти Николаевне была применена следующая мера пресечения: она получила срок из расчета: час отсутствия на работе – год присутствия в лагере. А в ЦПКиО с тех пор завелась традиция, которую там свято соблюдают по сей день, – в рабочее время директора парка всегда можно застать на службе.
На новом Донском еще похоронены родители М. В. Келдыша, отец Н. И. Бухарина – Иван Гаврилович (кстати, Бухарины жили не так далеко от этого кладбища – на Ордынке), жена В. И. Чапаева – Пелагея Васильевна Чапаева, жена H.A. Щорса – Фрума Ефимовна Ростова-Щорс, жена наркома внутренних дел Николая Ежова, из-за которого печи Донского крематория до срока выработали ресурс, – Евгения Соломоновна Хаютина, историк Москвы Петр Васильевич Сытин, художественный руководитель Еврейского камерного театра Соломон Михайлович Михоэлс, популярная в 1960-е годы певица Майя Владимировна Кристалинская.
В конце 1990-х годов квадратная башня осиповского крематория была разрушена, а над зданием поднялся пирамидальный купол с крестом. Траурный «мокрого бетона» цвет сменил веселенький розовый. В бывшем зале прощания, вместо органа теперь алтарь, а там, где находился постамент с лифтовым механизмом, опускающим гроб к печи, теперь выступает солея. Но самое потрясающее, что в храме в неприкосновенности сохранился весь колумбарий. Он лишь прикрыт легкими временными перегородками. Жуткая картина, по правде сказать. Храм-колумбарий. Такой эклектики еще не знала мировая архитектура. Конечно, об этом говорить уже несвоевременно, но лучше было бы сохранить крематорий проекта Осипова. Он уже давно сделался памятником архитектуры и истории. Но если уж решили на этом теперь отнюдь не православном и не русском кладбище восстанавливать храм, то восстанавливать его надо уже до конца, а не наполовину. А всех, кто там похоронен, поместить в новое соответствующее помещение. Но такое впечатление, что еще не решено окончательно, чем же, в конце концов, будет это здание – храмом или все-таки колумбарием?
Кладбище в награду
Новодевичье кладбище
Кажется, нет во всем мире больше такого кладбища, кроме московского Новодевичьего, оказаться на котором многие нацеливаются задолго до смерти. Только у нас в стране успешная карьера составляется из таких вех – должность, звание, орден, премия и… кладбище. Этим порядкам, установившимся в советское время, нисколько не изменили и нынешние «россияне».
Новодевичье – это признание, подтверждение, каких-то необыкновенных способностей, выдающихся заслуг. Причем иногда только могила на Новодевичьем и является важнейшей вехой в карьере: человек при жизни мог не совершить ничего такого выдающегося, но если он каким-то образом, какими-то неправдами, оказался в этом пантеоне, попал в один ряд с великими, то, следовательно, он обессмертил свое имя наравне с ними.
Поэтому право на Новодевичье нередко завоевывается в результате неких закулисных игр. Так было и прежде. А в наше время оно тем более является предметом торга между отдельными людьми или между гражданином и властью. Это право иногда по формальным причинам остается недоступным для людей, по-настоящему достойных. Например, когда умер популярный в 1930–1940-е артист Петр Мартынович Алейников (1914–1965), любимец миллионов, но не дослужившийся, тем не менее, до звания «народного», его, естественно, собирались похоронить на каком-то вполне приличном московском кладбище, но только не на Новодевичьем. Тогда его друг народный артист Борис Андреев сказал: коли Алейникову Новодевичье не по чину, то он уступает ему там свое место! Алейникова действительно похоронили на Новодевичьем. Благородный же поступок Андреева не забылся, – в свое время он так и довольствовался кладбищем рангом ниже.
Но бывает, что на Новодевичье пробираются личности, которым главный государственный некрополь, очевидно, не по заслугам: какие-нибудь сомнительной славы политические деятели или средних способностей журналисты, у которых, однако же, на этом свете остались выгодные связи, могущественные ходатаи. Таких могил здесь всегда появлялось немало – и в прежние времена, и в нынешние.
И все-таки Новодевичье – это преимущественно кладбище настоящей национальной элиты. Сколько бы ни было здесь покойных «со связями», не они составляют славу Новодевичьего. Какие бы почетные места они здесь ни занимали, какие бы величественные надгробия над их костями ни стояли, все равно по гамбургскому счету всем известно, чего они стоят. И это даже неплохо, что они попали на Новодевичье, – благодаря им заметнее делается значение истинно заслуженных их соседей.
На «старой» территории Новодевичьего кладбища, на углу двух дорожек, стоит монумент, на котором написано: Герой Труда профессор архитектуры Иван Павлович Машков. 14. I. 1867–12.VIII. 1945. Могила архитектора огорожена невысоким гранитным бордюром, причем на угловом камне сделана надпись: По проекту Машкова сооружено это кладбище 1904 г.
Так с этого, задокументированного в камне, года и отсчитывается теперь возраст Новодевичьего кладбища. Но нужно заметить, что дата официального учреждения большинства московских кладбищ почти никогда не соответствовала времени появления на этом месте первых захоронений. Как правило, хоронили там еще до того.
На Новодевичьем довольно много могил, датированных до 1904 года, – вплоть до начала XIX века. Но по ним нельзя судить о возрасте кладбища, – чаще всего, эти захоронения были сюда откуда-то перенесены.
В советское время на Новодевичье переносили останки знаменитых покойных практически со всей Москвы. Обычно это делалось, когда некоторые кладбища закрывались и ликвидировались. Но в иных случаях останки переносили сюда лишь потому, что какой-то очень мудрый и, очевидно, очень высокопоставленный советский некрополист выразил мнение о нежелательности знаменитым могилам находиться в рассеянии по всей столице. И тогда отдельных заслуженных покойных стали перезахоранивать на Новодевичье даже с кладбищ, действующих и поныне.
С ликвидированных кладбищ на Новодевичье в разные годы, преимущественно в 1930-е, были перенесены многие захоронения: с Симоновского – Дмитрия Владимировича Веневитинова (1805–1827), Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859), Константина Сергеевича Аксакова (1817–1860), с Даниловского монастырского – Николая Михайловича Языкова (1803–1846), Николая Васильевича Гоголя (1809–1852), Алексея Степановича Хомякова (1804–1860), Николая Григорьевича Рубинштейна (1835–1881), с соседнего Новодевичьего монастырского – Льва Ивановича Поливанова (1838–1899), Антона Павловича Чехова (1860–1904), Александра Ивановича Эртеля (1855–1908), с Дорогомиловского – художника Исаака Ильича Левитана (1860–1900), композитора Ильи Александровича Саца (1875–1912), профессора этнографии Веры Николаевны Харузиной (1866–1931), профессора – биолога Еллия Анатольевича Богданова (1872–1931) и других.
С сохранившихся кладбищ сюда также переносили захоронения: с Даниловского – Сергея Михайловича Третьякова (1834–1892) и Павла Михайловича Третьякова (1832–1898), с Ваганьковского – Ивана Михайловича Сеченова (1829–1905), с Донского монастырского – Сергея Ивановича Танеева (1856–1915), с нового Донского – Валентина Александровича Серова (1865–1911), Владимира Владимировича Маяковского (1893–1930), с Владыкинского приходского – Марию Николаевну Ермолову (1853–1928). И другие. В 1960 году из Новгородской области, с погоста деревни Ручьи, были перенесены на Новодевичье останки «Председателя Земного Шара», революционера поэзии, «поэта для поэтов», как говорил о нем Маяковский, Велимира Хлебникова (Виктора Владимировича, 1885–1922). В 1966-м из Англии в Москву были доставлены и захоронены на Новодевичьем останки Николая Платоновича Огарева (1813–1877). А в 1984-м здесь был предан московской земле Федор Иванович Шаляпин (1873–1938), – умер он в эмиграции – в Париже, и сорок шесть лет покоился на кладбище Батиньоль.
Но есть на Новодевичьем несколько могил, – людей, очевидно, безвестных и умерших до 1904 года, – о которых судить наверно – перенесли ли их благодетельные родственники откуда-то, или они появились здесь «до основания» кладбища? – судить об этом уже практически невозможно.
Самая ранняя, как принято считать, здешняя могила, которую уже точно ниоткуда на Новодевичье не переносили, находится неподалеку от монастырской надвратной Покровской церкви. На неплохо сохранившемся камне написано: Сергей Гаврилович Вавилов. Сконч. 26 февраля 1904 г. на 48 году жизни. Московский мещанин Гончарной слободы.
Скорее всего, архитектор И. П. Машков построил кладбищенскую стену не до февраля 1904 года, а после. Наверное, – летом, когда и тепло, и день подольше. Следовательно, огораживали уже существующие захоронения. Не один же мещанин из Гончарной слободы там покоился.
Современное Новодевичье кладбище состоит из трех территорий. Самая ранняя, примыкающая непосредственно к южной монастырской стене, была огорожена И. П. Машковым, как уже говорилось, в 1904 году. В 1950-е кладбище существенно увеличилось за счет присоединения к нему с юга равной приблизительно по площади «новой» территории. Наконец, в 1980-е Новодевичье еще немного раздвинулось, – небольшой клочок был прирезан на этот раз с запада.
Любопытно! – на старых картах между машковской стеной и линией Окружной железной дороги изображено озерцо, – неширокое, но довольно длинное – саженей сто пятьдесят. Значит практически весь «новый» участок прежде был занят водой. Нынешние могильщики рассказывают: когда они копают здесь могилу, то даже в засушливые годы на дне в ней набирается вода, а уж в дождливые, если не поторопиться опустить гроб и забросать его землей, – могила наполнится чуть ли не до краев. В октябре 2004-го на «новом» участке хоронили дочь известного летчика Коккинаки. Могилу для нее вырыли странным образом с юга на север на самой дорожке между рядами памятников, – иначе никак не получалось. Но еще более странно выглядели еловые ветки, которыми могила была обильно засыпана. А это сделали для того, чтобы не бросалась в глаза вода на дне.
На этой территории, то есть, по существу, «в озере», похоронены: советский предсовмин Никита Сергеевич Хрущев (1894–1971), скульптор Матвей Генрихович Манизер (1891–1966), писатель Михаил Аркадьевич Светлов (1903–1964) и другие.
Где-то со второй половины 1970-х Новодевичье в очередной раз подтвердило репутацию бесподобного в своем роде кладбища, – оно стало единственным в мире закрытым для свободного посещения. Правда, спустя какое-то время посетителей вновь стали допускать до знаменитых могил, но не безвозмездно. У входа на Новодевичье с тех пор появилось особое окошко с неуместной, казалось бы, для данного учреждения надписью – «касса». В последнее время – на 2004 год – билет на Новодевичье стоил тридцать рублей, что приблизительно соответствует одному доллару. Через несколько лет этот порядок был отменен.
А закрыли для посещений кладбище тогда по вполне уважительной причине: кто-то повадился совершать украдкой всякие непристойности на могиле Хрущева. Это, как говорится, – от благодарных потомков. И, по слухам, таких непристойностей производилось на могиле порою столько, что казалось, будто навестить незабвенного председателя приходила вся Москва. По мощам и елей, – так сказал патриарх Тихон, узнав, что под ленинским мавзолеем прорвалась труба канализации.
Дореволюционных могил на Новодевичьем кладбище сохранилось совсем немного. Даже если считать с перенесенными откуда-то. Вот только некоторые надписи на старых камнях:
Княжна Павла Владимировна Яшвиль. Род. 9 января 1856 г. сконч. 24 марта 1881 г.
Врач Константин Павлович Хорошко. Скончался 5 декабря 1885 г. 39 лет.
Младенец Игорь Шаляпин. Род. 3 января 1899 г. сконч. 15 июня 1903 г.
Дорогому мужу и другу. Московской Троицкой что на Грязях церкви диакон Иоанн Петрович Прилуцкий. Скончался 22 мая 1907 г. Жития его было 65 лет.
Иосиф Михайлович Бонч-Богдановский. Генерал-майор. 31.XII.1863–3.VIII.1909.
Мичман Дмитрий Александрович Тучков. Родился 7 июля 1883 г. Погиб во время ночных маневров близ г. Севастополя 29 мая 1909 г. на подводной лодке «Камбала».
Генерал-лейтенант Александр Александрович Нарбут. Родил. 27 марта 1840 г. сконч. 5 марта 1910 г.
Заслуженный профессор М. У. Дмитрий Яковлевич Самоквасов. Род. 1834 сконч. 1911.
Капитан артиллерии Иван Сергеевич Иванов. Род. 27 марта 1974 г. сконч. 7 октября 1913 г.
Иван Семенович Нотгафт. Скончался 19 июля 1915 г.
На главной аллее «старой» территории стоит величественный монумент – прямоугольная четырехгранная стела, на одной из сторон которой изображен профиль красивого моложавого господина с усами и эспаньолкой. Под профилем выбито единственное на монументе слово – Скрябин. И годы жизни покойного – 1871–1915. Впрочем, больше слов и не нужно: крупнейшего композитора начала XX века, автора «Божественной поэмы», «Прометея» и другого, всякий, наверное, узнает по одной только фамилии. Это тот случай, когда единственная фамилия звучит громче и убедительнее самых пышных титулов. Рядом со Скрябиным покоятся теперь перенесенные с других кладбищ его коллеги-музыканты – Танеев и Рубиншнейн.