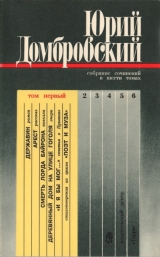
Текст книги "Собрание сочинений в шести томах. Том первый"
Автор книги: Юрий Домбровский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 18 страниц)
ПОЭТ И МУЗА
Стихотворения
ДержавинО, домовитая ласточка,
О, милосизая птичка.
Грудь красно-бела, касаточка,
Летняя гостья, певичка.
. . . . . . . . . . . . . .
Восстану, – и в бездне эфира
Увижу ль тебя я, Пленира?
«Ласточка»
I
К чужим стихам взыскательно-брюзглив,
Он рвет листы – тоскующий задира —
Год пролетел, как умерла Пленира,
Свирель цела, но глух ее мотив;
«Ла-ла, ла-ла! Ты должен быть счастлив
Сияньем благ, невидимых для мира.
Обвита элегическая лира
Листами померанцев и олив.
Почто ж грустишь, великий муж?»
– Я жив,
Как тяжело с живыми мне, Пленира!
II
Скрипя безостановочно пером
И рассыпая голубую влагу,
Он пишет: «Жадные к вещественному благу,
Вы златом убираете свой дом.»
(Перо порвало толстую бумагу,
И волосы сверкнули серебром,
Тем матовым сияньем неживого,
Что притупляет голову и взгляд.
В долине старости ни Муз и ни Наяд —
Амур грустит у камня гробового.)
«Вы совесть променяли на венки,
На алчное ласкательство прелестниц» —
Встает. Не трость по переходам лестниц —
Стучится кровь в холодные виски.
«Таким рожден я – гордым и простым!»
Медлительная догорает осень,
Тихи закаты – золото и просинь
Плывут над парком – тоже золотым.
Свирель поет: «Будь спутником моим,
И молодость даров твоих запросит.
Кто мудр и тих – того прекрасна осень,
Тот любит дев и Музами храним.»
Свирель сулит: «Будь спутником моим,
И женщина твою украсит осень.»
Он ей: «Молчи! Есть камень на откосе,
Есть белый крест – моя любовь под ним!»
III
Река. Молчит алеющая гладь,
Все в красных, желтых, белых позументах.
Стоят рябины в гроздях, словно в лентах,
И клены собираются взлетать;
Растет поганка на трухлявой ножке,
Скрипит зеленый гравий на дорожке,
Осенним солнцем налиты кусты,
В глухих аллеях небо, как окошко,
В них иволга орет, как будто кошка,
И падают и падают листы.
* * *
Гнедич и Семенова
Беседка Муз. На круглой крыше лира,
Она уж покосилась и давно
Разбито разноцветное окно.
Внутри темно, не прибрано и сыро...
Он снял колпак и думает: «Пленира!
Здесь смерть взяла твое веретено.»
А жизнь течет, бежит горох по грядке,
Кудрявясь, вьются кисточки плюща,
И кружатся, и носятся касатки
Взлетая, упадая, трепеща.
О, птица милая! То в небе золотом,
То над тростинкой зябнущей и чуткой
Сверкают потемневшим серебром
И чернью отороченные грудки.
Заботницы! Вверх-вниз, туда-сюда
Несетесь вы в распахнутом пареньи,
Где ж ваш приют, касаточки? Куда
Течете вы, как воздух и вода,
Храня зарю на сизом оперенье?
Как колокольчик, горлышко у вас,
Вся жизнь – полет, а отдых только час!
Так он стоит, прижав ладонь к виску,
Весь в переливах осени и света.
«Вот ласточки! – и смотрит на реку, —
Ты жизнь моя...?»
И долго ждет ответа.
Мой путь одинок, я кончаю
И хилую старость встречаю
В домашнем быту одинок.
Печален мой жребий, удел мой жесток.
Гнедич
Благоговея богомольно
Перед святыней красоты...
Пушкин
Веневитвинов
«Она красавица, а я урод —
Какой все это примет оборот?
Я крив и ряб. Я очень, очень болен.
Она легка, как золотая пыль,
В ее игре и блеск, и водевиль,
А я угрюм и вечно недоволен.
Я хмурюсь, а она, смеясь, поет...
Какой все это примет оборот?
Но, други милые, она ведь так прекрасна!
В моей квартире, гулкой и пустой,
Она такой сияет красотой,
Таким покоем – ласковым и ясным,
Как будто бы в жилище дикаря,
Какого-то сармата или скифа,
Из Индии с кораллового рифа
Спустилась Эос – юная заря.
Но, дева милая! Нет, вы не Антигона,
Вы муза романтических поэм.
Пред кем же я теряюсь?! Перед кем
Склоняюсь и безмолвствую влюбленно?
Громка моя размеренная речь,
Вся в плавной неподвижности покоя.
Есть стих, как конь, есть стих, как бранный меч,
Есть стих, как слон перед началом боя!
Такой мой стих, да я-то не такой
Пред Вашей равнодушной красотой.
Вот отчего, рассудок разлюбя,
Мгновенно забывая все на свете,
Одну лишь Вас имею я в предмете,
Лишь Вас одну. – Тебя, тебя! Тебя!»
Отходит от трюмо и вперевалку
Берет свой плащ, разыскивает палку —
И в дверь бегом.
На берегу реки
Над камнями расселись рыбаки,
Достали где-то щепок на растопку,
Над огоньком повесили похлебку
И разговором занялись простым.
И вдруг глядят: развалистый и рябый,
Большой и желтокожий, словно жаба,
Высокий человек подходит к ним.
На нем убор блестящий, плащ крылатый;
Взглянул на них, поближе подошел,
Цилиндр снял, поправил свой хохол
И говорит:
– Как здравие, ребята?
– Спасибо, ничего.
– Вы чьи?
– Да чьи? Мы из деревни Светлые Ручьи.
– А, из деревни! – и единым оком
Он смотрит неподвижно и жестоко.
– Так из деревни? – подошел к воде,
И жадно мочит лоб, лицо и шею.
– Что ж, выпивши?
– Да пить-то не умею,
А помогает, говорят, в беде.
– Что ж за беда-то?
Вдруг взмахнул рукою,
Сквозь зубы выругался и пошел,
И вдруг Омир, огромен и тяжел
В колокола ударил над Невою.
Бежит, спешит, тяжелый и большой,
Все выше, выше поднимая спину,
И слышат рыбаки, как он запел:
«Гнев, богиня, воспой
Ахиллеса, Пелеева сына».
Внимайте; чтоб сего кольца
С руки холодной не снимали,
Пусть с ним умрут мои печали
И будут с ним схоронены.
«Завещание»
Века промчатся и, быть может,
Что кто-нибудь мой прах встревожит
И в нем тебя откроет вновь.
«К моему перстню»
Клюшников
Среди могильной пыли
И сами все в пыли,
Мы гроб его открыли
И перстень извлекли.
Среди могильной пыли
Кладбищенской земли.
Из тесной домовины
Мы вынесли на свет
Его большой и длинный
Мальчишеский скелет.
Из тесной домовины,
Тесней которой нет;
И вот два музыканта,
Девица знойных лет,
Два франта-аспиранта
И дед – пушкиновед,
Священники без шапок,
И в шапке землекоп,
И мы, две мелких шавки,
Разглядываем гроб.
Там чуждый нашим спорам
Лежит уж столько лет
Тот мальчик, о котором
У нас суждений нет.
Тот мальчик, о котором
Конца нет нашим спорам,
Но правды тоже нет.
И шептались духовные лица:
«Если руки простерты на бедра,
Это значит: самоубийца...»
Ах, молчите, духовные лица!
Спи, мой юный, мой чистый, мой гордый,
Не достать их догадливой сплетне
До любви твоей двадцатилетней.
У нее ни морщин, ни седины,
И ни повода, ни причины,
Ни начала, ни окончанья,
Только радуги, только звучанья,
Только свет из глазничных отверстий
Все светлей озаряет твой перстень,
Да шумит покрывало у милой,
Что пришла погрустить над могилой.
Что ж грустить? Не звала, не любила,
Только перстень она подарила,
Только перстнем она одарила,
Только гибелью благословила.
Осветила мучительным взглядом,
Напоила любовью, как ядом;
И твое утомленное тело,
Словно яблочный цвет, облетело,
Оставляя на старом погосте
Черный перстень да белые кости.
Так лежи, возлагая на бедра
В отверженьи, в бессмертьи пустом
Эти руки, простертые гордо, —
Но не сложенные крестом!
Пусть плюются духовные лица,
Негодующей верой полны,
И над черепом самоубийцы
Видят синий огонь сатаны!
Пусть трясут они гривою конскою,
Вспоминают евангельский стих, —
Тампосмотрят княгиню Волконскую
И не очень послушают их!
Козлов
Однажды, поднимаясь от залива,
На памятник наткнулся я красивый:
Средь горных сосен в узком их кругу
Стоял он, ангел отрешенный, белый,
И девушка в хитоне, паче мела,
Грустила на высоком берегу.
Ее лицо, бровей ее дугу,
Все для полета собранное тело
И эту невесомость без предела —
Власть мрамора и розы на снегу.
Воспоминанье общее об этом
Я сохранил доныне. Пьедестал
Тяжеловесным золотом блистал
И отдан был лирическим поэтам:
Некрасов, Майков, Тютчев, Пушкин, Блок,
Конечно, Надсон, Лермонтов, Плещеев...
Кто притащил строку, кто десять строк,
Невесту провожая в дом Кащеев.
И говорил лирический букет:
Люблю тебя, хотя тебя и нет!
Как вдруг с высокой глыбы пьедестала
Совсем иная надпись проблистала:
«Я не люблю тебя, мне суждено судьбою
Не полюбивши разлюбить.
Я не люблю тебя моей больной душою,
Я никого не буду здесь любить.
Я не люблю тебя, я обманул природу,
Тебя, себя, знакомых и чужих,
Когда свою любовь и бедную свободу
Я положил у милых ног твоих.
Я не люблю тебя, но, полюбив другую,
На сотни мук я б осудил себя —
И, как безумный, я и плачу, и тоскую —
Все об одном: я не люблю тебя».
И подпись: «Клюшников». Да кто же он такой,
Обвивший крест у Южного залива?
Но как ни напрягаю разум свой,
Я многого не вырву из архива!
Да, при Белинском был такой поэт,
Одна из звездочек его плеяды,
Его и в словарях искать не надо,
И в сборниках его, конечно, нет, —
Но кости, погребенные в могиле,
Его стихов, конечно, не забыли.
А тишина! А тишина кругом!
Лишь зелень утомленная, да море,
Да девушка на камне гробовом,
Парящая в оранжевом просторе,
Да власть стиха! Немного лет назад
(Немного лет, раз есть стихи из Блока),
Стихами отправляли в Рай и в Ад,
И грозен был тяжелый ямб пророка.
Стихами убивали, и стихи
Врезали в мрамор, как эпиграф к смерти.
Их не стирали ни дожди, ни мхи,
Не заслоняли ни кресты, ни жерди.
Был стих суров, как воинский приказ,
И в оный день отчаянья и гнева
Он прогремел, и даже Бог не спас
Его лучом пронизанную деву,
А был ли то литературный жест,
Слеза ли Демона пробила камень, —
Ей все равно: над ней разводит крест
Недоуменно белыми руками.
Спускаюсь вниз – закат уже погас,
Знакомая актриса в пестрой шали
Идет навстречу: «А мы ждали, ждали,
Мы совершенно потеряли вас.»
Гляжу на губы, на лиловый грим,
На тонкие и выспренные брови:
«Там на горе...» Мы долго говорим
О странной ненавидящей любови.
Когда искусство превратилось в кровь,
Тогда собьешься и не скажешь сразу,
Где жест актера перешел в любовь,
А где любовь переродилась в фразу!
Певец! Когда перед тобой
Во мгле сокрылся мир земной.
Пушкин. «Козлову»
Анри Руссо
«Ночь весенняя дышала
Светло-южною красой,
Тихо Брента протекала,
Серебримая луной.» [6]6
«Венецианская ночь».
[Закрыть]
Тихо в сумрачном канале,
Отражающим луну,
Дева в черном покрывале
Молча смотрит на волну.
Он гребет, на лодке стоя,
Быстрый, яркий, как волна,
Но красавца за фатою
Не заметила она.
И не слышит, как в палаты
Бьет напевная волна.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ночь и грязь. Домов квадраты
Крестит дождик полосатый.
Тучи мчатся, ночь темна.
Заиграл сверчок на печке,
Ветер кинулся в окно;
Оплывают тихо свечки,
Утомленные давно.
Мелкий дождик нудит, нудит...
Дочка борется со сном.
Может, хватит, может, будет?
Может, тоже отдохнем?
Но вперяя взгляд лучистый
И сжимая пальцы рук,
«Заструился пар душистый!» —
Ты приказываешь вдруг.
И опять цветы и маски,
И рапиры, и щиты,
И корсеты, и подвязки —
Все взбесившиеся краски
Разъяренной красоты.
Знаешь? Я с тобой согласен:
Из скворешен и квартир
До нелепости ужасен
Этот вылинявший мир.
Так хватай же кисти смело
И не бойся ничего —
Только синим, только белым,
Только красным крой его!
И тогда средь одиночки,
Вдохновенной слепоты,
Из тугой и жесткой почки
Хлынут липкие цветы.
Ты увидишь на мгновенье,
Неподвижно и светло
Все, что гибнущее зренье
В темноту перенесло.
То, стыдясь и хорошея,
Вновь вошла в свои права
Абсолютная идея —
Неподвижность божества.
Светлый рай олеографий —
Красота добра и зла,
Все, что нам на мокрый гравий
С неба Муза принесла.
1
Мир этот многоцветен и нечист,
Мерцающий, безумный, исступленный;
Но ты пришел, ты свет зажег зеленый,
А солнце осветило каждый лист,
А там еще трепещут жемчуга
Змеиных тел, там дым и свет пожара —
На голубых танцовщицах Дега,
На розовых животных Ренуара.
Там есть еще багровый жирный цвет
Страстей и чувств кровавые изнанки.
Там так нежна фигура Таитянки.
Струящая почти лиловый свет...
Там чертово вертится колесо,
И бледный от томления и страсти,
Вселенную там рушит Пикассо,
Чтоб вновь срастить рассыпанные части.
Там словно висельник застыл в дверях
Потусторонним холодом овеян
Суровый католический монах
С ключом в руках и вервием на шее.
Взгляни – и мимо, около окна,
Стоит поэт твой – прост, многотелесен, [7]7
Картина «Поэт и Муза».
[Закрыть]
С улыбкою он смотрит с полотна
В тот скорбный мир, где не хватает песен.
А рядом Муза – край ее плаща
Касается зеленого хвоща;
И море, недоступное для бури,
Несется здесь из тюбика лазури.
2
Море, море, пароход,
Маленький кораблик.
Отразились в ряби вод
Розовые сабли.
Из высоких труб идет
Голубая вата,
Где же этот пароход
Видел я когда-то?
Где я видел кудри скал,
Чаек в красном свете?
Для кого я рисовал
Пароходы эти?
О, далекий край земли,
Где по ровной глади
Проплывают корабли
В детские тетради?
Где в раскрашенный блокнот
Желтый, словно репа,
Пробирался хитрый кот,
Выгнутый свирепо.
3
Оглушительно дыша,
Вышел он из камыша
И глядит стрелою в цель.
Устремляется газель
Специально, чтоб упасть
В поджидающую пасть.
Тигр расправил для красы
Африканские усы,
Встал во весь звериный рост
И раскручивает хвост.
4
Точка, точка, бугорок,
Пара рог да пара ног...
Неужели, неужели
Это все, что от газели?
5
Ира! Ира! Ира – план,
Посади меня в карман,
Разверни свои бока,
Подними под облака!
С воротом распоротым
Мы парим над городом,
Наблюдая с высоты,
Как горбатятся мосты,
Как ложится ловко
Синяя штриховка:
То у круглой арки
Разлеглися парки.
То, косматей медвежат,
Ели город сторожат.
То идет по улице
Лошадь меньше курицы,
С белою попоною,
С черною короною,
С красною каретою,
С гривою-кометою.
6
Точка, точка, запятая,
Минус, рожица кривая.
Ручка, ножка, огуречик —
Вышел к морю человечек,
И сияют на картинке
Человечкины ботинки,
И цилиндр, и часы,
И кудрявые усы.
И, подумав, я рисую
Рядом даму голубую —
Тонкую, унылую,
Бледную и милую.
Точки, точки, точки, точки,
Черный пудель на цепочке.
Дом, труба и из трубы —
Дыма черные клубы.
7
А на пестром рынке
Кринки да корзинки,
Ходят да толкуют,
Спорят да торгуют...
Рыбьими салатами,
Утками пернатыми,
Виноградом, розами,
Яйцами розовыми.
8
Шел однажды я по рынку,
Спотыкнулся о корзинку...
В этой маленькой корзинке
Все товары хороши:
Пудра, кружево, ботинки —
Что угодно для души.
9
Ах, угодны для души
Ваши мне карандаши!
Молодые игры,
Пожилые тигры,
Храмы голубые,
Дамы молодые,
Небо, в небе колесо...
Вы создатель их, Руссо...
* *
*
Каменный топор
Увы, весь этот мир не для меня!
Неискренний, двуличный и пытливый,
Я полюбил змеиные отливы
И радуги угарного огня.
Я полюбил разъятый, словно труп,
Мой страшный мир в палитре увяданья;
Но в оный час, когда из жестких губ
Вдруг вылетит склерозное дыханье,
И будет взгляд мой искренен и туп,
Но страстного исполнен ожиданья,
И я увижу смерть – совсем не ту,
Что с детства мне обещана преданьем, —
А дикий свет, нагую высоту,
Вне образов, времен и очертанья...
И вдруг пойму, что тяжкий подвиг мой,
Ты – жизнь моя! Не пращуров наследство,
А только путь бессмысленно прямой,
Бессмысленно пустой, в нагое детство.
И затоскую смертно трепеща;
Приди тогда из облачных расселин
И возврати мне тигра, солнце, зелень
И музу старую под щетками хвоща.
I
Обработанный слепо и грубо,
От столетий, как нищий, рябой.
О, обглоданный веком обрубок,
Путь истории начат тобой.
От дубины в руке человечьей,
От костра, покорившего жуть,
Через смерти, дожди и увечья
Начинает история путь.
И идет по разбитым шеломам
За атилловой скачкой коня
По преданиям, с детства знакомым
И дряхлеющим у огня.
Низколобый, тупой и упорный,
Он едва ли расскажет кому,
Как стонали подземные горны
И вселенная меркла в дыму.
Как от самой последней границы,
Где огонь разметал волоса,
Отрывались свирепые птицы
И летели гнездиться в леса.
Как лилась раскаленная ворвань
По звериным и птичьим тропам.
Как от стонущей плоти оторван,
Он в жестокие руки попал.
И три ночи металась пещера,
Заболевшая едким огнем.
Человек, толстогубый и серый,
Наклонялся над тонким кремнем.
Неподвижный и чертовски быстрый,
Он следил через бой молотка,
Как растут разноцветные искры
Сквозь змеиную шкуру песка.
И когда на горячем квадрате
Два кремня свой закончили спор,
Он корой примотал к рукояти
Этот первый в эпохе топор.
II
Он идет по косогору
Рыжий, сильный, молодой,
Через реку, через гору,
Через тень и через зной.
Светят звезды паутины,
Блещут радуги стрекоз.
И на солнце греет спину
Низколобый и звериный,
Отдыхающий откос.
Он идет – земля от жара
Стала гулкой и пустой.
Солнце маревом пожара
Наклонилось над землей.
И до белого каленья,
До свирепой седины
Жирных шпатов поколенья
У реки накалены.
Только крикни, только стукни,
Только прыгни не туда,
И глухое небо рухнет,
Расслоившись, как слюда.
Размахнись сильней руками,
Не сдержи движенье ног.
Под ногами вспыхнет камень,
Превращаясь в порошок.
Но заре и солнцу рады
Целый день трубят с плеча
Разноцветные цикады
И степная саранча.
Над сиянием прогалин
В их сиреневой тени
Шлифованием хрусталин
Занимаются они.
И остановив дыханье,
Тормозя движенье век,
Над поющим мирозданьем
Наклонился человек.
III
Ночь подходит к желтым водам,
И по отмели пустой
Полосатый махайродус
Проскользнул на водопой.
Он идет – сухой и четкий,
Подобрав в себя живот.
За кошачьею походкой
Камень выцветший ползет.
В тростнике прибрежном глухо,
Словно в звездной синеве.
И расписанное брюхо
Прижимается к траве.
Щуря острые глазницы,
Как всегда, свиреп и прост,
Зверь ползет, и шевелится
По песку тигриный хвост.
Ветлы стынут в лунном свете,
Светляков в траве не счесть!
И с горы приносит ветер
Оглушительную весть.
Жирной плоти дрожь и запах,
Голубых подпалин пот
В ноздри, в ребра, в зубы, в лапы
Он взволнованно несет.
Опустившись на колени,
Тростником дрожащим скрыт,
Слышит тигр шаги оленьи
И звучание копыт.
Каменистою тропою
Обгоняя звезды вскачь,
Первым сходит к водопою
Коронованный рогач.
И когда, тяжел и прыток,
Закачал он валуны,
Потонул тяжелый слиток
Расколовшейся луны.
Спит по-прежнему долина,
Но над четким тростником,
Развернувшись, как пружина,
Покатился рыжий ком.
А за ним, храня дыханье,
Ширя тьму разгоном век,
Через ночь и мирозданье
Пролетает человек.
IV
Был мамонт стар, но видел он впервой,
Как два комка сцепились в желтых травах,
Как тигр ревел и ширил след кровавый,
И в камни упирался головой.
Был мамонт стар, но слышал в первый раз,
Как рявкнул зверь отрывисто и глухо,
Как смерть вошла в белки открытых глаз
И убрала в грудную полость брюхо.
Как сделал зверь вдруг судорожный прыжок,
И сбрил цветы когтистой лапы росчерк;
Как сухо треснул первый позвонок,
И дрожью отозвался позвоночник.
Как, разрывая горло и язык,
Зверь затрубил в отчаяньи великом,
Но вдруг распался, вытянулся, сник,
Как будто кровью, захлебнувшись криком,
И в такт борьбы качая головой.
Вдруг сбился мамонт, увидав нежданно,
Как рыжая поднялась обезьяна
И волосы поправила рукой.
КОММЕНТАРИИ
В первый том собрания сочинений Юрия Домбровского вошли произведения разных лет, преимущественно – раннего периода творчества писателя. Большинство из них не перепечатывалось с конца 30-х годов.
Державин
Первые главы романа публиковались в журнале «Литературный Казахстан» в 1937 году (книги 7 и 8). В 1938 году в том же журнале под названием «Крушение империи» (книги 1-4) публикация была продолжена.
Отдельным изданием «Державин» вышел в 1939 году в Алма-Ате в издательстве КИХЛ.
Роман не окончен.
Смерть лорда Байрона
Первая публикация новеллы – в журнале «Литературный Казахстан», 1938 год, № 1. До настоящего собрания сочинений больше нигде не печаталась.
Арест
Впервые рассказ опубликован в историко-библиографическом альманахе «Прометей» в 1969 году.
К. Н. Батюшков
Статья напечатана в газете «Казахстанская правда» 30 мая 1937 года. Данная публикация является первой после пятидесятипятилетнего перерыва.
В. Кюхельбекер
Опубликовано в газете «Казахстанская правда» 24 июня 1937 года. С тех пор не перепечатывалось.
«И я бы мог...»
Статья опубликована в журнале «Новый мир» в 1975 году, № 12. Первоначальное название – «А был ли заяц?».
Деревянный дом на улице Гоголя
Очерк публиковался в 1973 году в журнале «Простор», № 11. Перепечатывается впервые.
Поэт и Муза
Стихотворения
Из всех стихотворений, написанных Ю. Домбровским, при жизни писателя напечатано только одно – «Каменный топор». Публикация состоялась в 1939 году в журнале «Литературный Казахстан».
Лагерная тетрадь писателя начинается стихотворениями «Державин», «Веневитинов», «Гнедич и Семенова», но написаны они, скорее всего, до лагеря. Похоже, неудовлетворенность тем, что ему не дали дописать роман «Державин» и высказать все свои размышления о судьбе поэта, вылилась у Ю. Домбровского в стихи. Может быть, окончательно они были обработаны уже в лагере. Поэзия помогала выживать, размышления о Веневитинове (о нем Ю. Домбровский тоже хотел писать повесть), Гнедиче, Козлове, Клюшникове спасали.
Дата написания того или иного стихотворения автором нигде не указана.
Уже после смерти Ю. Домбровского часть стихотворений опубликована в различных изданиях: журнал «Юность», 1988 год, № 2; сборник лагерной поэзии «Среди других имен» (составитель В. Б. Муравьев); альманах «Конец века».
К. Турумова-Домбровская
Фотоматериалы
Ю.О. Домбровский с сотрудниками журнала «Литературный Казахстан», где впервые была опубликована повесть «Державин» («Крушение империи»).
Алма-Ата, 1938 г.

После заключения на Крайнем Севере и в Тайшете.
Москва, 1956 г.

Ю. О. Домбровский в своем рабочем кабинете. Фото А. Лесса (А. Лесс—фотокорреспондент, сделавший много снимков к роману «Обезьяна приходит за своим черепом»).
Москва, 1959 г.
На Цветном бульваре.
Москва, 1959 г.

Музей-собор в Алма-Ате, где работал Ю.О. Домбровский в 30-х гг.
Алма-Ата, 1961 г.

Ю.O. Домбровский с женой К. Турумовой-Домбровской в горах Казахстана, где писатель работал над романом «Факультет ненужных вещей».
1964 г.
Домбровские с Павлом Косенко – редактором журнала «Простор», автором книги о Домбровском «Щедрый хранитель, или Письма друга».
Портрет Ю. Домбровского. Художник Л. Е. Фейнберг.
Голицыно, 1969 г.









