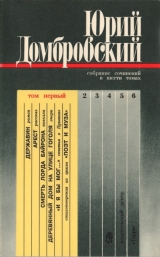
Текст книги "Собрание сочинений в шести томах. Том первый"
Автор книги: Юрий Домбровский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
Человек поднял голову еще выше.
– Поймали, ваше благородие. И если бы не господин Мансуров, подай бог ему счастья, и не ушел бы я вовсе.
– А письма? – спросил Державин.
– Все взяли, ваше благородие. До одной бумажки всего выпростали.
Державин наклонился и точно рассчитанным коротким движением схватил его за шиворот. Поднял, потряс и с размаху бросил на землю.
– Изменник! – крикнул он хрипло. – Я из тебя всю правду выбью. Я знаю, зачем ты сюда пришел. Чтобы убить меня и опять бежать к Пугачеву? Да? Сознавайся!
Он тряс лежащего в пыли человека, и губы его дрожали.
– Сознавайся, – кричал он. – от меня не скроешься! Я знаю, с чем ты бежал!
Он схватил его за воротник рубахи и поднял с земли.
– Веревок! – крикнул он и на минуту сам оглох от своего голоса. – Вздернуть изменника как собаку на первом дереве.
Старик быстро вскочил на ноги и рванулся от подступивших к нему солдат.
– У меня есть письмо к вашему превосходительству от генерала Мансурова, – и он поспешно сунул Державину в руки запечатанный конверт. – Оный превосходительный генерал, освободив Яик от злодейских сил...
– Как, разве Яик взят? – спросил Державин и почувствовал, как лицо у него похолодело.
– Взят, ваше превосходительство, взят, и все злодейские силы от оного города угнаны.
Державин сорвал конверт. Письмо действительно было подписано Мансуровым. Державин сразу узнал его крупный, красивый почерк.
«Государь мой Гаврила Романович, известный мне малыковский старец Иов, потерпя здесь важные истязания, вырван прибытием моим на сикурс бедного здешнего гарнизона из челюстей смерти. Он подлинно, как вам доносить будет, откупал время жизни своей деньгами, занимая здесь. Я завладел Яиком, побив два раза сих извергов, и вступил в него вчера. В прочем с моим прямым почтением государя моего покорный и верный слуга.
П. Мансуров».
Он прочитал письмо до конца и бессильно опустил руку с конвертом. Солдаты обступили его, тихо переговаривались. Старец Иов, длинный, страшный, в белой рубахе, стоял перед ним, прямой, как покойник, и на губах его застыла испуганная гримаса. Трещал костер, и ржали лошади, почуяв свежий предутренний ветер.
Итак, все пропало. План, который он лелеял с такой страстью, горечью и надеждой, – рассыпался. Его геройский поступок превращался в обыкновенное ослушание, непростительное, дерзкое и мальчишеское. Улыбающееся лицо Кречетникова представилось ему ясно. Лицо улыбалось и щурило левый глаз.
«Напрасно, напрасно поторопились, ваше благородие, – говорил Кречетников. – Не могу одобрить вашего поступка, никак не могу. А будьте ласковы, скажите, как вы осмелились покинуть пост, вам вверенный, и отправиться неведомо куда, без инструкций и указаний? Соответствует ли сие дисциплине воинской, а?»
Треща, догорали костры.
Державин круто повернулся и пошел к своей палатке. За ним двинулся сержант Елчин.
– Ваше благородие, – сказал он осторожно, – как прикажете со стариком?
Державин молчал. И, кашлянув, Елчин спросил снова:
– Прикажете сниматься?
Державин повернул к нему бледное, истрепанное лицо с круглыми, невидящими глазами.
– Да, – сказал он очень спокойно. – Сниматься. Завтра же двинемся обратно.
Сержант смотрел на него, переминаясь с ноги на ногу, и что-то хотел сказать, но не решался. И только когда Державин повернулся и пошел, он крикнул вдогонку:
– А со старцем-то что прикажете сделать? Давеча вы его повесить приказали, а теперь...
Державин махнул рукой.
– Пусть идет на все четыре стороны.
– Может, покормить его, ваше благородие? – спросил сержант.
– Покормите.
Тут же у костра Державин начал писать Бибикову. Он оправдывался в своем самочинном отлучении, говорил о долге воинском, который не позволял ему считать себя посторонним и независимым наблюдателем, опять жаловался на Кречетникова и уверял, что честь воинскую он ставит превыше всего – и карьеры, и счастья, и жизни.
Он писал много, долго и хорошо. И когда положил перо, то почувствовал, что у него свалилась с души большая тяжесть. Бибиков поймет, Бибиков защитит, пока жив Бибиков – ему нечего бояться. Однако на карьеру воинскую, на почести и награды приходилось махнуть рукой. Никто не воспоет его подвиги, никто не назовет его героем, никто не выстроит ему триумфальную арку. Кому интересен маленький, бедный, неудачливый карьерист Державин?
А Кречетников?
Кречетников остается в прежней силе. Грубый, упорный, бездеятельный, ничем не рискуя и ничего не ставя на карту, он всегда будет главенствовать над ним. Так создан свет. Дети живут славой и могуществом своих предков. И будь у тебя хоть семь пядей во лбу, но если ты не богат и не знатен, не смей и думать о счастье. Всеми мыслями и душой он тянулся к Бибикову. Этот поймет. Этот не осудит за дерзость и смелость. Душа подпоручика Державина открыта ему, и он свободно читает все ее страницы. Сегодня же письмо с гонцом отправится в Казань. Не медлить ни минуты, не ждать, не колебаться, самому донести обо всем. Чем скорее, тем лучше.
Войско ехало обратно. Громыхали пушки, скакали верховые. Старец Иов ехал в самом конце отряда, радостно улыбающийся, изможденный, но счастливый. Он только что избавился от большой опасности. Да и было чего бояться. Придя в Яик, он сразу пришел к жене Пугачева и объявил ей о своей миссии. Все время, пока Яик не был взят генералом Мансуровым, он находился у власти, и его советами не пренебрегали даже самые наибольшие. Теперь, после отступления от Яика, старец отлично уяснил себе, что это отнюдь не окончательное и даже не решающее поражение. Он направился в стан Бибикова с тайными и важными инструкциями – узнать, увидеться кое с кем и обо всем этом донести. Теперь он был действительно настоящим подзорщиком – опытным, решительным и смелым. Подпоручика Державина он не боялся. Ему-то, старцу Иову, он теперь ничего плохого не сделает. Подпоручику Державину теперь не до него. Ему собственную шкуру приходится спасать от начальства. Старцу Иову уже успели рассказать солдаты о самовольном выступлении отряда.
Старец отлично уяснил себе также и то, что именно теперь Пугачев был сильнее, чем когда-либо. Неожиданное поражение приносило ему тысячи соратников. Он видел этих обтрепанных, голодных и злых мужиков, которые отовсюду собирались под знамя бунта. Все дело было только в Бибикове. Этот человек, больной и бессильный, сидя в Казани, стягивал все новые и новые войска, задумывал все новые и новые планы. И все они, так или иначе, наносили какой-либо вред пугачевцам.
По его словам, отовсюду стягивались войска, приходили пушки, формировались полки. Если бы не Бибиков – победа давно была бы у Пугачева! думал старец.
Так в ясный весенний день 22 апреля два человека, ехавшие в разных концах отряда, – Иов и Державин – думали о главнокомандующем Бибикове.
Только бы Бибиков не узнал от кого-нибудь другого о самовольной отлучке Державина, – думал Иов; только бы Бибиков получил скорей его письмо! – думал подпоручик.
Войско направлялось в Малыковку.
За десять верст от Малыковки их догнал гонец.
Он вез письмо Державину.
Державин на ветру распечатал конверт и, пробежав первые две строчки, побледнел.
Письмо было частное. Его писал Бушуев.
«Милостивый государь мой, Гаврила Романович, – писал Бушуев, закатилось наше солнце, вчера умер Александр Ильич Бибиков».
Дальше он не читал. Опустив письмо в сумку, он ехал во главе отряда. Сержант Елчин, увидев гонца, было подскакал к Державину, но, посмотрев на его перекошенное лицо, осадил лошадь и возвратился.
Вскоре стали появляться первые строения.
Это была Малыковка.
РАССКАЗЫ, СТАТЬИ, ОЧЕРКИ
Смерть лорда БайронаI
Низкое серое небо, сплошь затканное тучами, глядело в окно, и очертания деревьев скрывались за плотным туманом. Барабаня по стеклу, Байрон смотрел на двор, вымощенный кирпичом, – и дальше, на серое ровное море. Дождя еще не было, но жесткий ветер раскачивал рогатые ветки кустарника и расплескивал лужи. Зябко пожимая плечами, – хотя в комнате было не холодно – Байрон подошел к столу.
Предчувствие припадка застало его врасплох.
Он еще успел увидеть груду неразобранной почты, нож для разрезания бумаг в виде длинного кинжала и бронзовую чернильницу, похожую на подкову счастья. Все остальное со страшной быстротой мелькнуло в его глазах сплошным красочным пятном и исчезло.
Зная, что он сейчас упадет и всеми силами противясь этому, Байрон до боли заломил руки за спиной, стиснул зубы и остался так неподвижным.
– Раз, два, три, – считал он, – три, четыре, – дыхание его пересекалось и рот был полон вязкой сладкой слюной, – пять.
Припадка не повторилось.
Тогда, все еще дрожа от легкого головокружения, он задвинул плохо повинующимися руками тяжелое кресло и сел за стол.
Перед ним опять была неразобранная почта, нож в виде кинжала, чернильница в виде подковы.
Почту надо было разобрать, на письма надо было ответить.
– Письма, письма, – он вскрывал их и, посмотрев, откладывал в сторону. Их было очень много: из Испании, из Греции, из Италии. Дальше пошли счета: счет от типографии, счет от техника земляных работ, счет от английского портного за обмундирование пятидесяти человек его свиты. Он посмотрел и отодвинул их к прочитанным письмам. За счетами пошли сметы и проекты, их было особенно много. Длинный разграфленный по всем направлениям лист он прочитал два раза и еще долго держал в руках, прежде чем решился отложить. Это был подробнейший проект и смета судна, которое он хотел снарядить на собственные средства. Легкое и сильное, как северный лебедь, оно было нарисовано карандашом на обороте сметы: вздымались высокие борта, ветер гудел в выгнутых парусах, тупые морды пушек смотрели в небо. Это была его мечта. Судно должно быть легким на ходу, иметь небольшой и сильный экипаж и вооружаться английскими пушками. Это не был какой-нибудь тяжелый, неповоротливый бриг, предназначенный для обстрела гавани или высадки десанта, – это было его боевое судно, созданное для губительного огня, быстрых и дерзких нападений.
Пушки! Судно!
В Греции не было ни пушек, ни судна, ни денег на них.
Письма из Англии не шли. Деньги тоже. Очевидно, заем, на который он возлагал все надежды, – срывался. Его лебедь, быстрый и неуловимый, в конечном счете оказывался такой же мечтой, как и вся борьба за свободу.
С чувством досадливой боли он отложил в сторону смету.
Следующее письмо, которое он взял в руки, говорило о хлебе, и он прочел его внимательно. Впрочем, его содержание он угадал еще раньше. Действительно, было от чего сойти с ума! Хлеб, выпекаемый здешними булочниками, был просто ужасен – тяжелый и сырой, он напоминал замшелый кирпич и несъедобен был почти так же. Кирпичом его и звали греческие солдаты, которым он выдавался в виде пайка. Как-то Байрон даже пошутил над этим.
– Придется, видимо, – сказал он своим друзьям, – все-таки добыть булочника вместо кирпичника, который его выпекает.
Однако он сам знал, что это одни слова, настоящего булочника достать было неоткуда. Солдаты по-прежнему ели ужасный кирпичный хлеб и называли Байрона турецким шпионом.
– Турецкий шпион! – сначала это прозвище вызывало приступ неукротимой ярости, теперь он принимал его равнодушно. Байрон затратил на вооружение войска половину своих средств и до сих пор не получил шиллинга. Он добровольно посадил себя на паек рядового и отказывался от всех прибавок, которые ему предлагали. Он, черт возьми, голодал так же, как все остальные, так же мог заразиться чумой, так же мог погибнуть от ножа, пистолета или взрыва, как любой из его соотечественников. Но, кроме того, он выносил на себе все неполадки, все шероховатости борьбы за освобождение.
Сулиеты бунтовали.
Они толпой собирались около его дверей и кричали, вздымая к потолку сухие черные руки. Они требовали хорошего пайка, денег, офицерских чинов, и в последние дни их дикий гортанный крик выражал уж не одну просьбу. Ему надоедало торговаться с ними, и вот, зажимая рукой сердце и стиснув зубы, он стоял, ожидая припадка, и клял тот день и час, когда ввязался в это постыдное дело. Он так и говорил наедине с собой – «постыдное дело». Из его памяти еще никак не могло сгладиться то, как он, больной, с пистолетом в руках выгонял из своей комнаты обнаглевших сулиетов.
А в последние дни он волновался особенно. В Англии был объявлен сбор средств, но деньги не приходили и было видно по всему, что заем проходит весьма туго. Видимо, давнишние слова Питта: «Я не буду рассуждать с тем человеком, который не понимает, что интересы Англии требуют неприкосновенности Отоманской империи» – весили все еще больше, чем все брошюры о национальном освобождении и марсельеза, переведенная на греческий язык.
– Если так будет продолжаться, – подумал Байрон с злой насмешкой над самим собой, – Греция так и останется в оковах.
И вот он вспомнил о том письме, которое пришло месяца два тому назад. Письмо было короткое, но сильное. Один из его друзей настоятельно просил Байрона не уезжать из Кефалонии без серьезных предосторожностей. Он прочитал письмо и легко бросил его на стол.
– Поздно, – сказал он окружающим друзьям. – Это то же, что остерегаться женщины, на которой ты уже женился.
За окном его двухэтажного дома было серое, обвислое, как отсыревший потолок, небо, черные кусты жасмина и очень ровная, несмотря на резкий ветер, вода залива.
Он сидел за письменным столом, просматривал бумаги и думал, что теперь уже все равно.
В этот ненастный, дождливый день 9 апреля 1824 года Байрон получил сообщение, что греческий заем в Англии дал два с половиной миллиона.
II
Все, что произошло затем, было неожиданно и нелепо. С письмом в руках он вошел в комнату графа Гамбы.
– Два с половиной миллиона, – сказал он. – На это уже можно кое-что устроить.
Затем, бегая по комнате, он стал перечислять, загибая пальцы, что можно сделать на эти деньги.
– Купить хороших дальнобойных пушек, организовать небольшую, но крепкую артиллерию и целый пехотный корпус.
– Пехотный корпус! – крикнул он вдруг, останавливаясь посредине комнаты. – Две тысячи человек, вооруженных ружьями Конгрева!
Потом он вернулся к мысли, которая сильно занимала его с прибытия в Грецию.
– Прежде всего, – сказал он, – надо было предпринять осаду какого-нибудь небольшого турецкого городка или крепости. Это сразу подняло бы Грецию в глазах Европы и деньги потекли бы золотым дождем. Как-никак, а континент на стороне Греции, несмотря на все афоризмы Питта и Меттерниха. Очень было бы хорошо, чтобы привлечь внимание Европы, начать издание какого-нибудь журнала, посвященного освобождению Греции. На трех или четырех языках мира сразу.
– Например, – сказал Гамба, уже знавший кое-что об издательских планах Байрона, – «Греческий телеграф».
Байрон отрицательно покачал головой. Мысль о газете мучила его, и он носился с ней, пожалуй, не меньше, чем с планами о боевом судне или осаде турецкого города.
– Из этого дела, – сказал он задумчиво, – ничего не получится. Правда, он дал деньги – и немалые – на подобное же издание, но в успех его мало верит. Причины? – они ясны для него! Всякое бесцензурное издание в Греции обречено на скорую гибель уж потому, что его некому будет одергивать. В Греции еще нет общественного мнения. Свобода превратится в свою противоположность.
Гамба смотрел на него, утвердительно качал головой и думал, что здоровье его друга совсем не так плохо, как его хотят представить. У него очень крепкая голова, если он в этом аду не потерял еще ни бодрости логично мыслить, ни способности правильно расценивать свои и чужие поступки. Бесцензурная газета на греческом архипелаге, где о культуре говорят только тысячелетние развалины да мраморные обломки, выкопанные из земли! Газета на трех или четырех языках в стране, где толком не знают одного! Действительно, черт знает что. Но Байрон вдруг прервал самого себя.
– Газета на трех языках, – сказал он тихо, думая совсем о чем-то другом, – это хорошо звучит, друг мой. Но мне пока не до газеты. Земляные работы находятся в безобразном состоянии, бастион – старая развалина, достаточно двух-трех полевых орудий и мы все взлетим на воздух. Накануне предполагаемой осады начинают проверять полковые списки, и вот оказывается, что половина солдат числится только на бумаге. Почему? Я понял все только, как посмотрел на откормленную рожу командующего. Командиры получают деньги за бумажные головы, а я сижу и жду, когда из Англии прибудут пушки.
Он засмеялся и ударил Гамбу по плечу.
– Впрочем, нет, дорогой, – сказал он лукаво, – я не только жду, я кое-что и делаю. Один из наших пиротехников, уезжая, поручил мне распространить между солдатами библию на новогреческом языке, и я охотно взялся за это дело. Очень хорошая бумага и переплет. Когда зайдете ко мне, я вам покажу их. Двадцать штук еще лежит в моем кабинете.
Гамба взглянул на него с опаской. Лицо Байрона было желтое и левая сторона рта время от времени подергивалась, как в припадке. В сущности, и в этом не было ничего страшного, он видел, с какими лицами разговаривают о здешних порядках прирожденные греки, но Гамба все-таки встревожился. Он подошел к окну и отдернул штору. Дождя еще не было, но сырое небо спускалось все ниже.
– Если бы не дождь, – сказал Гамба, смотря на воду залива, – я предложил бы вам съездить в оливковую рощу, но погода такая... – Он ждал, что скажет Байрон.
Но Байрон даже не посмотрел в окно. Он только положил руку на плечо Гамбы.
– Чепуха, – сказал он, – сегодня я получил два с половиной миллиона. Это бывает не каждый день. Едем!
III
В трех милях от города их застал дождь. Свежий морской ветер рвал шляпы и бил по глазам ошалевших лошадей. У оливковой рощи вдруг сильно запахло морем. Волны, прежде грузные и тяжелые, теперь легко прядали на острые камни и рассыпались в желтую пену. Две большие белые птицы, почти не махая крыльями, косо пронеслись мимо них. «Гроза, – подумал Гамба, – и надо ж было ехать.» «Альбатросы, – подумал Байрон, – как они низко летят над морем.»
Дождь, мелкий, но хлесткий, бил его по одежде, и почва под ногами коней расползалась бурой, жирной грязью.
– Вот, – сказал Гамба, – я говорил.
Байрон скакал с ним рядом молча, вглядываясь в серую дымку дождя. Его мокрое лицо пахло морем и было серьезно.
– Пожалуй, умнее всего, – сказал Гамба, задыхаясь от дождя и ветра, было вернуться.
– Ну что же, – сказал Байрон, не поворачивая головы, – вернемся.
IV
Через пять минут они подъехали к рыбацкой хижине, где их обыкновенно ждала лодка. Попав на кремнистую тропинку, кони опустили уши и пошли широким неторопким шагом. Тут Байрон, молчавший почти всю дорогу, вдруг оживился. Он легко соскочил с коня и, почти не хромая, хотя и эта дорога была сильно размыта, побежал вниз по тропинке. Гамба следил за ним с неудовольствием. Бодрый вид Байрона почему-то ему очень не нравился.
– Вам надо обязательно переменить одежду, – сказал он хмуро. – Вы простудитесь.
Байрон посмотрел на него с улыбкой.
– Вам нет оснований опасаться за мою жизнь, – сказал он любезно, несчастен для меня только один день в неделе – воскресенье. Сейчас же, если не ошибаюсь, – понедельник. Зато год, в который мы живем, для меня очень несчастлив! 22 января 1824 года мне исполнилось тридцать шесть. А этот возраст для меня роковой, я должен умереть.
Последние слова он сказал, грассируя в нос и, как показалось Гамбе, с легким кокетством.
– Неужели вы серьезно верите в эту чепуху? – спросил Гамба с досадой.
Байрон отрицательно покачал головой.
– А вы, – спросил он вызывающе, – вы тоже не верите? Помните, как полковник Стенхоп сказал мне, что он не может поручиться за жизнь даже одного английского пиротехника, и их пришлось отправить обратно. А ведь они были самые обыкновенные английские солдаты, даже без репутаций турецкого подданого, который сопровождает вашего покорного слугу. – Он засмеялся.
Высокие башмаки Байрона тяжело ступали по грязи, рассыпая звездчатые брызги. Вошли в хижину.
– Это насчет года, – сказал Байрон, останавливаясь у порога. – Припадок же со мной случился 19 февраля, и когда я очнулся, моей первой мыслью было спросить, что это за день. Мне ответили, что воскресенье. Ну, конечно, сказал я.
Он сел на скамью и снял с головы широкополую шляпу. Шляпа была тяжелая и мокрая, как только что убитая птица, и он отбросил ее на стол. Хозяин хижины – грек Газис, – улыбаясь и кланяясь, побежал заказывать лодку.
Гамба смотрел на Байрона. Все это ему очень не нравилось. После последнего припадка для него, как и для всех друзей, стало ясно, что дни Байрона сочтены. Эта мысль не сразу пришла ему в голову, но оттого, что она наконец пришла, Гамба почувствовал, как у него заломило под ногтями. Он сейчас же стал прогонять от себя эту мысль. Байрон молод, – говорил он сам себе. У него богатырский организм, он ловок, смел, жизнерадостен. Кто другой может выстрелом потушить свечку или переплыть Геллеспонтский залив? Кто другой может вынести эту постыдную торговлю из-за денег, эти постоянные стычки с греками, англичанами, итальянцами? Кто другой мог остаться жизнерадостным и твердым, видя, как превращается в ничто дело его жизни? Один Байрон! Бредни выжившей из ума старухи о каком-то особенном смысле тридцать седьмой годовщины его жизни не заслуживают даже просто внимания. Кажется, сама судьба хранит его голову. Ведь хватило же у него благоразумия отказаться в последнюю минуту от поездки на Ариель в тот самый день, когда погиб Шелли. Байрон согласился сперва на эту поездку, даже торопил Шелли, а потом вдруг взял и отказался. Почему? Нет, видимо, сама судьба хранит его красивую беспутную голову.
Так думал Гамба, отходя от Байрона. Но ему достаточно было взглянуть на него опять, чтобы снова понять его обреченность. Даже в припадке его истерической ребяческой проказливости он стал видеть признаки наступающей развязки. Байрон стал бояться всего: воскресного дня, разбитого стакана, соли, рассыпанной на столе, года, в котором он жил. И в то же время эта страшная боязливость не вязалась с его обычным презрительным бесстрашием.
И только теперь Гамба стал понимать смысл стихов, написанных Байроном в день его рождения. Стихи были длинные и кончались они так:
И если ты о юности жалеешь,
Зачем беречь напрасно жизнь свою?
Смерть пред тобой – и ты ли не сумеешь
Со славой пасть в бою!
Ищи ж того, что часто поневоле
Находим мы; вокруг себя взгляни,
Найди себе могилу в бранном поле
И в ней навек усни!
Найди себе могилу в бранном поле. Ах, если бы с Байроном теперь был Шелли!
Он вдруг вздрогнул, почувствовав на себе тревожный, но неподвижный взгляд Байрона. Байрон смотрел на него со своего места, желтый и прямой. Его губы кривила детская беспомощная улыбка.
Гамба ласково взял его за плечо.
– Джордж, – сказал он, – ехать в лодке сейчас нельзя. Вы промокли и замерзли. Вам надо размяться и согреть кровь. Лошади наши еще не расседланы. Поедем обратно верхом. – Байрон отрицательно покачал головой.
– Какой же я солдат, – сказал он, – если буду бояться такой чепухи?
Он встал с места и, хромая больше, чем обыкновенно, пошел к выходу.
– Смерти я не боюсь, – сказал он хмуро. – Смерть – это чепуха. Но я до сих пор не могу понять себя. Я тридцатисемилетний мальчишка, который не хочет сделаться стариком. И вот я не соглашаюсь со своей старостью, а старость приходит, мой друг. Она настойчиво стучится в стенки моего сердца. – Он говорил теперь медленно, и пот струился по его лицу.
Около самого берега он вдруг остановился и, взяв Гамбу за руку, сказал тихо и искренне:
– Не считайте меня только, мой друг, на самом деле суеверным. – Разбитый стакан, рассыпанная соль – все это чепуха. Даже воскресный день я готов признать счастливым. Я боюсь только двух вещей в мире, но боюсь их по-настоящему: медленно умереть на постели, как на станке пытки, или кончить свои дни, как Свифт, – старым кокетливым идиотом.
Через полчаса они были у дома. Даль моря совсем скрылась за серой пеленой. Дождь шел не переставая, и теперь цвет неба не отличался от цвета воды.
– Вот в такую погоду, – сказал Байрон задумчиво, – и погиб Шелли.
Уже подходя к дому, Гамба вдруг вспомнил, при каких обстоятельствах Байрон прочитал свое стихотворение: он вышел из спальни с листом бумаги в руке и сказал, обращаясь к нему и полковнику Стенхопу:
– Вы как-то жаловались на то, что я уже не пишу стихов. Сегодня день моего рождения, и я только что кончил стихи, которые кажутся мне лучшими из всего написанного.
Стихи не были лучшими, но они были последними. Прощаясь с Байроном, Гамба вдруг понял это ясно.
Он снова вернулся к Байрону вечером.
Его друг, раздетый, лежал в постели и при входе Гамбы обернул на него мутные большие глаза, полные тоски и страха.
– Я умираю, – сказал он тихо и покорно, – но это мне безразлично.
Гамба смотрел на него. Желтый и острый профиль его друга напоминал лицо карточного короля. Дышал Байрон хрипло и медленно, с трудом выталкивая из груди свистящие порции воздуха.
– Ничего, – сказал Гамба весело, – ничего, Джордж, это просто маленькая простуда, я думаю, что завтра...
Внезапно Байрон схватил за руку Гамбу и сжал ее до боли.
– Смерть мне безразлична! – повторил он хрипло, – но страданий я не перенесу.
На другой день Байрон проснулся совсем здоровым. Он послал за Перри и рассказал ему об успехах займа.
– Вот увидите, – сказала он радостно, – как пойдут у нас дела. Я на собственные средства вооружу артиллерийский корпус, мы купим судно и будем бить турок с моря.
Потом поглядел на Перри и покачал головой.
– А пушки-то! – сказал он с веселым удивлением, – совсем забыл о пушках. Я куплю специальные горные пушки, и мы начнем обстреливать небо. Греция, черт возьми, будет свободна!
Он прошелся по комнате, потирая руки.
– Мы еще повоюем! – сказал он.
И до вечера Байрон и артиллерийский капитан Перри сидели, составляли план финансирования летней кампании.
V
Дождь окутывал сушу, дождь окутывал море.
Две недели над Грецией свирепствовал сирокко.
Байрон больше не вставал с постели.
Строгий и неподвижный, он лежал поверх одеяла, и лоб его казался желтым, как мрамор надгробного памятника.
Приходили доктора, приходили друзья.
Они на цыпочках шмыгали мимо кровати и, когда он пробовал говорить, отвечали ему с ласковой предупредительностью, как будто говорили с ребенком. Это было противно, и он замолкал сейчас же. А температура поднималась все выше и выше. Помутневшими от жара глазами он смотрел на своих друзей, и лица их колебались и плыли, как сотканные из голубого дыма.
Так начинался бред.
Перси Бишше Шелли с сконфуженной улыбкой сидел у его постели.
– Ну вот, – говорил он успокоен, – теперь все хорошо, все отлично. Я очень долго ждал вас на Ариеле, я даже замучился от ожидания, но вы приехали, и все обстоит хорошо.
Раздувая паруса, стоял перед ними Ариель, он был серебристо-белого цвета, и в туго надутых парусах свистел свежий морской ветер. Зеленые волны, гудя, разбивались о его корму.
Шелли сидел рядом и улыбался.
– А ведь он не умеет плавать, – вдруг сообразил Байрон. – Когда нас застала буря среди моря, и я хотел его спасти, он лег на дно лодки и сказал, что сейчас умрет. На море дождь и ветер, как он решается ехать один в такую погоду? Ведь он утонет.
Он повернул голову, чтобы сказать об этом, и вдруг вспомнил, что Шелли в самом деле утонул.
И сейчас же он увидел плоскую отмель моря, сиреневый волнистый песок и на нем бескостную человеческую фигуру лицом к небу. Волны, набегавшие на труп, шевелили его бумажные руки и перекатывали с места на место. Когда Байрон хотел посмотреть в лицо трупа, обращенное к хрустальному итальянскому небу, то увидел на месте лица сизую шероховатую маску. На месте глаз страшно и тупо блестели два аккуратных, чисто вымытых отверстия.
– Это не Шелли, – сказал ошалело Байрон, – это кто-то другой! – Но ему подали небольшой кожаный томик, найденный в кармане трупа. Это были стихи Китса, с которыми Шелли никогда не расставался.
В другом кармане вместе с песком и пестрой морской галькой вытряхнули томик Платона.
Байрон стоял, опустив голову, и даже не взглянул на находку. Теперь для него было все ясно.
Он обернул голову на то место, где сидел Шелли, но его уже не было. Тускло блестел желтый таз и двое незнакомых людей с засученными рукавами, без фраков, стояли рядом с его постелью. Дальше на стуле серебристо блестели похожие на морских рыб ланцеты.
VI
Ланцеты недаром блестели на стуле и таз неслучайно попал в комнату. Всю ночь Байрон бредил не переставая, и друзья решили прибегнуть к крайним мерам. Они приступили к Байрону с настойчивым требованием крови.
– Ваш организм перегружен плохой, воспаленной кровью, – говорил Бруно, наклоняясь над лицом больного, – и если вы не разгрузите свои вены от ее чрезмерного напора, – она кинется в мозг, и мы не ручаемся за ваш рассудок.
Байрон больше всего боялся сойти с ума. Кривляющаяся рожа веселого Свифта пугала его даже на смертном одре. Однако он не хотел сдаваться так скоро.
– Кровопускание убьет меня, – сказал он через синий туман в лицо Бруно, – я слишком слаб, во мне и так мало крови, а вы хотите выпускать ее целыми тазами.
Миллинг взглянул на Бруно, Бруно взглянул на Миллинга.
– И все-таки мы настаиваем на этом, – сказал Бруно. – Вы стоите на грани воспаления мозга. С этим шутить нельзя. Вы и так бредили всю ночь не переставая.
Байрон посмотрел на ланцеты, лежащие на стуле.
– Неужели нет другого средства? – спросил он умоляюще. – Люди чаще умирают от ланцета, чем от пики.
Ответа он не слышал. Но сразу зазвенели ланцеты, блеснул и скрылся с глаз тазик, стоящий на кресле. Байрона подняли под руки и устроили на кровати сидя. В последнюю минуту он сообразил что-то и опять закачал головой, но слов его уже никто не слышал.
Миллинг аккуратно подобрал рубаху и обнажил сильную белую руку с синеватыми округлыми мускулами.
– Нет, нет, – крикнул Байрон.
Миллинг послушно отпустил его.
– Как хотите, – сказал он, – но за ваш рассудок я не ручаюсь.
– Вы – проклятая банда мясников, – крикнул Байрон через синий туман, застилающий ему глаза. – Вылейте из меня столько крови, сколько найдете нужным, и отвяжитесь.
Миллинг держал его руку выше локтя и следил, как на дно тазика, сначала струйкой, а потом частыми тяжелыми каплями падала вязкая, как смола, черная артериальная кровь.
VII
Семнадцатого апреля он бредил опять, и доктора, уже не спрашивая о позволении, выцеживали из него все новые и новые порции крови. К концу дня у Байрона побелели губы и заострился нос. Жар съедал его изнутри, и он безостановочно пил лимонную воду. Бред мешался с явью. Байрон думал о семье, Байрон думал о Греции. О Греции, которую он проклинал ежедневно, ненавидел иногда и которая была ему все-таки дороже всего: и семьи, и собственной жизни.








