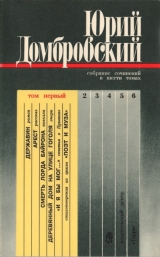
Текст книги "Собрание сочинений в шести томах. Том первый"
Автор книги: Юрий Домбровский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
В такой обстановке стихи писать было нетрудно, и чем они были темнее, тем лучше. Вот так я и писал: высоко, звонко, непонятно. Память – великий дезинфектор и бракер, начисто смыла с моего сознания все написанное мной в ту пору. Так что мне сейчас уже не за что даже и краснеть! Как будто ничего и не было! Потом и стихи как-то само собой иссякли, и я даже не вспоминал о них. А затем пришел такой день, когда ко мне в дверь вдруг постучалась та самая смиренная проза. Я уже был к ней подготовлен и знал, о ком я буду писать. Четыре книги инфолио лежали у меня на столе. Это были тома роскошного девятитомного издания Грота «Сочинений Державина». Том его переписки, том записок и два тома библиографии. Вот с этим богатством в руках я и начал свой роман.
Однако, как это ни горько, приходится сознаться, что особого впечатления я своим чтением в этот вечер не произвел. Только одна Рая добрая душа! – похвалила меня. Что именно сказал мне другой гость, я не помню, но вот слова Воронцова я запомнил. «Вы понимаете, – сказал он, выйдя меня провожать, – вот вы прочли нам о встрече и разговоре Державина с генералом Бибиковым. Все правильно, все на месте, но не обижайтесь, мутновато как-то это у вас получилось. Как будто бы смотришь на них через пыльное стекло», – и он слегка подышал и поводил ладонью вверх и вниз, как бы протирая эти стекла. Что ж? В этом была, наверное, своя сермяжная правда, но мне тогда показалось, что в эту оценку вмещалось и еще кое-что. Я отлично понимал Воронцова. В самом деле, с чего это я вдруг вообразил себя писателем? Всего полгода назад как послал в редакцию рецензию на полстолбика и вдруг – пожалуйста! – уже размахнулся на целый исторический роман! Полно, не рано ли? Ну о Руссо я написал, о Кюхельбекере – сто строк, ну что-то там о новом произведении Ю. Н. Тынянова – все хорошо, грамотно, чистенько, но и все! Все! И добро бы я еще принес рассказ о шпионах, а то, видишь ли, роман о Пугачеве! Да что я, из рода Толстых, что ли?
– В скольких частях-то он у вас предполагается? – спросил меня гость. Ну как же не знаете? Раз пишете, то знаете. Вам это надо знать! Надо! – и слегка усмехаясь, покосился на супругов Воронцовых.
Все эти сомнения я понимал и даже, честно говоря, до какой-то степени и разделял их, но ничего сделать с собой не мог. Во мне уже поселился тот неуемный бес бумагомаранья, который мучает графомана точно так же, как и гения. Я не мог уже не писать! Не мог, и все! Пусть плохо, бездарно, мутно и пыльно, но я должен был писать – и никаких гвоздей! – это-то мне было ясно.
Домой я пошел не прямо, а двинулся по бесконечной тополевой аллее, мимо яблочных, вишневых и урючных садов (у каждого дома свой сад). На улицах уже никого не было, где-то далеко скрипел колодец да заливались собаки: город в эти годы затихал рано, с темнотой. Возле меня по обочине мостовой безмолвно несся вздувшийся к ночи арык. Везде стоял тонкий сладкий настой цветущих деревьев. Пахло еще теплой сырой землей, мощными усадебными мальвами (я среди десятка запахов различал этот сухой жестковатый аромат), остывающим камнем, водой. Улица, которой я шел, была длинной и такой стремительно прямой, словно ее одним взмахом прочертили по линейке (так оно вообще-то и было). Она тянулась через весь город от Головного арыка до старинного торгового тракта – Ташкентской аллеи. По всему этому пространству стояли и лежали многотонные щербастые глыбы – желтые, белые, черные, фиолетовые, некоторые чуть не с целый деревянный дом. Лет двадцать тому назад по этой магистрали полз с гор поток жидкой грязи и волок за собой эти громадины. Они, как ядра, ухали в стены, рушили и стирали в порошок глинобитные заборы, срывали с фундаментов, переворачивали и катили деревянные дома, ломали в щепу деревья.
Идти было далеко, я устал и опустился на одну из таких глыбин. Уже почти совсем смеркалось, фонарей в ту пору в городе было мало, а здесь и вообще их не было – только светились номера домов да пестрые занавески на окнах. Этот дальний конец города полностью сохранял еще в ту пору облик казачьей станицы начала века. Строенья стояли на нем одноэтажные, глинобитные, с тяжелыми, как плаха, ставнями. Зато заплоты были низкими, до плеч. Кто-то, видно, из здешних, прошел рядом, чуть не задел меня. Потом круто повернулся, встал, постоял, зажег спичку, будто чтоб прикурить, но взглянул и прошел. А я сидел и думал. «Да, – тяжко ворочалось у меня в голове, – за пыльными стеклами! За стеклами может быть – исторический же роман, должна же сохраняться какая-то дистанция времени, – но почему же все-таки за пыльными?» Ведь я ясно представлял себе все, о чем пишу: зимнюю дорогу, снег, безлюдье, «только версты полосаты попадаются одне», его верхом. Как он въезжает в родную Казань в первый день Рождества. На нем нагольный мужицкий тулуп, а из-под тулупа торчит офицерская шпага (купил у мужика в Москве за 3 рубля). И эту встречу генерала Бибикова с ним в зале кинутого губернаторского дома. Генерал вышел из спальни, величественный, строгий, милостивый. Поздоровался, уселся в кресло и поручика усадил. Поглядел внимательно. Ничего. Хорош. Высок, худощав, белокур, востроглаз, а с мороза еще нежно-розово-бел и весь опутан сеткой нежных золотых веснушек. Заговорили. Генерал спросил что-то о здешних делах. Но не чрезмерно быстро, не так, как, например, рапортуют на смотру, когда слова так и отлетают от зубов, нет, с некоторым все-таки достойным замедлением и раздумьем. Генералу это тоже понравилось. Вот вымуштрован, подтянут, но светскости не потерял и за словом в карман не лезет тоже. А главное – отвечает с пониманием, видно, что все тут знает, во всем разбирается и, если прикажут, то пойдет на все. Ну что же? Это и есть сейчас главное. Надо испробовать. По справкам оказывается, что у его матушки Феклы Андреевны где-то здесь домишко в Татарской слободе. Богатые и родовитые там не живут, конечно. Но, по чести говоря, что из себя представляет эта самая казанская знать? Нет, государи мои хорошие, увольте, увольте! Худородные-то, они, я вам скажу, лучше – они покорнее, исполнительнее и без всякого завирательства. Этот же тут и родился. Надо потом его легонько пощупать, небось, в отрочестве с кем-нибудь из этой сволоты (а у вора сейчас и купцы, и попы, и чернецы, и чиновники, и черт его знает кто еще) в орел-решку играл. Он тут каждого должен знать. Хорошо! Испробуем! Дадим поначалу какую-нибудь важную военную комиссию. Напортить он ничего не напортит (куда уж там портить-то), а если и в самом деле орел... Что ж, сейчас таким самое время. Кто из них поумнее, тот чины да кресты прямо из воздуха хватает. До свиданья, поручик. Жду завтра. Пиши-ка, секретарь: «Лейб-гвардии поручику Державину по секрету... Получа сие, имеете вы...» Вот так, наверно, и было дело. Чего же я тут недодумал или недовообразил? А ну-ка, посмотрим.
Я расстегнул портфель, вынул рукопись, тихонечко подошел к ближайшей избе, к окну, горящему яркими кочанами алых роз, сел сбоку прямо на землю и стал читать. Кончил одну главу, начал другую. Подумал: а может быть, люди у меня говорят не так, как нужно. Слишком уж по-книжному, с архаизмами – сей, оный.
Проверяя интонацию, прочел один маленький диалог вслух.
– Кто это? Ты, Иван? Нет, не он как будто...
И из дома вышли под руку двое: мужчина и женщина и за ними поодаль шагал третий провожающий с цыгаркой. Дошли до угла дома, неожиданно увидели меня и остановились. А я сделал вид, что ничего не вижу и не слышу, только читаю. Раз даже покачал головой и что-то пробормотал. Они стояли и смотрели. Я читал.
– Тю! Да это скаженный! – вдруг громко догадался провожатый и облегченно засмеялся.
– А ты смотри лучше, а то посидит тут, а наутро кур... – громко шепнула женщина.
– Та нэ, нэ! – добродушно ответил провожающий. – Нэ же! Он зачитаваный! У нас в Красносельском дьяконов сын... Пошли, провожу вас до Ташкентской...
И они прошли мимо, весело разговаривая, пыхтя цыгарками и вспоминая этого самого скаженного и зачитаваного дьякова сына из Красносельска.
Так у меня начался и кончился этот очень памятный день, и весь я его помню до последней мелочи.
Ваня Бочарников велел зайти за ответом через недельку. Но прошло две недели, потом три, потом месяц, два, три, а все еще ничего не было известно. А затем и Ваня Бочарников куда-то внезапно исчез – машинистка объяснила: уехал в Караганду, вернется в конце месяца. Я пришел в половине следующего и увидел, что Вани нет по-прежнему, а на его месте сидит и читает какое-то письмо Полная женщина очень небольшого, роста, но с высокой (тогда ее называли японской) прической. Я подошел к столу и остановился перед ней. Она подняла голову и вдруг заулыбалась.
– А-а! – сказала она так радушно и просто, как будто только меня ей и не хватало, – наконец-то появились! Ну, здравствуйте, здравствуйте! Вы знаете, я второй день вас ищу, никто не знает, где вы живете. Собиралась уже в гороно звонить (каким-то непонятным для меня образом она сразу же догадалась, кто перед ней). Берите стул и садитесь, пожалуйста. Ну что ж, я прочла с большим удовольствием. Конечно, мы это напечатаем – настоящая крепкая проза.
Все это было сказано настолько спокойно и обыденно, что я даже не успел обрадоваться.
– Кстати, давайте познакомимся, – она слегка привстала, – Шарипова.
Но я уж по какому-то наитию тоже догадался, кто передо мной. В то время имя Гайши Шариповой значило много. Она недавно приехала из Москвы, но была уже самой известной в Казахстане журналисткой – его Мариэттой Шагинян и Ларисой Рейснер вместе. Кое-какие ее очерки появлялись и во всесоюзной печати. В Москве с ней считались. Я пожал вторично маленькую пухлую ручку и подумал, что эта уже совсем немолодая женщина чем-то очень похожа на девочку-подростка. Такая у нее была улыбка, и глаза круглые, простые, доверчивые. «Да, ну-ну? – спрашивала она иногда удивленно и недоверчиво, слегка поводя головой, и тогда хотелось смеяться от этой ее непосредственности и чуть не детской наивности. Но это было только самое первое впечатление, потом оно сразу пропало и уже не возвращалось.
– Итак! – она подошла к шкафу, достала рукопись, положила на стол и слегка перелистала – на полях во многих местах стояли галочки и восклицательные знаки. – Скажите, вы очень любите Тынянова? – Она не спросила, а как бы просто удостоверила факт.
– А что? – пролепетал я.
– Да нет, ровно ничего, – опять засмеялась она, – очень хороший писатель, я его тоже люблю. Люди у вас кое-где похожи на его героев: кричат много и, как бы это вам сказать, – она подумала, – подразумевают много. – Ну знаю, знаю, что так не скажешь, по-казахски и по-татарски можно, а по-русски не выходит. Ну как бы это поточнее сформулировать – говорят они одно, а подразумевают другое. Вот, например, разговор Бибикова с Державиным – в нем у вас подтекстовок больше, чем текстов. Генерал-то может так, конечно, говорить, а поручик-то...
Тут я даже вздрогнул. Так вот наконец в чем дело! Совсем не в мутных стеклах, а в ненужном и неумелом подтексте! Перемудрил! Перетончил! Да, я очень, чрезмерно даже тогда любил Тынянова, он меня даже потряс так, что я потерял вкус ко всякой иной современной прозе: она мне казалась пресной. В Тынянове меня поразила великолепная отточенность стиля. Его почти научная отточенность стиля. Его почти научная точность и четкость. Синтаксическая простота и ясность. Холодная бесстрастность автора. А больше всего то, что автор о самых простых обыденных вещах говорит в высшей степени необычно. Все у него на пределе, на втором дыхании, и герои действительно делают совсем не то, что от них ожидаешь, им бы радоваться, а они тихонько кусают губы, им бы взвыть, а они смеются. И в этом вся их сила. Да! В высшей степени необычайные и непонятные люди населяли книги Тынянова. И хотя они, так же как и события, в которых они участвовали, принадлежали истории, все выглядело так, как будто бы нормальную классическую или реалистическую драму взялся ставить режиссер из театра. Мейерхольда или кто-нибудь из Фэксов (фабрика эксцентричного актера – Козинцев и Трауберг). Они от текста, может быть, не отступили и все реплики сохранили, а все равно уходишь со спектакля или из кино со странным двойственным чувством – да, свежо, современно, остроумно – но надо ли? Это были годы, когда появилась и пышным цветом расцвела на наших сценах особая хохмящая драматургия. Актеры в таких пьесах обыкновенным человеческим языком не говорили. Драматург до него просто не снисходил. Колхозники в поле, геологи в глубокой разведке – дергались, подпрыгивали, сыпали афоризмами и парадоксами. Действие обрастало невероятными подробностями, диалог превращался в цирковую репризу, монолог в конферанс, а вся пьеса – в гала-представление, в состязание хохмачей. Один персонаж кидал словесный мячик, другой его подхватывал на лету. Вот эта броскость и ценилась превыше всего. На сцене этот гаерный попуганный язык, расходившийся обезьянник этот мне всегда казался невыносимым. Тут я спорил с актерами до хрипоты, но вот начал писать прозу, и герои мои заговорили точно так же. Это было хорошо у Тынянова, но никак не проходило у меня. Все это я осознал и понял почти мгновенно, глядя в круглые, как будто очень наивные глаза Гайши. И Гайша поняла, что я ее понял. Легким движением она подвинула ко мне рукопись.
– Так, может, вы сами еще хотите что-нибудь посмотреть? – спросила она ласково. – Вот тут я кое-что отметила, может, дома взглянете?
Я взял рукопись и сунул ее в портфель. Гайша поднялась, провожая меня.
– Тут, по-моему, следует только снять кое-какие чрезмерные акценты, а так все сделано очень крепко.
Она подала мне руку.
– Ну! Я жду вас через три дня. Ну хорошо, через неделю. Даже, если хотите, дней через десять, но ни в коем случае не дольше. Вот отмечаю на календаре: «Домбровский, рукопись».
Я просидел над рукописью месяц и пять дней. Но теперь работать было уже легко. Я все понимал, все видел, что можно, что нельзя, где перебор, где недобор, где как раз, и иногда после долгой работы фраза действительно улыбалась мне. Видимо, я все-таки что-то усек (но, конечно, далеко, далеко не все).
Просидел бы я и еще, но меня в коридоре «Казахстанской правды» вдруг встретил Бочарников, сделал страшные глаза, выругал на чем свет стоит и сказал: – Ты что же это делаешь? Тебя уже хотели выбросить из плана, а больше номеров в этом году не будет. Вот и загорал бы твой «Державин» до 1938 года. Скажи спасибо Гайше, она грудью тебя отстояла. Ты беги к ней в редакцию сейчас же, хватай рукопись и мчись. Она хоть у тебя в порядке?
Рукопись была, к счастью, в порядке. Я и шел с ней от машинистки, но, конечно, просидел бы и еще с неделю, что-то правя и поправляя. Именно в то время я и понял, что в принципе процесс правки и переделок бесконечен. Никогда не увидишь ты той точки, после которой тебе уже нечего будет делать.
Я отнес рукопись в редакцию и оставил ее у машинистки. Стол был пуст. Шкаф открыт. Табличка «Литературный Казахстан» уже не висела. Я спросил, что это значит.
– А вот Гайша сегодня унесла, – ответила мне сердитая машинистка. – Теперь тут уже не будет редакции, останется только профсоюз. Ну и хорошо, а то ходят, разговаривают, дымят. У меня к концу работы голова вот такая становится.
– А редакция куда же? – спросил я, ничего не понимая.
– Да вот переезжаете, – зло и насмешливо ответила она. – Помещение получили. Знаете только что отстроенный Дворец культуры на проспекте Ленина у парка? Ну вот, туда вы теперь и будете ходить. Говорят, три комнаты дали, редактору – комнату, редакции – комнату да еще кому-то там – комнату. Поезжайте, поезжайте, отдохнем от вас немного.
Она была зла, чем-то раздосадована, но рукопись у меня все-таки взяла.
Гайшу я в тот день по телефону не поймал, позвонил на следующий день вечером.
– А-а! – сказала она радостно, – это вы? А я жду, жду! Ну вы здорово, как говорится, все перелопатили. Кое-где ведь все сызнова написано. Я думала, что все будет проще.
– Да это и было просто, – ответил я. – Очень все было просто, Гайша-ханум. Только я вот не сразу догадался, что надо просто. Поэтому столько и просидел.
– Ну и отлично, – засмеялась она, – через неделю приходите читать корректуру. Только уже не ко мне теперь придете, на моем месте будет другой работник. У него с вами, очевидно, будет особый разговор. Ведь с будущего года альманах превращается в журнал и будет выходить ежемесячно. Есть постановление ЦК об этом. А в этом году еще только один номер и появится праздничный.
Это была уже осень 1937 года.
А теперь немного в сторону: не так давно мне пришлось отвечать одному обиженному мной автору. Он мне написал: «Итак, вы закрыли моей вещи доступ в журнал. Соображения, по которым Вы это сделали, изложены Вами весьма подробно, и я не хочу возражать и спорить, но скажите, не допускаете ли Вы возможность ошибки? Ведь рецензент тоже не Бог. Так не получится ли, что ошиблись Вы, неоправданно наложили вето на мою вещь, вполне заслуживающую печати? Разве так не может быть? «
«Уважаемый имя-рек, – ответил я, – ну, безусловно, каждый рецензент может ошибиться, и действительно хоть раз да ошибается. В этом вы безусловно правы. Но вот в чем вы так же безусловно неправы. Нет у рецензента никакого «вето», и как бы ему ни хотелось, он не в состоянии преградить путь Вашей вещи, если она действительно чего-то стоит. На необъективную, однобокую или какую уж там хотите скверную рецензию Вы легко найдете управу даже в стенах той же самой редакции. Пошлите только вашу повесть вторично и попросите дать ее другому рецензенту, и все сразу же разрешится. Кроме того, ведь у нас есть еще с десяток столичных литературных журналов и свыше трех десятков республиканских – все они открыты для вашей вещи. Каким же образом при таких обстоятельствах кто-то может вам помешать напечататься? К слову, могу поделиться с вами своим довольно-таки горьким опытом. Всего я выпустил четыре книги – и вот только самая первая из них прошла, как говорится, без сучка, без задоринки, а три последующих были с ходу же зарезаны рецензентами. Да еще какими! Штатными, главными, редакционными. И все-таки все эти книги вышли. А две из них даже в том же самом издательстве. Если вы действительно уверены, что ваша вещь хороша, то вы обязаны, понимаете, просто обязаны – бороться за нее. Точно так же, как я обязан быть непоколебимо уверен, что, не рекомендуя вашу вещь к печати по таким и таким-то соображениям, я не допустил тут ошибки».
Отвечая мне, автор спросил: «Очень любопытно, при каких обстоятельствах произошло издание той вашей первой книги, которая прошла «без сучка, без задоринки?» И очень странно, что это была, как вы пишете, самая первая книга. Может, у меня неверное представление, но мне кажется, именно первая книга и проходит труднее всего. Очень хотелось бы, чтобы вы поделились своим опытом».
На это письмо я тогда не ответил, но вот сейчас делюсь.
Союз писателей Казахстана в ту пору помещался в двухэтажном белокаменном особняке на улице Красина. Первый этаж был жилой, во втором находился Союз писателей. Но добро бы один Союз – но в нем, – это в трех комнатах! – помещалось еще и казахстанское издательство художественной литературы (КИХЛ), и редакция казахского литературного журнала «Адебиет жане искусство», и бухгалтерии всех этих трех учреждений, и машинное бюро, и литконсультация, и даже, кажется, еще управление по охране авторских прав. Теснота, конечно, была невероятная. Войдешь, и с порога видишь только столы, столы, столы и над ними головы, головы, машинки, арифмометры, счеты. Все это стрекочет, жужжит, кричит, перебивает друг друга. Шум стоит такой, что для того, чтобы поговорить, надо выйти на деревянную лестницу. Автор же и редактор вообще могли обсудить что-то, если только они выходили во двор и усаживались на лавочку против Главархива (он помещался во флигеле этого же дома). И все-таки все это казалось нам совершенно в порядке вещей. Господи, какими мы были тогда молодыми, беззаботными, как плевали на все условности и корявости в нашей жизни, как не нуждались ни в каких особых удобствах! Молод был редактор журнала «Литературный Казахстан», молод был его заместитель, молоды сотрудники, ответственный секретарь, машинистки. А я-то был, кажется, самым молодым из всех. Сейчас, когда я прихожу в редакцию по существу того же самого журнала и стучусь к его ответственному редактору, иногда меня вдруг охватывает чувство полного неправдоподобия – ведь никого старше нас в редакции сейчас нет. Да что там – старше? Мы просто старые! Старые, да и все тут!
В том белом доме по улице Красина я впервые встретил Муканова, несколько раз подолгу разговаривал с Ауэзовым и впервые увидел Джамбула. И сюда же я принес в КИХЛ и сдал полную рукопись романа – уже не сорок страничек, а триста. Об этом белом доме на улице Красина стоит написать как-нибудь особо, но из всех впечатлений, связанных с ним, мне запомнилось больше всего одно.
Как-то, уже полной зимой перед новым 38 годом, под вечер, не знаю уж по каким нуждам, я шел мимо этого дома, и из деревянных ворот его навстречу мне вышли три человека. Впереди шел Павел Кузнецов (его только что назначили ответственным редактором журнала), за ним его первый заместитель, сзади всех шел Ваня Бочарников. Он только что сдал новому заму дела и портфель редакции и, как говорил, словно сбросил с души стопудовую тяжесть.
«Я им так и сказал, – рассказывал он мне в тот же вечер, – вот вам вожжи, вот вам дуга, а я вам, товарищи, больше не слуга, свои дела замучили. Караганда, Балхаш, Чимкент, совсем дома не бываю, жена на развод подавать хочет».
Они шли и о чем-то оживленно разговаривали. У редактора под мышкой была стопка аккуратных синих книжечек. Я сразу понял, что это такое, и подошел к ним.
– Вот и он, – сказал Бочарников таким тоном, как будто только меня им и в самом деле не хватало.
– Седьмой номер вышел, – сообщил редактор.
– И знаете, что в нем самое лучшее? – спросил замредактора. – «Державин».
– Как только мы получили из типографии номер, – сказал Бочарников, – я открыл им «Державина» и сказал: «Ну, читайте». И они сели и стали читать и встали только, когда прочли все. Так? – спросил он замредактора.
– Так! – ответил замредактора.
– Так, – подтвердил редактор.
Несколько шагов мы прошли молча, слова как-то не шли у меня с языка, да и что было говорить!
– Ну, спасибо, – сказал я.
– Из спасиба я шубы-то не сошью, – усмехнулся редактор: был он человеком едким и насмешливым, и языка его боялись. – Теперь вот что: у вас тут стоит «отрывок» и «продолжение следует». Так не годится. В этом году, конечно, никакого уже продолжения не будет, а вот с будущего начнем печатать все полностью. Значит, нужно новое начало. Вы это сделайте побыстрее. А вообще у вас есть продолжение? Вы много написали?
Я покачал головой.
– Ну ничего, напишете, – успокоил он меня. – Гайша за вас ручается. Сколько, по-вашему, будет составлять вся вещь?
Я ответил, что пока думаю только о первой части, это что-нибудь вроде 180-185 страниц на машинке.
– Значит, около восьми листов, – подсчитал он. – Так сделайте ровно восемь, по два листа на четыре номера. Это будет как раз то, что надо. Договорились.
– А ты дай, дай ему номер, – сказал Бочарников.
– Нельзя, – строго улыбнулся редактор, – сигнал из редакции не выпускается. Дня через три я дам десяток. Вот зайдет за договором и получит.
И тем не менее номер я получил тогда же – чудесный, сыроватый еще, пахнущий типографией номер с синей печатью наискосок – «Сигнальный».
Из Союза писателей мы зашли в крошечный ресторанчик, что был рядом на углу, и тут редактор мне сказал, что со следующего номера журнал будет выходить в большом формате с красочной обложкой, цветными вкладками, рисунками в тексте.
– Иллюстрировать будем богато, – сказал он мне, – специально связались с Союзом художников. Я насчет вас думал. Даже уже говорил мельком с одним. Поговорите и вы. Он завтра придет в редакцию. Его звать...
(Так – замечу в скобках – я познакомился с чудесным мастером и человеком Валентином Осиповичем Антощенко-Оленевым. Он тогда еще не носил своей знаменитой бороды, наоборот, был всегда чисто выбрит, молод, очень подвижен, писал большие красочные полотна, портреты – «Куляш Байсеитова», «Портрет партизана». И только-только пробовал себя в линогравюре. Мне даже кажется, что те листы, которые он принес в редакцию, – иллюстрации к началу романа – и были его первыми работами в этом направлении.)
...Редактор сказал, что я сразу же должен засесть за работу, – надо, как он выразился, приделать хорошее эффектное начало. И это не терпит никакого отлагательства. Нельзя задерживать сдачу первой книги журнала за 1938 год – и я понимал его буквально, так что был готов прийти домой и сейчас же сесть за работу.
По дороге я уже придумал это начало и шел, повторяя про себя его первые строки. И они для меня были легки и певучи, как стихи. Я гудел их под нос и вслушивался в их внутреннюю музыку. Она – эта музыка биения строки – всегда значила для меня очень многое. Я сейчас же чувствовал провал в предложении, его риторическую ущербность и бедность – и был уверен, что и читатель это чувствует тоже. Когда фраза правильно, четко организована, ее легко читать. Она не заключает в себе ничего излишнего ни в отношении к слову, ни в отношении к наполнению этой фразы. Тут и проявляется главная особенность ритма прозы. Он растет сам из себя, сам себя организует и существует по собственным своим законам. У каждого писателя и даже у каждого отдельного произведения свой собственный особый ритм. Нельзя в «Мертвые души» вставить кусок повестей Белкина – сразу выявится не только стилистический, но и метрический разнобой. Читатель сорвется с ритма. А это очень болезненно.
Я прошел к себе. Все спали. Спали соседи, спала хозяйка, спал ее муж отец моего ученика, – он прекрасно ко мне относился, но никогда не верил, что я могу писать книжки. «Да рази писатели такие? – резонно отвечал он на робкое возражение своего сына. – Вот посмотри: в книге у тебя писатели Александр Сергеевич Пушкин, Толстой, Тургенев, Горький – ну? Похожи?» – и победно смеялся.
Все спали – мне некому было показывать своего «Державина». Но я и не хотел ничего показывать. Я просто открыл журнал и стал читать. Но теперь я читал отчужденно, холодно, как постороннюю мне вещь. И вдруг музыка, звучащая во мне, стала глохнуть, глохнуть и исчезла совсем.
Я больно споткнулся о первую шероховатость. Это было так, как будто в темноте я налетел на косяк. Я даже ошалел немного, но потом так же я налетел и на вторую, и на третью промашку. Ясный, трезвый типографский текст обнажил все – и я увидел свои недоглядки, излишества, неуклюжесть оборотов, казенную гладкопись, невыразительную и бойкую скороговорку.
Тогда я взял лист бумаги и снова стал читать кусок с начала, делая пометки. Марать сигнальный экземпляр я не решался: а вдруг потребуют назад. Так и сидел и корпел, пока не услышал, что по улице идут, громко разговаривают и смеются.
Тогда я встал и вышел во двор. Все было белым-бело. За ночь выпал первый мягкий снежок и закрыл всю грязь и лужи. Деревья стояли тихие и мягкие, и нарядные – на них висели большие снежные гроздья. Сейчас в тени они казались голубоватыми. Значит, я не заметил, что просидел всю ночь, но спать не хотелось. Я весь был в ясном, не терпящем отсрочки настроении готовности. И еще я испытывал тихую радость творенья, какое-то новое сознание себя, что-то появившееся во мне совсем недавно, может быть, даже сегодняшней ночью.
Так я постоял и посмотрел и пошел к себе – надо было работать. И я знал, как это неотложно.
...Через три месяца в журнале начал печататься мой роман под несколько странным, но вполне понятным для меня заглавием – «Крушение империи» (можно было, конечно, спросить, какое же крушение царской России подразумевает автор романа, говоря о веке Екатерины, – но в этом заглавии для меня и заключалась основная идея произведения). Теперь в нем было уже не сорок, а двести с чем-то страниц. Да и большая часть тех сорока была мной переписана сызнова. Скоро вышло и отдельное издание с иллюстрациями Заковряшина.
Вот все это, взятое вместе, и было редким счастьем, необычайным везением, выпавшим однажды на мою долю, – в знойное лето и тихую южную зиму 1937-го – тревожного, напряженного и, конечно, уже предвоенного года. Так что в этом отношении я ничего не солгал своему автору. Вот только слова о том, что роман «прошел без сучка и задоринки», были безусловно лишние – два месяца я строгал, вырезал, убирал эти проклятые сучки и задоринки. Набил себе даже мозоль на пальце, и все равно некоторые из сучков торчат и до сих пор.
Вот что я мог бы рассказать своему недовольному автору в ответ на его настойчивый вопрос – бывает ли в жизни такое?
Да, раз в жизни и такое бывает, конечно.
Июль 1973 г.








