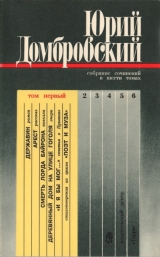
Текст книги "Собрание сочинений в шести томах. Том первый"
Автор книги: Юрий Домбровский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
1 глава
В начале апреля 1937 года в один из ярчайших, сверкающих стеклянным блеском дней – как же отчетливо я его помню! – вдруг определилась моя судьба. Я наконец, как тогда говорили, «насмелился» – явился в редакцию альманаха «Литературный Казахстан» и положил перед секретарем редакции свой первый опыт – «роман» «Державин». Оба эти слова приходится сейчас поневоле брать в кавычки – в моем «романе» было не то 40, не то 45 страниц, на большее меня тогда не хватило.
Редакция альманаха, «Литературный Казахстан» помещалась в дощатом доме в половине небольшой комнаты, узкой и вытянутой, как коридор.
В Алма-Ате тогда стояло много вот таких времянок – не то дач, не то бараков – остатков первого строительства конца 20-х годов, тех лет, когда сюда перенесли столицу Казахстана.
Город бурно рос – не так давно был закончен Турксиб, развертывалось огромное строительство, на пустырях и казачьих полигонах вдруг возникали жилые корпуса, правительственные учреждения, многоэтажные школы; были построены здания телеграфа, Совнаркома, Дом наркоматов (в нем помещалось их сразу несколько), гостиница, управление Турксиба, но и старые лубяные коробочки тоже стояли нетронутыми. Так вот именно в такой постройке рядом со сберкассой наискосок парка и собора и размещалась редакция.
В первой половине комнаты сидела профсоюзная секретарь-машинистка и печатала свои сводки, во второй же половине, у окна, выходящего на двор, висела написанная от руки картоночка: «Редакция литературно-публицистического альманаха». В то время его штат состоял из ответственного редактора М. Каратаева, ответственного секретаря Ивана Бочарникова и заведующего прозой Гайши Шариповой. Вот эти три человека и делали альманах. Я до сих пор вспоминаю о каждом из них с чувством глубокой благодарности. Ведь именно они поочередно держали в руках мой первый литературный труд – те сорок листков, перепечатанных на машинке, которые я с великой развязностью (и со смешком даже) принес и выложил на стол.
– Что это? – спросил ответственный секретарь Ваня Бочарников, листая мою немощную рукопись.
Был он полный, добродушный, по виду рыхловатый, а на самом деле очень крепкий и, как мне сейчас кажется, походил на Пьера Безухова, или – еще ближе (хотя и специальнее) – на изобретателя первого электромагнитного телеграфа Шиллинга, как его однажды нарисовал Пушкин.
– Роман? – он поглядел на меня с некоторым недоумением. – Так тут же всего сорок страниц? Это о чем же?
Я сказал.
– О юности поэта Державина.
– Как Державина?
Тут он вскинул кудластую голову, и в его добродушных и умных глазах так и запрыгали смешинки. Несколько секунд он неподвижно смотрел на меня, и я как-то физически ясно, отчетливо почувствовал, что вертится у него на языке: «А собственно, на кой дьявол нашему альманаху нужен ваш «Державин»? Может быть, при этом он вспомнил еще и оду «Фелица», стихи, посвященные Екатерине: «Богоподобныя царевна киргиз-кайсацкия орды...», оду «Бог», еще что-нибудь подобное и совсем стал в тупик. Роман о таком поэте для альманаха, выходящего в Алма-Ате? Но он ничего не сказал больше, а только открыл первую страницу и стал ее читать. Прочитал до конца, заглянул в середину, затем в конец и громко прочитал мою фамилию.
– Это ваш подвал о государственной библиотеке в «Казахстанской правде»? – спросил он.
Подвал был мой, и крови тогда он мне испортил преизрядно. Я написал о великих книжных богатствах иностранного отдела библиотеки и о том, как они небрежно и бесхозяйственно хранятся. Главный упор, конечно, был именно на книжные богатства (первые издания Галилея, Эразма Роттердамского, Торквато Тассо), а о небрежении и о недостаточной укомплектованности отдела (работала там только одна заведующая, да и то «безъязычная») говорилось мимоходом, в последней строке. Но ученый секретарь библиотеки – дама злая, неблагожелательная и насмерть чем-то перепуганная – все равно сочла эту несчастную строку за «выпад» и произвела ряд острых демаршей – и по телефону, и лично. Я однажды уже довольно подробно и правдиво рассказал об этом, и повторяться мне не хочется. Как бы там ни было, скандал получился изрядный. Дама бегала, звонила, грозила, но никаких результатов не добилась. Подписывал тогда газету и дельный редактор – Николай Александрович Верховский, талантливый очеркист и вообще человек во всех отношениях незаурядный, – но оскомину эта история набила у меня на всю жизнь. Я тогда серьезно приуныл, и тут меня очень поддержал тот же Николай Александрович.
– Ну-ну, голову не вешать! – бодро прикрикнул он, встретив меня в коридоре. – Хорошо, правильно написали, о статье говорят – значит, толк будет! Дело вы сделали! А то, что эта самая бегает – ну так это же... – он широко отмахнулся, засмеялся и прошел – невысокий, широкоплечий человек лет тридцати пяти в роговых очках и мягкой шляпе. Через много-много лет мы повстречались с ним в редакции «Нового мира». Он печатал там серию очерков о целине (великолепную по своей деловитости и живости прозу), и при встрече этой оказался все тем же собранным широкоплечим добродушным человеком. Встретившись, мы сразу заговорили о прошлом, об Алма-Ате, о «Казправде» тех лет, об этой моей статье и, наконец, о его сотруднике – незабвенном и незаменимом заве отдела культуры Михаиле Воронцове – о нем мне сейчас придется говорить – и тогда обоим нам стало вдруг так хорошо и тепло, что как-то само собой мы решили этот вечер провести вместе. Я предложил пойти в дом, где у меня в ту пору было крепкое и давнее знакомство. Он согласился. Мы пошли. По дороге я его спросил: не удивительно ли, что гениальные пушкинское строки «мне грустно и легко – печаль моя светла, печаль моя полна тобою» прежде всего относятся не к неведомой нам «ей», а к прошлому поэта. Ведь вот нам тоже сейчас грустно и легко, и не поймешь даже, отчего так. Он неопределенно хмыкнул и перевел разговор на другое. А через час вдруг заговорил об этом же сам.
– Не знаю, – сказал он медленно и задумчиво, – сам думал об этом «грустно и легко», но... не знаю! Вот после того, как вышел на пенсию, я стал набрасывать что-то из прошлого. Не мемуары, нет, бог с ними! Куда мне! А так – всякие заметочки о нашем городе, революции, тогдашнем комсомоле. Ведь городок-то, в каком я родился, был крошечный – Галич, – а сколько я в нем всего пережил! Так ведь жаль, если все это пропадет-то! И вот представляете, пишу и испытываю то же самое – грустно и легко. А потом я подумал, что это, пожалуй, законно – легко, потому что вспоминаю молодость, ну а грустно оттого, что она прошла, и вот я старик, пенсионер, седина... Может быть, так, а?
Он сидел за столом, тянул рислинг и смотрел мне в лицо умными, живыми и ничуть не печальными глазами. Мир праху вашему, Николай Александрович, талантливый писатель, прекрасный редактор и просто добрый, честный человек! Потом я узнал кое-что из его прошлого. Воспоминания Верховский все-таки написал, и они появились уже посмертно в 8 номере «Нового мира» за 1970 год под заглавием «В лесном Заволжье». Во вступительной заметке к публикации редакция писала: «Николай Александрович Верховский (1902-1969) – публицист и очеркист – хорошо знаком читателю «Нового мира».
...Он прошел нелегкий путь и в жизни и в журналистике. Комсомолец с 20-го года и с 1925 – коммунист, А. Верховский сохранил до последнего своего часа молодость духа, по-хорошему беспокойный характер, не дававший ему – уже далеко не молодому человеку – безучастно взирать на недостатки, равнодушно проходить мимо нового, замечательного в нашей действительности.
Незадолго до своей кончины, словно чуя ее, Николай Александрович побывал в родных верхневолжских краях, где прошла его боевая комсомольская юность, и принес в редакцию свои очерки.
Печатая эти его посмертные очерки, редакция отдала должное его памяти, памяти литератора-большевика».
«Люблю страну отцов – родную землю, горжусь богатой родословной своего исконно русского древнего Галича», – так начиналась эта его последняя статья. А у Алма-Аты, в которой он жил и работал, не было богатой родословной, и поэтому он просто любил ее – и все! Как любил и знал весь Казахстан целиком. Ведь в родном городе Галиче он (и то как бы предчувствуя конец) побывал только перед самой смертью, а в Казахстане прожил последние сорок лет и всегда возвращался к нему, как бы далеко ни забрасывала его судьба (а она к нему не была доброй!). Но тогда, летом 1937 года, я знал только то, что редактору пришлось из-за меня не то с кем-то разговаривать, не то даже писать какую-то объяснительную, и поэтому, когда Бочарников спросил о статье, я даже смутился. Статью все хвалили, но продолжали считать ее – как бы сказать? – скандальной, что ли! Не то я что-то в ней напутал, не то кого-то не того задел, не то неловко выразился. В общем, я молча кивнул головой, и тут Бочарников рассмеялся.
– Прекрасная статья! – сказал он раскатисто. – Я эту статью в «Труде» напечатал бы! Интересная статья!
И тут я узнал от него, что он спецкор «Труда» по Казахстану, а в этой профсоюзной комнате появился как бы по совместительству. Прежний ответственный секретарь Всеволод Вязовский не то сбежал, не то еще что-то с ним случилось, в общем, он поехал в отпуск на Украину, да так и не вернулся, альманах остался фактически беспризорным. Правда, был еще редактор М. Каратаев, но он состоял председателем Союза писателей Казахстана и мог уделять журналу только считанные часы в неделю – вот Бочарникова и попросили помочь; просто сказали: бери редакционный портфель, садись и принимай почту, людей, разговаривай с начинающими, а там посмотрим, как и что, и добрый человек Ваня Бочарников пришел, забрал портфель, сел и вот сидит здесь второй месяц, и непонятно, что будет дальше – так, по крайней мере, я понял сложившуюся ситуацию и искренне посочувствовал ему. Он слегка пожал плечами – что, мол, поделаешь? – и снова стал листать мою рукопись. Листал и по временам остро взглядывал на меня. Тут я понял, что он одновременно как бы делает три дела: с профессиональной быстротой и сноровкою просматривает рукопись, выхватывая то абзац, то десяток строк, разговаривает со мной, размышляет, что ему делать со мной дальше: может быть, просто отослать меня с рукописью в КИХЛ – Казахстанское издательство художественной литературы это ведь его дело издавать исторические романы. «Державин, Державин», бормотал он задумчиво. – «Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил». Ну как же, как же, еще у Репина есть такая картина! В этом году был юбилей! А где это тут у вас? – он остановился и прочел самый конец: «Стоп! тридцатая верста! Ветер бил в лицо, и вереск под ветром звенел как стеклянный. Жизнь или смерть? Он сломал печать на пакете. Конец». Почему же конец? Где же лицей? Пушкин-то где?
Я ответил ему, что это еще не тот Державин, мой Державин стихов не пишет. Разве так что-то кропает себе в тетрадь.
– Так что же, разве их два было? – спросил он озадаченно. – А вот этот кто же такой?
Я ответил, что нет. Державин-то был один, Гаврила Романович, но тут он еще не старик, а молодой, ему не стукнуло и тридцати.
– Тридцать, это уже не молодой! – резонно ответил мне Бочарников, молодой, это до тридцати (ему недавно самому стукнуло тридцать), – ну и что же он у вас тут делает? И при чем степь? Зачем печать на пакете?
Я объяснил ему, что тут он у меня поручик. Родился, живет и служит в Казани. Хочет сделать карьеру, попасть в «случай». – А время-то подходящее: пугачевщина, паника, войска бегут, и вот поручик предлагает генералу Бибикову, который возглавляет правительственную комиссию, похитить Пугачева. Подослать к нему лазутчиков, заманить и схватить. Из этого, как известно, ничего не вышло. Державин ловчил, хитрил, интриговал, а в результате совсем запутался, рассорился со всеми, насвоевольничал, а тут и его покровитель Бибиков умер, и новый генерал обещал повесить поручика на одном суку с Пугачевым. К счастью, и из этого тоже ничего не получилось. Державин бросил все и уехал в Петербург. На этом и должен кончаться роман о молодом карьеристе. Я же представил только начало – сорок страниц.
– Ага, так это, значит, не конец, а начало, – понял Бочарников. – А до конца-то еще ого-го! Как говорится, «курочка в гнезде», – он закрыл папку с рукописью, подержал ее на весу, как бы примериваясь, что с ней делать: то ли мне возвратить, то ли показывать еще кому – и вдруг решительно сунул в портфель.
– Ладно, – сказал он. – Дам кое-кому, посмотрим. Заходите через недельку, – еще посмотрел на меня, подумал что-то и спросил, где я работаю. В библиотеке или меня уволили оттуда? Я сказал, что в библиотеке я не работаю, я преподаю литературу в старших классах.
– А-а, – засмеялся он. – Так вот откуда у вас Державин. Да, да, теперь его опять проходят в школе. «Науки юношей питают, отраду старцам подают» и еще там что-то о Невтонах...
Я ответил, что это не Державин, а Ломоносов.
– Да? – добродушно удивился он. – Все забыл!
Он встал и взял портфель.
– Так, значит, прошу дней через десять. Будет заведующая отделом. Поговорите.
Я поблагодарил и вышел. Профсоюзная машинистка вдруг оторвала лицо от «ремингтона» и посмотрела на меня насмешливо и недоброжелательно. Она, повторяю, работала в одной комнате с редакцией и всю пишущую братию – да еще такую, похожую на меня, – терпеть не могла. Я вышел с большой неуверенностью в душе. Но все равно в этот день судьба моя уже была решена, и я смутно почувствовал это.
Сейчас, дойдя до этого места, я вдруг понял, каким образом альманах очутился в помещении профсоюза водников. Все, очевидно, произошло как бы само собой, Бочарников состоял корреспондентом центрального органа ВЦСПС газеты «Труд», и в этой профсоюзной комнате помещался его корреспондентский пункт. Понятно, что, став внезапно ответственным секретарем альманаха, он и все это имущество перетащил к себе в эту комнату – благо и имущества-то было всего один портфель с рукописями. Ваня Бочарников легко таскал его с собой.
Расставаясь с ним, мне хочется сказать ему на прощанье несколько теплых слов. Я не знаю твоих талантов, Ваня, потому что никогда не читал твоих корреспонденции, но ты был очень хорошим, доброжелательным человеком. Да будет же мир тебе, дорогой мой товарищ и первый мой редактор! Время, в которое мы жили, было трудное, отношения между людьми сложные, а сами люди... Да нет! Мне очень трудно, прямо-таки невозможно говорить о людях этой поры – я ведь тоже был одним из них. Во всяком случае, это были совсем не те люди, которые сегодня вас окружают, мои читатели. Очень, очень многое мы должны были тогда вынести на своих плечах. Война, т. е. угроза ее, ее неизбежность ощущалась нами почти физически. Она нависала, давила, ползла на нас из всех углов – и с Дальнего Востока, и с ближнего Запада. Не было такого номера газеты, в которой бы не писалось о войне. Политическая картина мира была так угрожающе ясна, что опытные международники угадывали будущее почти безошибочно. У меня чудом сохранилась старая вырезка из «Известий» от 17 январи 1937 года. «Германия собирается взорваться, – писал обозреватель. – Германская печать проводит усиленную подготовку к захвату Чехословакии... Абиссиния, Испания, Марокко... Кто на очереди сейчас? Чехословакия? Данциг?..» Тут даже и очередность была угадана совершенно точно. Вот и мы тоже ждали – кто же на очереди? И все-таки, несмотря на это, мы жили полной жизнью и были неплохими людьми и товарищами. А ты, Ваня Бочарников, был среди лучших. И с каким же горьким чувством я прочел в том же «Труде» несколько лет назад траурное сообщение, что умер собственный корреспондент газеты И. Бочарников. Поверь, мне тогда сделалось по-настоящему больно. Да что делать? Все не так просто на свете. Нам так и не удалось увидеться с тобой вторично и вспомнить о прошлом...
В этот же день я устроил новую акцию. Отнес рукопись на консультацию моему доброму знакомому и шефу Михаилу Воронцову. То есть мне, конечно, надлежало отнести ее еще раньше, но я все не решался. И не потому, что боялся строгого суда, а от той совершенно как будто пустяшной причины, что был просто не в силах оставить рукопись, расстаться с ней, хотя бы на день. Еще бы! Я в первый раз держал в руках свое произведение, отпечатанное на машинке! Да как еще отпечатанное! На отличной бумаге, с широкими полями и интервалами, черной четкой печатью. Мне казалось, что она прямо-таки испускает сияние... Так могут выглядеть только шикарные издания инфолио. Я таскал с собой рукопись всюду, и даже когда пошел однажды в самый шикарный ресторан, то тоже прихватил ее с собой. Я сидел, пил пиво, а рукопись лежала передо мной, и я ее все время перечитывал. Увидел знакомого редакционного работника, составителя первого сборника казахских сказок Леонида Малюгу подозвал его и показал рукопись. Тот присел к моему столику, прочитал несколько страниц и похвалил. Пришел художник Казахского театра оперы и балета имени Абая – Анатолий Ненашев (в следующем году он получил золотую медаль на Всемирной выставке в Париже за макет к опере «Айман-Шолпан») – я и его подозвал. Он тоже присел, почитал, полистал «роман» и тоже похвалил, а потом заглянул в конец и сказал мечтательно: «Эх, и декорации я тебе бы оторвал! Представляешь: все бело, и небо, и степь – не за что зацепиться глазу, но как часовые до горизонта торчат полосатые версты. А метель, метель! – тут, конечно, надо подключить осветителя – на горизонте ходят и сталкиваются белые столбы света. И прямо из них на зрителя несется гонец. Динь-динь-динь!!! Нет, представляешь? Слушай, – загорелся он вдруг, – сделай из этого оперу, а? Ведь такой букет: Пугачев, Екатерина, Потемкин, Суворов, Державин... Представляешь? А музыка... Музыканты! С одной стороны менуэты, а с другой пугачевцы. – «Дрн, дрн, дрн!» Топоры, косы, дубинки! Или налет башкирской конницы! Бег коней! Несутся, несутся, несутся! – Представляешь?»
Вот так я и таскал за собой рукопись дня три, пока не решил снести ее в редакцию альманаха. Но снес-то я ведь первый, так сказать, заглавный экземпляр, а у меня же остался еще второй и третий, тоже достаточно хорошие. Вот с этим вторым экземпляром я и пошел к Воронцову. Жил он около Головного арыка, т. е., по тогдашнему нашему понятию, на самом краю света. Дальше даже и фонари не горели. Дальше чернело огромное поле, заросшее колючками и изрытое болотистыми ямами с зеленой и синей тиной. Отсюда и начинался не обозначенный ни на каких картах знаменитый город Нахаловка (или Порт-Артур, кому уж как нравится). Состоял он из землянок, домов, сложенных из фанерных щитов, и камышитовых времянок. Все это ветхое, шаткое, гудящее под ветром, заливаемое дождями, ползло и рушилось после осенних ливней. В городе этом после захода солнца всегда стояла сырая тьма, ибо там не было не только фонарей, но даже и освещенных окон. Впрочем, не было там и многого другого улиц, адресов, номеров домов, а под ночь даже, как ни странно, и людей. Все обитатели его, даже собаки и кошки, с наступлением темноты не то проваливались под землю, не то убегали из города. Мне пару раз приходилось проходить тут ночью, и я ни разу не встретил ни одного живого существа. Сейчас этот квадрат, пожалуй, самая оживленная и залитая светом часть города. Тут цирк, огромный кинотеатр, несколько институтов, сельскохозяйственная выставка. Все это так не вяжется с моим старым представлением об этом месте, что я до сих пор не могу отделаться от странного чувства – да полно, не перепутал ли я чего-то? Так вот, около самого Головного арыка в редакционном доме, похожем на большую дачу, и жил мой редактор Михаил Павлович Воронцов. О нем стоит написать подробнее.
Он был личностью примечательной. Был он тогда старше меня лет на пять, работал, как я уже сказал, в «Казахстанской правде», заведовал там отделом культуры. В редакции его ценили за легкое и быстрое перо, дружбу с редактором – он звал его папашей, – за то, что он кончил, кажется, Ленинградский институт журналистики, за красивые большие очки в чудесной оправе и модный костюм цвета гнилой древесины с дымом из японского коверкота, а вообще за то, что он настоящий свойский парень. Писать Воронцов действительно умел, и читать его было интересно. Но газетная работа его не удовлетворяла, он все время собирался что-то создавать: то ли повесть о своей любви, то ли драму из студенческой жизни, даже, кажется, начинал что-то подобное, но у него так ничего и не вышло. Во-первых, несмотря на свою легкость и оперативность, был Михаил Павлович все-таки изрядно ленив и на большую, никем не заказанную и не оплачиваемую работу пороху у него не хватило бы, а во-вторых, он никогда и не чувствовал себя творцом, не было у него сумасшедшего зуда души, когда хочется сорвать крышку черепа и хорошенько продрать мозги ногтями, или убежать от всех, схватить лист бумаги и, забыв весь мир, писать, марать, рвать, ругаться, всех ненавидеть, но сделать, сделать, сделать! Вот этих безумных качеств у него не было никогда.
Характера Михаил Павлович был легкого, компанейского. Любил посидеть, поговорить, послушать, сам рассказать что-нибудь такое-этакое из своей жизни, и постоянно таскал за собой не совсем понятный припев: «Ой дую, дую, мистер Дудль!» с резким обрывистым «л» на конце. Кроме всего прочего, он был просто красивый парень – рослый, кудрявый, как Есенин, только не блондин, а каштановый шатен, и жену Раю имел такую же веселую и красивую. Она была опытной линотиписткой и зарабатывала не меньше его. Зайти к ним всегда было приятно и интересно. Кроме того, Михаил Воронцов с какой-то стороны был моим крестным. Это ему я принес свою первую заметку-рецензию на фильм «Приключения Тома Сойера» и затем через короткое время другую – на «Женитьбу». Обе они были приняты и быстро напечатаны, и я тогда почувствовал себя приобщенным к великому таинству – рождению республиканской газеты. А когда Воронцов заказал мне сначала статью о Кюхельбекере, потом о Батюшкове и под конец подвал о Жан-Жаке Руссо (то были все юбилейные даты), и это появилось в газете, – я уже сам по собственной инициативе размахнулся на статью о сокровищах республиканской библиотеки. А когда и ее напечатали, решил, что приспело время приступить к давно задуманному мной роману. Так что по всем статьям к первому я должен был явиться именно к Воронцову. Кроме того, что я терял, если бы даже он изругал меня? Рукопись уже была сдана, мосты сожжены, пути назад не было.
Я позвонил – и мне отворили сразу двое: Воронцов и его друг по институту – Николай Д. Я с ним недавно познакомился, он ненадолго приехал к Воронцову и поселился у него.
– А! – закричал Воронцов так, как будто я действительно был долгожданный, запоздавший гость. – Заходите, заходите! Самое время! Рая уж в ларек пошла.
– Я роман вам принес, – сказал я, – почитать хочу. Не против?
– А, это тот роман о Пугачеве? И Державине? – засмеялся Воронцов. – Ну-ну, ну! Конечно, прочитайте. Правда, Николай?
– Я с удовольствием послушаю, – сказал его друг и отодвинулся, пропуская меня.
А тут уж подходила и веселая, смеющаяся Рая с туго набитым баулом.
Мы прошли в столовую. Рая расставила бутылки, достала стаканы.
– Нет, сначала послушаем, – сказал Воронцов. – Садись, Рая. Начинайте. Молчание! Слушаем!
Я начал. Это было мое первое публичное чтение: меня же слушали три человека!
2 глава
Тут мне хочется сказать несколько слов о романе и его герое. Оговариваюсь, отлично понимаю, что здесь это слово звучит попросту несерьезно. Ведь речь идет о произведении всего-навсего на 8 печатных листах, да притом еще и неоконченном, но что поделать? Во-первых, я тогда действительно замахнулся на роман, а во-вторых, у вещи этой менялось заглавие – в журнале она пошла под названием «Крушение империи», – но подзаголовок оставался неизменным. Итак, роман «Державин». Я его не дописал, не хватило ни сил, ни умения. Основная идея – преображающая сила творчества, власть творенья над творцом – требовала таких средств выражения, которых у меня тогда не было (не знаю, впрочем, есть ли они у меня и сейчас). На пушкинский вопрос: гений и злодейство – две вещи совместные ли ? – я задумал твердо ответить: нет! Ни в коем случае! Молодой Державин подходил для этого как нельзя более. В самом деле, не сходя, как говорится в ученых статьях, с твердой почвы фактов, невозможно понять, почему умный, дошлый, разбитной и довольно-таки бессовестный армеец, готовый пуститься во все тяжкие, оказался совершенно беспомощным, как только принялся за дело. Что он, этот народ не знал? В этих краях не жил? Да преотлично знал! Тут родился, вырос, жил и, как только получил свободу рук, так сразу просто закипел в действии. Он и убийц подбирал, снаряжал и подсылал к Пугачеву и заволжских старцев и, как въехал на коне, так сразу же целую мятежную деревню перепорол, мало этого, даже разработал обряд особой театрализированной казни – ночью в лесу рядом с церковным амвоном перед мокрым от страха попом вздернул двух бунтовщиков, а других заставил, стоя на коленях, бить лбами и целовать крест на верность. (»И. И. Дмитриев уверял, что Державин повесил сих двух мужичков более из поэтического любопытства, чем по необходимости», – писал об этом Пушкин. Ну чем не Буонаротти из «Моцарта и Сальери»?) Словом, был он до крайности деятельным, а получился из всего этого пшик! Под конец главнокомандующий, как я уже говорил, даже сулил вздернуть его на одном суку с Пугачевым. И самое главное – это было не просто проклятое невезение, не тяжелое стечение обстоятельств, а Рок, прообраз всей дальнейшей его жизни. Вот он приближен, взыскан, титулован, высочайше обласкан и ободрен, державная ручка возводит его все выше, выше! – иди, поэт! Гряди, поэт! И поэт, как во сне, начинает взбираться – один марш лестницы, другой – вот он уж так высоко, что скоро и лезть будет некуда, но р-р-раз! – и сорвался, и покатился с грохотом по ступенькам. Почему? Характер? «Я горяч и в правде черт»? Да, конечно, и это было; с кем-то разругался, с кем-то что-то не поделил, а раз в споре, забывшись, даже дернул императрицу за мантилью (»Посидите тут. Этот господин слишком уж распускает руки», – сказала она по этому случаю вбежавшему придворному), но главное все-таки не в этом. Главное в том, что как ни обещал придворный поэт Державин: «Самодержавства жезл железный Своей щедротой позлащу», – ничего доброго из этого не вышло. Писал, да не то. В результате с Фелицей не сработались, с Павлом рассорился, а Александра Первого так даже и очень больно задел: в оде намекнул ему на убийство отца. В результате – отставка – Шлафрок, Колпак, Именье «Званка» и послание «Жизнь званская». Все! Конец! Вот так представлялась мне жизнь Державина. Сейчас, сквозь магический кристалл годов и пережитого, я вижу, конечно, всю искусственность этой схемы, как вообще любой схемы и модели жизни любого из нас. Ведь человек всегда больше процесс, чем явление. Войти в него – это все равно что войти в сиюминутную гераклитовскую реку. А Державин, к тому же, был еще очень особым явлением. Есть люди-острова, есть люди-архипелаги, есть люди-материки. Державин был весь материковый, весь из одного куска, независимый ни от кого. «Един Бог, един Державин», – поучал он совершенно серьезно своего швейцара. Кажется, большей заземленности и представить нельзя, а между тем никто из его современников не имел такого чувства космоса и космического, как он. Да, Ломоносов тоже «умными очами» окидывал всю вселенную, но он был химик, физик, астроном и даже как поэт все высчитывал, вымеривал, выглядывал и порою в стихах угадывал больше, чем в трактатах (пример – его знаменитая картина солнечных протуберанцев). Но космос у него был безжизненный, ледяной и огненный. Когда же Державин поднимался туда же – в мир бесконечно больших величин, перед ним открывался совершенно иной космос – глубоко человечный, одухотворенный, не отрешенный от нас на миллиарды верст, а простирающийся от неподвижных звезд до души человеческой. «Я в прахе телом истлеваю, умом громам повелеваю. Я – червь, я – раб, я – царь, я – бог». Ломоносов так никогда бы не сказал. Эта великолепная диалектика просто не пришла бы ему в голову. Державин писал и о смерти. Страшно писал. Очень достоверно и так страшно, как вряд ли кто-то писал не только до него, но и после. И все-таки тягостного чувства после этих стихов его не остается. Это чистейшая поэзия, и она побеждает все... Даже ужас смерти. Он был косноязычен, этот величайший лирик века, но когда он говорил о сложнейших вещах и понятиях, его всегда понимали все.
Во время моего детства любимым анекдотом в учебниках словесности было то, что стихи Державина китайский император приказал написать на стенах своего дворца. Так вот разве такой поэт мог долго выносить с собой рядом неудачливого авантюриста, безжалостного усмирителя, просто заплечных дел мастера? Совесть – орудие производства писателя. Нет у него этого орудия – и ничего у него нет. Вся художественная ткань крошится и сыплется при первом прикосновении. Все это я понимал, но как написать об этом – не знал, и бросил роман на первой части. Однако, это совсем не значило, что я сразу же сдался! Нет, куда там! Все, что положено настоящему писателю: все муки творчества, бессонные ночи, вечно возбужденное и раздраженное до болезненности состояние, все симптомы отравления словом, вплоть до безнадежности и неуважения к себе – все это я пережил с величайшей остротой. Мне и сейчас неприятно вспоминать об этих днях. Главное – я никогда не думал, что проза обыкновенная «смирная проза» – так невероятно трудна и упряма. В мою бытность на высших литературных курсах в ходу была фраза француза Альбаля из самоучителя для начинающих (прекрасная книга! Совсем не то, что бойкие пособия на эту же тему Г. Шенгели, А. Крайского, Я. Абрамовича):
«Ты хочешь сказать, что ночью шел дождь, – ну вот и напиши: «Ночью прошел дождь»... Это казалось мне такой бесспорной истиной, что я не сомневался: – сяду, начну писать – и пошло у меня, пошло... Месяц, два – и готов роман. Именно поэтому, презирая легкость задачи, я и не брался за прозу – она-то, мол, никуда от меня не уйдет. Иное дело стихи. В ту пору стихи писали все мои сокурсники. Бешено, запойно, дерзко. Тут требовалось одно – четко знать, к кому, к какой аудитории ты обращаешься. Ибо одна аудитория была у пролетарских поэтов – Демьяна Бедного, Полетаева, Жарова, Безыменского, Казина (сюда же, но по другой линии примыкал Леф и Маяковский), – другая у Есенина и у «мужиковствующей стаи», и третья – у «рефине» П. Антокольского, Б. Пастернака, О. Мандельштама, Н. Заболоцкого. Из них я полностью понимал и принимал только П. Антокольского. Пастернака хвалил, конечно, но потому, что так уж полагалось в моем кругу. Мимо О. Мандельштама проходил равнодушно и молча (боже мой, как все это переменилось и переломалось во мне уже через несколько лет!). Это были те баснословные времена, когда на могиле Есенина кончали самоубийством девушки, Ахматова считалась такой же архаикой и дряблой стариной, как и Вертинский, Цветаева или Бунин, а Сельвинского знали немногие и то понаслышке. Печатался не он, а пародии на него.








