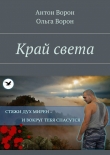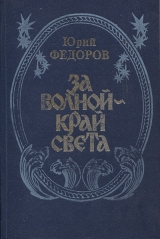
Текст книги "За волной - край света"
Автор книги: Юрий Федоров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
– Ивана Голикова слуга. По хозяину и шапку ломает.
– А что Иван Голиков?—возразил комнатный человек.– Был, да весь вышел. Капитал дочкам роздал. Сам по церквам да монастырям поклоны бьет.
– Больно наплутовал?
– Не знаю, но раз молится – значит, есть о чем бога просить.
– Крючок, говоришь?
– Да хотя бы и крючок,– закивал головой комнатный человек.
– Так,– протянул Тимофей и надолго уставился в окно, будто увидел там важное.
Пельмени на столе истекали ароматным парком.
Старик помолчал, сказал со вздохом:
– Пришла беда – пойдет косяком...
– Закаркал!– Тимофей отвел взгляд от окна, посмотрел зло на старика.– Беда, беда... Дело-то вон как разворачивается на новых землях. Какая беда?
– Э-э-э,– протянул комнатный человек,– худо ты соображаешь! Развора-а-а-чивается...– передразнил Тимофея,– поглядишь, скоро как заворачиваться начнет. Али я не слышу, как вякают по Иркутску купцы?
Тимофей, не найдя что ответить старику, подвинул тарелку с пельменями. Хотел было пугнуть крепким словом, но знал, что тот душой болеет за хозяина, промолчал. Минуты две-три в комнате стояла тишина. Наконец Тимофей, так и не притронувшись к пельменям, сказал:
Ничего, поправим дело. Есть у меня думка, есть.
* * *
В конторе, несмотря на ранний час, были люди. Отворив дверь, Григорий Иванович увидел, как новый приказчик, иркутский купец Поляков, острослов и книгочей, встряхивая пышными волосами, о чем-то оживленно говорил сидящим на лавке пайщикам компании: Михайле Сибирякову и братьям Петру и Ивану Мичуриным, похожим друг на друга, как близнецы.
Поляков, увидев Шелихова, оборотился к нему, воскликнул:
Вот и Григорий Иванович!– кивнул на купцов:– Я им о нашем разговоре насчет Курильских островов говорю...
– Постой, постой,– остановил его Григорий Иванович, шагнул к столу и довольной рукой, широко, по-царски, выложил перед купцами привезенные Тимофеем бруски и медную плаху,– подарок от Александра Андреевича Баранова.
– Неужто металл?– изумился Поляков, подхватил бруски,– Металл. Ну, Баранов, ну, Александр Андреевич!
Младший из Мичуриных, длиннолицый Иван, колупнул медную доску ногтем, поднял глаза на Шелихова:
– Он что, колокола будет для тамошних дикарей отливать? Так они вроде в нашего бога не верят?
Петр, старший, ткнул его в бок локтем:
– Молчи, коли не соображаешь.
Младший поджал губы. Насупился. А вообще-то братья Мичурины были незлобливы, жили промеж собой дружно и купцы были дельные. Вступив во владение капиталом, несмотря на кажущуюся нерасторопность, за дело взялись умно и хватко. Но да Мичурины были известны в Иркутске как народ крепкий, и успехи братьев никого не удивили. В кампании Шелихова имели они по два пая и в интересы новоземельские влазили с головой, ломились, как медведь в медовую колоду.
Вроде и сухопутные люди были – деды и прадеды на земле сидели, а их море за живое зацепило. Знать, был в крови огонек первооткрывательства! Да оно и понятно: в Сибири, почитай, у каждого из-за спины землепроходец выглядывает. Народ здесь бедовый.
О металле Иван шлепнул так, не подумав. Был он человеком далеко не глупым.
Шелихов достал письмо Баранова, прочел о том, что спустили на воду судно. Это и вовсе всех обрадовало.
Поляков, подбрасывая медную плаху в ладонях, сказал:
– Непременно надо к губернатору. Штука сия тянет поболее шкурок. Под такие козыри надо выбить, чтобы еще людей дали на новые земли.
На том и порешили: идти в губернаторство и просить людей. Стоять на своем твердо.
– Такого,– Поляков все баюкал в ладонях медную плаху,– с новых земель никто иной не привезет.
Подарок Баранова разбудил самые горячие мечты:
– Мы металл и на дальние острова повезем,– с надеждой сказал Шелихов,– а то меха, меха. Убежден – нужда великая объявится в таком товаре. Металл всем надобен.– Отодвинул в сторону бруски.
– Ладно,– сказал,– это впереди.– Посмотрел на купцов.– О чем разговор вели, когда я пришел? Ты,– глянул на Полякова,– больно горячился?
– О Курилах говорили.
– Что говорить,– Шелихов положил руки на стол и, оглядев купцов, сказал:– Много говорить – ничего не делать. Надо Русь потихоньку на Курилах заводить. Вот по весне и пошлем галиот.– Оборотился к братьям Мичуриным:– Вам заняться след подготовкой сей экспедиции. В Питербурх поедете, в Москву.
– Это дело,– такое мы мигом.
– Здесь не мигом, но с толком надо,– возразил Григорий Иванович,– спешка ни к чему. У нас зима впереди. Успеем, ежели по-хорошему.– Повернулся к Полякову:– Мы намедни прикидывали, что для экспедиции надобно.
Приказчик подвинул по столу исписанный лист. Шелихов взял лист, глянул, передал братьям.
– Вроде бы все обдумали, но вы поглядите. Может, что и забыли.
И, уже больше не поясняя ничего, обратился к Михайле Сибирякову. Знал и всегда стоял на том, что, ежели доверил человеку дело – пускай сам вертится, иначе и дело загубишь и, человека испортишь. Повторял часто: «Кому воз везти, тому и вожжи в руки».
– А к тебе, Михайло,– сказал,– другая просьба.
Сибиряков вопросительно взглянул на Григория Ивановича, тронул бороду тонкими пальцами.
Был Михайло цыгановат лицом. Ну а на руки глядеть – не в лабазе купецком ему сидеть надо бы, но на скрипке по ярмаркам играть. Знать, из Сибиряковых кто-то цыганку любил. И в характере у Михайлы цыганское было. Кого хочешь уговорить мог.
– Ты с людьми, Михайло,– продолжал Шелихов,– лад быстро находишь.
У Сибирякова в глазах промелькнула усмешливая тень.
Шелихов поднял ладонь, загораживаясь от возражения.
– Это так. И хотим просить тебя подобрать для экспедиции мореходов. Палуба не улица, на ней не особенно разойдешься. Люди лоб в лоб на палубе живут. И первое, мой тебе совет, поговори с Василием Звездочетовым. Мужик он крепкий и на островах Курильских бывал. Лучшего не сыщем, ежели он согласие даст и пойдет на острова. А мы,– Григорий Иванович кивнул Полякову,– к губернатору.
Губернатора, однако, Шелихов с приказчиком не застали. Сказано было, что генерал по срочному делу занят. Принял купцов чиновник по особым поручениям, первое доверенное лицо губернатора Иван Никитич Закревский. Человек, хорошо известный в Иркутске.
Разговор сильно удивил Шелихова.
Закревский слушал купцов, уперев пальцы в пальцы поставленных локтями на стол рук. И то некую сферу изображал хитро переплетенными пальцами, то острым углом они у него становились. Глаза чиновника скользили по лицам гостей, однако, что думал он, сказать было так же трудно, как и определить фигуры, в которые складывались холеные, с блестящими ногтями длинные и гибкие его пальцы.
А мысли чиновника были и вправду хитро переплетены. Закревский только что вернулся из мрачно настороженной столицы. Здесь только и разговоров было о Париже. И, глядя сейчас на двух мужиков, сидящих перед ним – а то, что это мужики и дети, и внуки мужиков, он знал и кожей чувствовал,– подумал: «Какая же неуемная в них сила заложена? Откуда такое и к чему это приведет?» Острое раздражение проснулось в нем, но он не дал ему воли и начал разговор издалека. Чуть коснувшись аристократической рукой выложенных на стол металлических брусков, Закревский улыбнулся:
– Сей предмет будет мной представлен генералу, но я позволю сказать о другом, господин Шелихов.
Чиновник на мгновение замолк, взглянул с задумчивостью на Григория Ивановича и, изменив официальный тон на задушевный, проговорил любезно:
– Уважаемый, господин Шелихов. Имя ваше широко известно. Достаточно сказать, что ее величество императрица неоднократно обращала взор к вам и к делам вашей компании. Кто из купцов на священной Руси может в пример привести подобное благорасположение матушки нашей?
Шелихов с удивлением выпрямился на стуле и посмотрел на чиновника.
Все так же играя мягкими переливами голоса, Закревский продолжил:
– Добавлю, хотя к сказанному и добавлять не должно. Скажу, однако: имя купца Шелихова известно и за пределами России. Книга о путешествиях ваших переведена и на германский и аглицкий языки. Галиоты кампании ходят через океан, и кампания владеет огромными землями по побережью матерой Америки. Так не должно ли,– здесь раздражение все же прорвалось в голосе чиновника,– купцу сыскивать пределы?
Шелихов, уперев взор в лицо Закревского, четко, разделяя слова, сказал:
– Едино смысл вижу в действиях державы для.
Закревский помолчал и, как бы разом устав, ответил:
– Бывают, бывают времена, господин Шелихов, когда польза отечества требует не действий, но, напротив, отсутствие оных.
И долго, долго в упор разглядывал Шелихова. Он хотел и не мог понять, что движет сидящим перед ним человеком. Наконец Закревский опустил глаза, ткнул пальцем в медную плаху:
– Казус сей я непременно представлю губернатору.
– Напрасно так,– мягко, намеренно не замечая раздраженный тон чиновника, сказал Шелихов,– не казус это, но мыслю – будущее новых земель.
Закревский на то ничего не ответил.
Возвратившись поздно вечером домой, Шелихов обнаружил в комнате терпеливо дожидавшегося его Тимофея Портянку. Тот приветливо заулыбался, но Григорий Иванович только вяло кивнул в ответ и, подвинув стул, сел молча. Посмотрел в окно.
Странное равнодушие овладело Шелиховым после разговора с Закревским. Многажды говорено ему было, и людьми разными: куда-де прешь, рожа неумытая, черная кость? И в Питербурхе не один чиновник останавливал, да и здесь, в Иркутске, были советчики, ан нет – слова их не доходили до него. Отскакивали. А сейчас вот на – что-то сломалось в нем. Словно ноги ему перешиб Закревский, чиновник державный.
У Тимофея сошла с лица улыбка, которой он встретил Шелихова. Он сказал твердо, как хорошо продуманное:
– Хозяин, я дело предложить хочу,– добавил:– Стоящее дело.
Посмотрел на Шелихова с ожиданием.
Григорий Иванович поднял глаза, в которых по– прежнему светила только усталость.
– Ну-ну,– ответил,– какое же дело?– И слабая, недоверчивая улыбка тронула его губы.
Но Тимофей будто не заметил ее, а скорее, не захотел замечать.
– Баранов, Александр Андреевич,– продолжил он с тем же напором,– отписал тебе о сухом пути на западное побережье материка Америки, что от старого индейца выведали, так вот – давай ватагу собьем, и я ее поведу. Пройдем, ей-ей, пройдем... А земли сеи зверем богаты, как ни одни иные. Слышишь, хозяин?
Шелихов смотрел на Тимофея в упор. В глазах, вроде бы засыпанных серым пеплом, уголек горячий проглянул.
Тимофей пружинисто, рывком поднялся от стола, заходил по комнате.
– Ежели сей же час вернуться в Охотск, я успею на последний галиот и с весной в поход. Ну, хозяин, думай!
Шелихов пошевелил бровями, через силу улыбнулся.
– Хозяин!– наседал Тимофей,– думай же, думай! Мы пройдем!
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Европейский мир содрогался от ударов, гремевших в Париже. Там происходило невероятное.
Французский король Людовик XVI был брошен своим народом в грубую телегу, под свист и улюлюканье провезен по узким улочкам на Гревскую площадь и гильотинирован. Окровавленную голову короля палач выхватил за волосы из-под ножа и, потрясая, показал ревущей в восторге толпе.
Девять месяцев спустя на Гревскую площадь та же телега привезла дочь австрийского императора и императрицы Марии-Терезии, одетую в черное фразцузскую королеву Марию-Антуаннету. За телегой, не прекращая вязать из серой, некрашеной овечьей шерсти носки и шарфы для армии, мрачно шагали женщины Парижа. Деревянные их башмаки били в мостовую, словно повторяя раз за разом: смерть, смерть, смерть... Это были те самые женщины, которые пришли к Версальскому королевскому дворцу и потребовали хлеба. «Хлеба?– удивилась королева.– У них нет хлеба? Так пускай они едят пирожные!» Эти пирожные женщины Парижа не забыли.
После казни короля и королевы наследника французского престола – семилетнего Луи-Шарля отдали на воспитание сапожнику. На плечи узкогрудому, с кукольным лицом и слабыми руками принцу накинули продранную на локтях солдатскую куртку.
Монаршие дома Европы были потрясены.
Сообщение о судьбе французского принца самодержица российская выслушала молча, поднялась с кресла и подошла к окну. Дамы двора заметили, что букли парика вздрогнули на висках.
По льдисто отсвечивающим сугробам придворцовой площади гуляла пороша. Глаза Екатерины остановились на вихрившихся, беззвучно взметавшихся к низкому небу молочно-белых пеленах. Императрице показалось, что она видит за беспорядочно пляшущими игольчато-колючими кристаллами снега черные колеса телеги, везущей короля на казнь. Колеса проламывали льдистую корку сугробов, проворачивались, странно и страшно закрывая перекрестиями спиц бесконечную, безлюдную перспективу площади.
Мистика, однако, менее всего была свойственна Екатерине. Она тряхнула головой, еще ближе подступила к окну и положила руки на обжигающий холодом мрамор подоконника. Рассудочный мозг императрицы восстановил вполне реальную картину, виденную ею на этой площади. Воспоминание ударило Екатерину остро и безжалостно.
Больше двадцати лет назад по ступенькам, на которые сейчас падал снег, поднимался ее гость из Парижа. Плебей, сын ремесленника-ножовщика. Однако к тому времени, когда его принимала самодержица российская, было забыто жалкое происхождение Дени Дидро и все воспевали литератора и философа Дени Дидро, «директора мануфактуры энциклопедии». Ныне императрица знала, что от «посла энциклопедической республики» до Гревской площади, обагренной королевской кровью, была прямая дорога, и с уверенностью можно было утверждать, что путь, по которому катила телега короля к гильотине, был вымощен не только древней парижской брусчаткой, но и выстлан листами той самой энциклопедии, которую составлял и редактировал гость самодержицы российской Дени Дидро.
Екатерина, никогда не выдававшая волнения, до боли закусила губу. И быть может, именно в эту минуту, превозмогая боль и досаду, она приняла одно из самых трудных своих решений.
Но верная избранной манере поведения, императрица с каменным лицом повернулась к придворным и, будто не было предыдущего разговора, указала на стоящую у подъезда карету. Холодно спросила:
– Чей это выезд?
Кто-то из придворных поторопился ответить:
– Князя Шаховского, ваше величество.
– Пригласите его.
Через минуту князь Шаховской предстал перед самодержицей российской. Она была величественна, как всегда, и букли ее парика больше не дрожали.
– К вашему сиятельству есть челобитчица,– сказала Екатерина.
Шаховской растерянно вскинул брови:
– Кто бы это, ваше величество?
– Я,– ответила Екатерина с тем же застывшим лицом,– ваш кучер сейчас так ласкал и холил лошадей, что мне представляется – он добрый человек. Прошу, прибавьте ему в жалованье.
– Государыня,– поспешил Шаховской,– сегодня же исполню ваше приказание.
– И как вы его наградите?
– Прибавлю пятьдесят рублей в год,– ответил Шаховской и поклонился.
– Очень довольна,– сказала Екатерина,– благодарю.– И, повернувшись, быстрой походкой вышла из залы.
В тот же день в затерянный в украинских степях, заснеженный городишко Тульчин ушла эстафета. В Тульчине стоял штаб Южной армии.
На протяжении многих десятков лет, то затихая, то вспыхивая с новой силой, шла битва Англии и Франции за первенство в европейском мире. В надежде сокрушить соперника, путем явных и тайных договоров, стороны привлекали к борьбе Пруссию и Испанию, Австрию и Скандинавские страны. Но непрочные союзы не давали решительного перевеса. Кровь лилась по обоим берегам Ламанша, и колокола с печальным постоянством извещали о павших во славу короля и королевы безвестных Жаков и Джеймсов. Между тем на востоке зрела третья сила – Россия. Она вышла к морям, население ее перевалило через сорокапятимиллионный рубеж, она многократно увеличила земельные владения, и европейский мир с немалой долей удивления увидел у восточных пределов колосса. В европейских столицах начали осознавать, что сближение с Россией может оказаться решающим в затянувшемся споре о первенстве. Однако закрытый балтийскими туманами Питербурх не спешил сказать слово. Но вот на хрипящих конях эстафета пошла в Тульчин. Екатерина внимательно следила за борющимися европейскими соперницами и, скорее, предпочла бы дальнейшее их противостояние, взаимно изматывающее друг друга, однако в криках борьбы она услышала из Парижа: «Мир хижинам, война дворцам!»– и решение ее созрело. Она приказала готовить многотысячную Южную армию к далекому походу во Францию. Российская самодержица не могла простить хижинам их дерзость. Рваная солдатская куртка на плечах принца крови, возможно, была последней каплей.
Пакет с приказом армии был засургучен тяжелыми печатями, слова приказа сугубо секретны, однако внешность российской столицы тут же изменилась. Многочисленные чиновники значительно прибавили в шаге, столоначальники посуровели лицами, а чины более заметные в табели о рангах вдруг так окрепли голосами, будто ожидали комисии, от которых, как известно в России, можно за одни и те же действия получить орден, высылку в места не столь отдаленные или чего еще более неожиданное. Столичная жизнь пришла в движение. Все смешалось. В разные стороны поскакали курьеры. Чиновники в должностях, отрываясь от столов, на цыпочках подбегали к окнам. «Та-та-та-та!» – гремела под копытами мостовая, и возбужденный, расширенный зрачок чиновничьего глаза трепетно прыгал, сокращаясь и увеличиваясь в такт хода курьерских коней. «Т-с-е!»– прижимал чиновник палец к губам и возвращался к бумагам, число которых многократно выросло.
В эти тревожные дни президент Коммерц-коллегии граф Воронцов вызвал Федора Федоровича Рябова. Лицо Александра Романовича было огорченным. Он выслушал помощника, решил дело и вялым движением руки отпустил его. Однако Федор Федорович, долее чем это было нужно, задержался у стола президента. Воронцов с удивлением взглянул на него. Рябов несмело заговорил о делах восточных, но Александр Романович остановил помощника. Он не замахал руками, как это сделал секретарь императрицы Безбородко в ответ на такой вопрос, напротив – Воронцов тихо прикрыл глаза и долго молчал. Федор Федорович, так же как и граф в свое время, понял: дела восточные ныне, да и, наверное, надолго вперед, следует забыть.
Выйдя из кабинета президента в приемную залу, до необыкновения заполненную просителями и должностными лицами многих ведомств и служб, захлестнувших волной коллегию, Федор Федорович неожиданно вспомнил разговор с Воронцовым, состоявшийся здесь же, в его кабинете, пять лет назад. В то памятное утро Александр Романович был полон сил и энергии, лицо графа светилось надеждой, и он призвал помощника обратиться всеми помыслами к делам восточным. Федор Федорович припомнил и то, что при этом разговоре он испытал огорчение и озадаченность в предчувствии неудач. Живо восстановленные в памяти ощущения того дня, которые могли бы польстить его дальновидности, умению заглянуть в будущее, не только не обрадовали или как-либо по-иному ободрили Рябова, но, напротив, вызвали до боли поразившее его едкое чувство неустойчивости, бессилия и – более того – своей бесполезности в чудовищно огромном жернове, называемом империей, медленно, но неуклонно сминавшем – дробя и сокрушая – надежды, стремления, чаяния и сами жизни людские в только ему ведомой закономерности.
Невидящими глазами Федор Федорович оглядел собрание должностных лиц и, повернувшись, ушел в длинный департаментский коридор с повторяющимися по стене арочными амбразурами окон, выстилавшими пол полосами света и тени. Они ложились с последовательностью, которую он заметил почему-то только теперь. Шаги его попадали только в черное, черное, черное...
* * *
Так же вдруг, как навалились перемены на питербурхский чиновничий мир, на Иркутск весной 1795 года налетел шальной ветер. Однажды поутру иркутяне увидели над городом странно, растрепанными комками, летящих птиц. Воронья, галки и сорочья было так много, что и старики не могли припомнить подобного. Птица летела высоко, но все одно город накрыло падающими бог весть с какой высоты, пугающими, тревожными ее криками. Можно было подумать, что стаи уходили от таежного пала, но тайга стояла под снегом, и пала быть не могло. Иркутяне, изумляясь, задирали головы, а птица летела и летела, то сбиваясь в кучи, то рассыпаясь по сторонам, падая до крыш или вновь взмывая за облака. Не понять было, откуда она, что встревожило бесчисленные стаи да и куда они летят.
Странный птичий пролет продолжался два дня, затем стаи рассеялись, но небо не заголубело, как это было бы должно, а застыло над городом тусклым, без единой тучки и облачка низким куполом, как ежели бы Иркутск накрыли начищенным оловянным тазом. Глаза людей тупо упирались в низкий этот свод, и в душах рождались неуютность, придавленность, невольное желание пригнуть голову да и поспешить под прочную, надежную крышу. Тут потеплело. В одночасье снег потемнел, осел, пополз с крыш тяжелыми, напитанными водой пластами. Груды снега срывались с карнизов, глухо били в землю. И застучала, тревожно заспешила капель.
– Рано, рано... Ох рано,– зашептали, запричитали старухи,– беда...
Но это была еще не беда. Беда случилась позже.
Ветер набирал силу, а небо опустилось еще ниже, вовсе придавив город.
В нехорошие эти дни заботы Григория Ивановича были о походе на Курилы. На небо некогда было глядеть.
Михайло Сибиряков поладил с Василием Звездочетовым, и тот дал согласие вести ватагу на острова. Мужиком он оказался въедливым и сам вызвался поехать в Москву с братьями Мичуриными для закупки необходимой для похода справы. Сам же и обозы из Москвы пригнал, а теперь, сидя в Охотске, готовил к походу галиот да слал по бездорожью гонцов с поручениями в Иркутск. Ни странная оттепель, ни разговоры опасные не могли его удержать. Хлопот с ним было много, однако Григорий Иванович на то говорил:
– Ничего, знать, не ленив. О деле радеет.
Звездочетов ему нравился, и он был уверен, что ватаге с таким капитаном будет удача. Вот и сейчас Василий прислал нарочного в Иркутск за малыми якорями для байдар да еще требовал, чтобы якоря, хотя и малые весом, были непременно адмиралтейского типа и со штоками, дабы держали надежно. «Плавать в водах неведомых,– писал он Шелихову,– и надобно о каждой мелоче заботу иметь». Григорий Иванович покашлял в кулак, но сам поехал расстараться о якорях. Ни времени, ни сил не жалел для этого похода и повторял многажды:
– Быть, непременно быть Руси на Курилах!– Подмаргивал Звездочетову:– А, Василий? И ты тому начало положишь. Молчи, молчи, не моги перечить,– раскидывал руки широко,– лет через пять люди придут на Курилы, а навстречу судну, к самой волне, мальчонка выбежит русоволосый! А? То-то же!
Василий на эти слова только улыбался.
Были и другие, не менее важные и хлопотные дела.
Григорий Иванович решил отправить компанейские меха на торга в Бухару. Торг на бухарских базарах был богат, и русские купцы в Бухару ходили давно, но чтобы из Иркутска, через монголов, по пустыням к Аралу, а там и дальше пустынями же – никто дорогу не торил. Однако путь такой был заманчив. Дорога была намного короче – считай, на прямую выход к далекой, сказочной Бухаре – и выгоды сулила большие. А компания по-прежнему в деньгах нуждалась крайне. На бухарские базары сильно надеялись.
Идти к Бухаре вызвались братья Мичурины.
Готовились всю зиму. Старший из Мичуриных – Петр – за проводниками в Кяхту ездил и привез трех монголов, которые не раз в Бухару караваны водили. Раздобыл старые карты. Проводники уверяли – караван проведут, однако просили для охраны товара послать с ними поболее людей оружных, и таких в Иркутске сыскали. Иван Мичурин сбегал в Забайкалье, к бурятам, и привел табун коней. Низкорослых, мохноногих, привычных к дальним переходам и неприхотливых в корме. При нужде они и пустынную колючку жевали.
– Кони хороши, бачка, хороши,– хвалил старший из проводников с узкими, как ножом прорезанными, глазами и сильными пальцами мял и давил холку послушно стоявшему под его рукой жеребцу.
– До Бухары дойдет, бачка.– И торопил, торопил с караваном, говоря, что весна лучшее время для похода.– Позже,– пояснял,– упадет жара и тогда хода не будет.– Лицо монгола огорченно сминалось, он качал головой.– Вода уйдет глубоко под землю.
Меха, что еще были в лабазах компании, до последнего хвоста увязали в тороки, и караван ушел.
Шелихов с Поляковым, верхоконными, на тех же бурятских лошадках, провожали караван за город. Григорий Иванович с малолетства коней любил и сидел в седле уверенно, ловко, бодрил жеребца, припуская поводья. Поляков торчал на высоком монгольском седле, как собака на заборе, сползая то в одну, то в другую сторону, но, однако, молча трусил сбочь неторопливо втягивавшегося в таежную дорогу каравана. Морщился. Мужики поглядывали на него с ухмылкой. Кони беспокоились, шли трудно, с хлюпаньем вытягивая ноги из жидкой грязи, перемешанной с рыжей прошлогодней хвоей. Тайга была сырая, тянуло ржавой гнилью.
На третьей версте караван остановился. Натянув поводья, Григорий Иванович сказал:
– Все. Дальше сами идите.
И задержал глаза на братьях Мичуриных. Подумал: «На вас только и надежда. Ну, ребята, не оплошайте». Но не сказал того, а смотрел и смотрел, глаз не отводя.
Старший из Мичуриных подвинулся к нему:
– Григорий Иванович, не сомневайся. Все хорошо будет!
Обменялись, и караван тронулся. А когда последние лошади скрылись в распадке, Поляков вдруг сказал:
– Что это, Григорий Иванович?
Но Шелихов все еще смотрел вслед ушедшему каравану и не отозвался.
– Глянь, глянь!– настаивал Поляков и протянул к Шелихову руку. На белом отвороте рукава бараньего полушубка пепельным налетом лежала желто-серая пыль. Шелихов повернулся в седле и, занятый своими мыслями, скользнул взглядом по обеспокоившему Полякова непонятному налету на белой шерсти. Поднял лицо к небу. Желто-серую глинистую пыль нес теплый южный ветер. И только тогда и Шелихов, и Поляков разглядели, что желто-серым налетом накрывает дорогу, обочину, испятнанную осевшим снегом, стоящий за ней редкий пихтарник, и дальше, дальше над тайгой, над видимыми у горизонта пологими вершинами сопок кипит в небе все та же желто-серая муть. И Григорий Иванович и Поляков почувствовали, как пыль скользит по лицам, горечью оседает на губах, лезет в уши, застит глаза. Но ни это странное кипение в небе, ни горечь на губах не сказали ни Шелихову, ни его компаньону, что ветер и наносимая им пыль ударят по ним сокрушительнее злейшего татя. Теперь и вправду пришла беда.
* * *
Баранов был счастлив. Стараниями мореходов – Бочарова, Пуртова, Куликалова, других знающих мужиков, приспособленных к этому делу – была вычерчена большая карта российских владений по матерой земле Америки и прилегающим к ней островам. Да еще и так вычерчена, что не только земли показывала российские, но обозначались на ней все российские крепостцы, редуты и те места, где были установлены державные знаки. Одним взглядом можно было охватить заморские российские земли. Александр Андреевич знал, ныне хорошо знал, где и какие владения россиянам принадлежат, однако, только увидев все разом, до конца понял, каким богатством обладают, какие пространства прошли и закрепили за державой. Стоял перед картой пораженный, одновременно и гордясь подвигом россиян, свершившим сие неподъемное дело, и скорбя душой за жизни, положенные за эти земли. А ведомо было, что за каждую версту кровью здесь плачено.
Карта, расстеленная перед Барановым, показывала: на новых землях есть уголь и железо, медь и горный хрусталь, необыкновенный горный же лен, что не горел в огне и из которого можно было хотя бы полотно прясть; есть графит, известь, торфы, глины, выказывающие великую твердость после обжига. А в тайном сыромятном мешочке лежал в заветном месте у Баранова намытый недавно золотой песок. Но о том Александр Андреевич молчал до времени, и старателю, принесшему сей желтый подарок, приказал строго молчать же, пока не отпишет о находке Шелихову и не получит ответа. Зная о богатствах, скрытых в землях Америки, Баранов, счастливо награжденный пытливым умом, уже понимал, что не меха, как ни были они дороги, главное сокровище сих земель, но ценности, сокрытые в ее недрах, о коих – догадывался он – вызвана лишь малая толика. И, не зная еще о разговоре Шелихова с иркутским чиновником Закревским, когда Григорий Иванович, показав тому сваренное за морем железо, сказал, что мыслит в этом будущее американских земель, так же, как и Шелихов, связывал завтрашний день новоземельцев непременно с необычайной щедростью здешних недр.
– Ну, браты,– повернулся от карты Баранов к стоящим тут же мореходам,– просите, что душе желается, за карту. Слов нет! Молодца!
Бочаров улыбнулся:
– А что же ты нам можешь дать-то, Александр Андреевич?
Баранов в растерянности руки раскинул:
– Вот озадачил,– пожевал губами,– да оно и правда,– дать мне нечего... Вот,– показал на стоящий у окна стол,– ежели сухари... Да и то каменные, размачиваю кипятком...– Засмеялся:– обниму, вот и награда!
Качнулся к Бочарову, обхватил за плечи, прижал крепко к груди, отстранился, и тут мысль пришла ему, как показалось – счастливая:
– Григорию Ивановичу карту пошлю. Он в Питер– бурх свезет, царице передаст, и вот она вас наградит. Непременно наградит!
В дверях молча стал Тимофей Портянка. Он таки успел в прошлом годе на последний галиот, перед тем как море сковало льдами, и пришел на новые земли, чтобы по весне – как и было оговорено с Григорием Ивановичем – пробиться через материк Америки к западному морю.
– Ну что?– спросил Баранов.– Собрался?
– Не только собрался,– ответил с готовностью Тимофей,– но и подпоясался.
Сказал легко, как ежели бы недалекая прогулка его ожидала. И, словно подтверждая свои слова, поправил узенький сыромятный поясок на армяке, расправил складки у пояса. Складная и ловкая его фигура – широкая в плечах, узкая в поясе – стала еще стройнее.
– Сей миг в море готов,– добавил с задором.
Бочаров взглянул на него и подумал: «Так оно, может, и лучше». Ему вспомнились горько-кроткие глаза старика индейца, медлительная его речь: «Там только горы и горы, которые нельзя перейти». «Тимофей – мужик битый,– подумал Бочаров,– всякое видел. Однако поход будет трудным. А что бодрится, тревоги не выдает – это как щит». Такое за людьми капитан знал и не осуждал. Вся жизнь новоземельская была преодоление.
Баранов, глядя на Тимофея, о другом думал. Он, управитель, человек, за которым было последнее слово, сейчас не то что взвешивал или прикидывал – в этом разе гирьки по чашкам не разложишь, да и нет таких гирек, и весов таких нет, но, по возможности, определял меру опасности, которой подвергал и Тимофея, и идущих с ним людей, дав согласие на беспримерный по трудности поход, да и на его, Тимофея, команду в этом деле. Ответ за их успех или неуспех, как, и за их жизни, ложился на его, управителя, плечи, и он не мог, не имел права ошибиться. Александр Андреевич не верил в слепое счастье, и жизнь здесь, на новых землях, была тому подтверждением. Знал: удача приходит только тогда, когда успех подготовлен напряжением всех сил. И сейчас, трезво и расчетливо перебрав в памяти сделанное для того, чтобы Портянка с товарищами прошел тропой старого индейца, Александр Андреевич мог уверенно сказать: новоземельцы для похода не пожалели ничего.