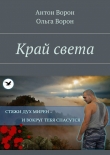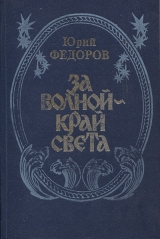
Текст книги "За волной - край света"
Автор книги: Юрий Федоров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
– А глянь-ка, капитан-то боек, знать ничего. Небось вывернемся. Тут еще надвое сказать...
Ему ответили смехом:
– Ишь ты, дело разделил, что корову надвое разрубил. Зад доит, а передок во щах варит.
На берегу засмеялись. Весело, отходчиво, как только русский мужик и может. Беда, что над головой висела, забылась за смехом, за громкими словами, за спешным делом.
А Бочаров того только и хотел. Но дело закончили, капитан отошел к воде, остановился так, что волна под ботфорты подкатывала. Руки по локоть в карманах рваного камзола. Глянул вдаль. Глаза были неподвижны, и веселья, уверенности в них не прибавилось. Но лица Бочарова никто не видел. К морю было оно обращено. У горизонта вспухали беспечальные кучевые облака, громоздились сказочными замками. Падали в волны чайки, кричали свое: не то жаловались, не то радовались. Кто знает?
* * *
Многопудовая колода взлетала кверху и, на мгновение задержавшись, ухала вниз, вгоняя сваю в неподатливую каменистую землю. И вновь взлетала, словно подкинутая дружным, в одну глотку, выхаркнутым с отчаянием:
– Эх, паря!
Десяток мужиков, вцепившись заскорузлыми руками в канат, тянули и тянули колоду кверху. Груди распирал мощный выдох:
– Эх!
И этот рожденный единым дыханием звук взрывом раздирал в клочья тысячелетиями устоявшуюся тишину над заливом, летел в сопки, ударялся в каменные лбы утесов, врывался в распадки и, многократно повторенный эхом, перекатывался, рокотал, гремел, говоря: на берег ступила сила, которой не противостоять ни зверю, селившемуся безбоязненно в этих местах, ни жестким ветрам, свободно гулявшим меж сопок, ни холодам, ни диким, безумным пургам. И, торопясь и поджимая хвосты, зверье уходило подальше в чащобы.
– Эх!
Гудело меж сосен, торжествовало над морем, и мощные стволы деревьев, словно предчувствуя, что скоро им упасть под топорами и лечь в стены изб и крепостцы, отвечали жалобной, стонущей вызвонью, а волны в переплеске на гальке будто торопливо говорили никогда и никем не тревожимому берегу о судах, что придут скоро в эти воды и навсегда нарушат вековечный покой.
Мужики все наваливались и наваливались на канат.
Баранов строил городок. Строил широко.
– Это будет столица Русской Америки,– уверенно твердил он мужикам,– столица! – И требовал неукоснительно, чтобы каждый гвоздь вбивали с умом.
С Шелиховым на Большой земле оговорено было строить новую крепостцу с просторной площадью, с широкими улицами, дома класть богато и изукрашивать их, как лучшие русские дома изукрашены: дабы каждому видно было – то поселение российское.
Мужики слушали Александра Андреевича внимательно. Знали его всего ничего (на дни шел счет барановского управления новыми землями), однако и за короткое время поняли ватажные: новый управитель вожжи держать умеет.
Две тысячи коняг поднял Баранов на строительство крепостцы, привел почти всю ватагу, но так дельно распорядился, что ни одного человека не потеряли за поход и грузы доставили в целости. Громада пришла в Чиннакский залив, а здесь уже были землянки вырыты, навесы стояли, чтобы людям не хлебать из котлов под дождичком, бани дымились. Вот то уж радость была для мужиков после нелегкой дороги. А все Кильсей, посланный вперед с малой ватажкой, по настоянию Баранова соорудил...
Первую избу подвели под крышу. Вязали стропила. Но у мужиков не ладилось. Баранов, прищурившись, поглядывал снизу. Мужики спорили, но дело не двигалось. Александр Андреевич сбросил камзол, засучил рукава, и, оскальзываясь каблуками по сочившемуся смольем дереву, полез наверх. И вот немолодой был, но ухватился рукой за перекрытие, и будто пружина его наверх выкинула. Забрался, с удовольствием оглядел шевелившийся по берегу залива людской муравейник, довольно сморщил нос. Внизу летела земля из глубоких ям, вырываемая для будущих избяных подполов, слышались крики, забористая, бойкая ругань, что не мешает, напротив, веселит душу, ежели труд не в тягость, но в радость для мужика.
– Ну-ка, дядя, дай топор,– сказал Баранов шумевшему больше других мужику.
Тот с недоверием протянул топор. Александр Андреевич пальцем попробовал острие, ступил на поперечную лесину, ударил в звонко отозвавшееся под топором стропило. Брызнула сочная щепа. Топор в руках Баранова колесом заходил. Александр Андреевич улыбнулся мужику:
– Ну как, получается?
Тот глядел оторопело. Так ловко, так ладно управлялся Баранов с работой, с которой мужики не могли совладать. А Баранов уже выбрал лишек из лесины и, легко стукнув обушком, точно уложил стропило.
– Вот так,– сказал,– дальше двигай, дядя.
И вовсе мастером выказал себя управитель на строительстве причала. Здесь мужикам приходилось туго. По грудь в воде вколачивали сваи. Берег был скальный. Мужики мучались. С великим трудом вколотят сваю, свяжут кряжи, а они тут же разопрут устои. Кильсей на что был мужик старательный и терпеливый, а как в последний раз расперло сваи, вылез на берег и, отплевывая горькую воду и отжимая бороду, с сердцем махнул рукой:
– Будь оно неладно! Незнамо как и подступиться.
Баранов взялся за топор.
Вот ведь что интересно: приглядись к мужику, поющему песню. Ежели поет он так, что людей за сердце берет, будя дорогое и сокровенное, то и в голосе, и в каждом движении его есть что-то особое, значительное, гордое. Вот певец голову откинул, плечами повел, и ты захвачен необычайным порывом, устремлен за певцом. Великое дело – красота, и творит она великое, увлекая людей в едино ей известную даль. И с поющим настоящую песню сравнить только и можно умельца, коли он взялся за работу. Красота – вот что общее для того и другого, так как она, и только она есть полное выражение высшего мастерства.
Баранов уравновесил топор в руке, окинул взглядом лесину, ударил неспешно. Спина у Александра Андреевича была ровна, рука взлетала легко, глаз остро нацелен. Не скукожился управитель, не согнулся, но стоял прямо, крепко упершись ногами, и острое лезвие, казалось, без всяких усилий гнало по лесине курчавую стружку.
И-ю-ю... и-ю-ю... и-ю-ю,– свистел под рукой топор, и трудно было уследить за ним глазами.
Стружка упала. Баранов повернулся на каблуках и прошел лесину с другой стороны. Минута потребовалась ему на все дело. Лесина лежала на гальке, сверкая желтой, смоляной, обнаженной от корья древесиной, как золотой слиток. На гладком теле не было ни задоринки.
Кто-то из ватажников наклонился, тронул живой бок ствола. Удивленно ахнул:
– Как рубанком прошел!
Баранов опустил топор.
– Давай,– сказал,– укладывай.
Лесину опустили в клеть, и она ушла за сваи, словно гвоздь вколотили.
Мужики стояли улыбаясь, а только что вроде сломлены были непосильной, дурной работой. Вот как. Мало что знают люди о красоте, но все одно она свое скажет, обязательно скажет.
Плотники, дроворубы, кузнецы, каменщики, кожемяки, бочкари, разный другой мастеровой люд были главной заботой управителя. Нехватка умелых рук резала под горло.
Каждый день просыпаясь чуть свет в нахолодавшей за ночь землянке, Александр Андреевич, едва разлепив глаза, вколачивал ноги в сырые, тронутые плесенью ботфорты (начались дожди, и конца, казалось, им не будет), выползал под серое, заваленное тучами небо, шевелил зябко лопатками, шагал по непролазной грязи, высоко поднимая ноги. Под каблуками чавкало, булькало, словно земля была недовольна пришельцами и силой удерживала шаг. Дул колючий ветер, дождь сек лицо, холодные капли ползли за ворот. Баранов поспешал.
Первое – заходил в кузницу. Толкал сколоченную из горбылей дверь, ступал через порог. В нос бил приятно теплый, угарный чадок. В глаза бросался жаркий огонь горнов. В уши влипал перезвон молотов. Приморгавшись, Баранов различал крутившихся на подноске коняг и кузнеца с молотом у наковальни. Александр Андреевич здоровался, а сам уже шарил глазами по корытам, в которые сбрасывали поковки: гвозди, скобы, гайки, задвижки. Без них на работы людей не поставишь, день не начнешь. Баранов брал в руки теплые поковки, вертел в пальцах. Пустяк, казалось бы,– гвоздь! Вот он в руке: синеватый, с притисками от молота, с окалиной, крошащейся под пальцами. Здоровенный гвоздь со шляпкой-грибом. Такой мужики «генералом» называли. А он и был генералом и всем командовал. Без него и изба не устоит, и крепость не поднимется. Вот и маракуй – кто в строительстве главный. А сковать такой гвоздь только хорошие руки могли.
Двумя, тремя словами перекинувшись с кузнецом, спешил управитель под навесы, где лес разваливали на плахи тяжелыми пилами. Тоже дело куда как важное. Вдохнув смолистого духу, считал, сколько лесу напилили. Приглядывался: каковы они, плахи-то, нет ли где порчи какой, трещины, иного изъяну.
Рябой мужик из вологодских, что командовал здесь, говорил успокаивающе:
– Не вороши зазря лес, Андреич. По совести делано, по совести.
Грыз горбушку крепкими зубами и, зная, что управитель как поднялся с топчана, так и выбежал под дождь, не взяв крошки в рот, протягивал вяленую рыбу, кусок хлеба.
– На,– говорил,– пожуй малость, а то забегаешься. Знаю.
Баранов не глядя брал крепкую, словно камень, рыбу, жевал, надсаживая скулы. Оно и правда, бывали дни, что за делами забывал не то что поесть, перекусить на бегу. Глянет благодарно на мужика, глаза чуть сощурит, но и тут заспешит, сунет рыбу в карман камзола...
Вечерами управитель еле-еле добирался до землянки. Спотыкаясь на ступеньках – ноги к концу дня были как ватные,– толкался в дверь, валился на топчан с облегчением и, едва успевая додумать, что успел или не успел сделать за день, засыпал мертво.
Но сегодня и того было нельзя. Из Трехсвятительской спешно пришла байдара. Нарочный сообщил, что из Охотска галиот прибыл. Шелихов в письме спрашивал о житье, беспокоился о закладке новой крепостцы. Письмо Григория Ивановича было на многих листах.
Фонарь чадил, буквы едва-едва разобрать. Но да не только фонарь был виноват, что строчки плыли перед глазами. Усталость клонила голову Баранову, смежала веки.
Управитель упрямо мотнул головой, непослушными пальцами обобрал нагар с фитиля. Посветлело. Баранов, жестко уперев локти в доски стола, дочитал письмо.
Мужик, пришедший из Трехсвятительской, торчал пнем у дверей.
– Садись, садись,– сказал управитель,– что ноги мучаешь.
– Александр Андреевич,– возразил тот свежим и неожиданно бодрым голосом,– мне сей миг назад надо. Галиот уходит. С ответом надо успеть. Евстрат Иванович крепко-накрепко на том наказал.
– Евстрат Иванович... Как он-то сам? – спросил Баранов, выпрямившись на лавке.
– Слава богу. На ноги начал подниматься.
– Уйдет с галиотом?
– Нет, говорил. Погодит.
– То хорошо,– сказал Баранов,– молодца.
Поднялся через силу, достал из-за прибитой в углу иконы склянку с тушью, перо, бумагу. Сел к столу.
Первое письмо с новых земель писал он Шелихову, и многое нужно было сказать, но перо выскальзывало из пальцев.
Увидев, что управитель устал до изнеможения, нарочный из Трехсвятительской сказал:
– Пойду кипятку расстараюсь. Взбодрит небось. А?
– Пойди, пойди, мил человек,– ответил Баранов, не поднимая головы.
Ватажник вышел.
«Так что ж написать-то,– подумал Александр Андреевич,– всего не скажешь...» Перед мысленным взором поднялась волна, что развалила галиот «Три Святителя», увиделся Потап Зайков с прилипшими к потному лбу седыми космами, черные комья земли подле его могилы, обметанный коростой рот Евстрата Ивановича, изломанного медведем, кровавые тряпки на голове управителя... Нет, всего написать было нельзя.
Вошел ватажник. В руках кружка с дымящимся кипятком.
Александр Андреевич жадно обхватил ее пальцами, подержал перед грудью, хлебнул глоток. В голове вроде посветлело. Он отсунул кружку, взялся за перо.
«Нужда,– написал Баранов,– великая нужда в людях, знающих ремесла. Без них невмочь новые земли строить. Паче другого нужда в разном инструменте для дерева и камня, такоже в оружие, парусном полотне, якорях, железе в деле и не в деле...»
Нарочный смотрел, как перо, скрипя и разбрызгивая тушь, ползло по бумаге. Фитилек фонаря, пригасая и кренясь, бился за дырчатой жестяной стенкой.
«Что касаемо капитана Бочарова,– писал Александр Андреевич,– то отправил его для описи берегов полуострова Аляска. Где сейчас оный, не ведаю и опасения на его счет имею, так как пора бы и на Кадьяке объявиться».
В конце письма Баранов настоятельно повторял: «Особливо кузнецы, люди, знающие корабельное дело, плотники да каменщики нужны».
О себе, о тяжкой усталости не отписал и слова.
Нарочный сунул письмо за пазуху и не мешкая застучал сапогами по ступенькам. Баранов помедлил немного у стола и следом вылез из землянки.
Остановился у входа.
По берегу горели костры. Вздымавшиеся к небу огни высвечивали то мужика, подбрасывающего сучья, то угол строящейся избы или сложенные в штабель бревна. И весь берег в текучих огнях, казалось, шевелится, дыбится, дышит под проступившими на небе звездами.
Растревоженный письмом и воспоминаниями о трудном походе к Кадьяку, Баранов подумал с затеплившейся в груди гордостью: «Какую громаду подняли все же. Костры горят, люди вокруг. Избы громоздятся. И крепостца будет. Да еще и какая! Нет, хорошо, ей-ей хорошо!»
Вечное это в человеке: радость от сотворенного своими руками. От веку горела она в нем и гореть будет до скончания времен. Тяжким трудом творит человек лучшее, что есть на земле, кровавые мозоли набивает, с потерями и горестями поднимается со ступени на ступень к задуманному, но радость свершенного выше кровавых мозолей, изнурительных тяжестей, горечи утрат.
* * *
Дивно, но и страшно было вокруг. Лес – без топора не пройти. Дыбом громоздились корневища выдранных пургами, бурями поваленных деревьев: Глянешь и перекрестишься – мужик какой лесной стоит или зверь необыкновенный. Вокруг заросли кустарника да валуны с избу. Все замшело, затянуло лишайниками, мхом, завалило гнилыми неохватными стволами. И аукает, хохочет, плачет над лесом леший.
Поражались мужики обилию зверя. Видели лис и черных, и белых, и голубых; и медведя видели, и рысь. А зайцы только по ногам не бегали. Ну да то, известно, тоже лешего дело. Он лесному народцу голова, а зайцев, как рассказывают, лешаки друг другу в карты проигрывают и перегоняют их из колка в колок.
Третью неделю вел по глухой, черной тайге Дмитрий Иванович Бочаров ватагу с северного побережья полуострова Аляска на южное. Вел по солнцу, по звездам, коли небо было чистое, а нет – по ведомым только ему приметам. Шли медленно. С сопки на сопку. Заберутся ватажники, надсаживая жилы, на вершину и – передохнуть бы, но глянут – а дальше другая сопка, за ней третья. Не вздохнешь, куда уж там. Посидят мужики на ветерке, скинув лапти, обдует с них пот и – дальше. На плечах ватажники тащили байдары. Перенесут часть груза, сложат у валуна ли, под деревья, двух-трех мужиков поставят с ружьишками и возвращаются за остальным добром. Все разом тащить было невмочь. Валились люди под непомерной тяжестью. Шли, выглядывая распадки, пади, но вот уперлись, как в стену, в провал меж теснин, у подножья которых билась, всплескивала, ревела неведомая река.
Остановились.
Дмитрий Иванович глянул вниз, в провал, и ясно ему стало, что помаяться придется. «Обойти,– подумал, морщась от досады,– а есть ли обход?» Покрутил головой. На много верст – сколько глазом смог объять – и влево, и. вправо громоздились гряды сопок. Сильный ветер дул в лицо из провала. Бочаров запахнул изодранную в клочья за поход одежонку. «Ну,– подумал,– испытай счастье, капитан. Какое оно у тебя? Ни палка ли о двух концах, что одним гладит, другим бьет?»
На противоположном обрыве, у. края, стояли две высокие сосны. Капитан примерился взглядом; «Ежели свалить – стволы перекроют провал». И в мысль капитану вошло – перекинуть мост. Ан добраться до сосен было трудно: спуститься вниз, к реке, и оттуда подняться на противоположный обрыв. Не иначе.
Бочаров вершок за вершком оглядывал скалу. Глаза щурились, как при ярком солнце. Скала стояла отвесной стеной. Острыми гранями выпирали из темного ее тела вертикально вздыбленные гранитные ребра, нависали карнизами, падали вниз и, причудливо перекручиваясь, вновь вздымались кверху. Чудовищная, непостижимая для человека сила, когда-то изогнувшая и изломавшая земную кору, прогибая граниты, кроша и выламывая их, создала чертову эту стену.
Ватага, стоя за капитаном, напряженно вглядывалась в грозные камни.
Бочаров ступил в сторону от провала и начал снимать камзол. Ногти цеплялись за оборванные петли. И тут словно кто шепнул ему: «Постой. Охолонь, капитан».
Бочаров вел через лесные чащобы мужиков, которые не знали леса. Может, и были среди них вологодские, устюжские, что лесовали на своих землях, но то иное. «Что им без тебя? – прозвучало в ушах Дмитрия Ивановича.– Пропасть, и только? Всем до единого. Нет, тебе не на скалу лезть след, тебе другое выпало. Другое».
Бочаров, оставив орленые капитанские пуговицы, оглядел ватагу. Прошел взглядом по лицам. И мужики без слов догадались, о чем он подумал.
На смерть трудно идти. Плоть радуется жизни, а знаешь: шагнешь через предел, и все. Живое кричит – выжить! А ты черту подведешь? Но труднее на смерть послать другого. Русский человек так устроен, что на миру да и за мир, коль сердце разгорится, в огонь шагнет. Били его, ломали, в семи щелоках варили, перекатывались через Русь жесточайшие нашествия, черные пепелища да белые кости на дорогах оставляя, в полон уводили с Руси с заломленными за спину руками, но не ожесточился он. Не огрубел сердцем. Напротив, суровые испытания выпестовали характер народа, умеющего в годину трудную, как ни один другой народ, сплотиться, собрать силы в кулак и противостоять навалившейся беде. Оттого-то не было на Руси греха большего, чем предательство. И ничего не ценилось так высоко, как сострадание чужой боли, умение принять ее, как свою. И вот капитану Бочарову выпала доля: не своей головой распорядиться, но послать человека на смертный риск.
Из провала доносился плеск воды да погромыхивание камней, тревожимых течением.
Ватага молчала.
И тут вперед выступил мужик, которого раньше капитан особо и не примечал. Неловко хмыкнув, мужик сложил губы в чуть обозначившуюся улыбку, свойственную людям, не выставляющим себя напоказ, сказал:
– Пожалуй, я, паря, через провал полезу.– Махнул рукой в сторону подававшей голос реки,– Мальцом еще, как ужонок, по обрывам лазил. Небось и сейчас заберусь. Дело известное.
И второй вышагнул из плотно, плечом к плечу, стоявшей ватаги:
– Тады и я, вдвоем оно сподручнее.
Мужиков обвязали корабельным канатом. Евсей, что вызвался первым, засунул за кушак топор и первым же шагнул к обрыву. Опустившись по грудь за срез скалы, Евсей, в другой раз выказав робкую улыбку, сказал:
– С богом, мужики, опускайте! – и заскользил по обрыву.
Канат уползал и уползал за край, обрушивая каменную крошку.
Ватажник, с осторожностью потравливавший канат, вопросительно взглянул на Бочарова.
– Давай, давай,– ответил на его взгляд капитан,– трави.
Сажень за саженью канат уходил вниз. У Бочарова обострилось лицо. И тут канат обмяк. Движение его остановилось.
– Э-э-э! – грянуло из провала, многократно усиленное эхом.– Дно, браты, дно!
– О-о-о! О-о-о...– громыхнуло в скалах.
Бочаров оглянулся. Второй мужик, вызвавшийся спуститься в провал, обдернул поясок на армяке.
– Емельян, – сказал Бочаров, – осторожно там...– и не договорил.
– Ниче,– ответил Емельян,– ниче, – шмыгнул носом.– И, ухватившись за канат, сполз на брюхе с обрыва, скрылся за срезом.
И опять, осыпая каменное крошево, канат пополз в провал.
Бочаров лег на край обрыва, вытянул шею, пытаясь заглянуть поглубже. Берег под обрывом не был виден, его скрывала выступавшая карнизом скала, но противоположная стена просматривалась от подошвы и до верха. У реки громоздились навороченные друг на друга серые валуны, обломки скал, желтела гряда каменной мелочи, намытой течением. Бочаров увидел, как на валуны вылез Евсей. За поясом у мужика блеснуло лезвие топора, кольнув, словно иглой, в глаза всматривавшегося с напряжением в провал Бочарова. Евсей прыгнул с камня на камень, оборотился и, увидев капитана, махнул шапкой. И тут же по валунам, балансируя руками, перебрался к грозно дыбившейся скале Емельян. Бочаров видел: мужики постояли у стены, о чем-то совещаясь, и Евсей полез вверх по осыпи.
Ватага затаив дыхание следила, как, миновав осыпь, медленно, вершок за вершком, Евсей начал подниматься по отвесной скале.
Вначале мужик взбирался довольно быстро. Сверху была видна глубоко расколовшая скалу трещина, края которой и держался Евсей. Он переступал на шаг, перехватывался руками за верхний край разлома и; шаря ногой по скале, отыскивал выступ, трещину или малую складочку, на которые можно было опереться. Каждый раз, когда нога Евсея неуверенно скользила по гладкому камню, не находя опоры, Бочаров так сжимал челюсти, что лицо искажалось болезненной судорогой, но он и на мгновение не отводил глаз от Евсея, будто надеясь удержать мужика на скале силой своего взгляда.
Выше и выше поднимался Евсей, и уже были различимы его руки, даже пальцы, искавшие выступы и шероховатости. Поднимался он уверенно, не останавливаясь, ступая по карнизу, как по лестнице, но спасительная трещина оборвалась, и Бочаров увидел, как рука Евсея, торопясь и не находя опоры, зашарила по скале. Саженью выше и чуть в стороне – в трехчетырех вершках, не больше – Бочарову хорошо был виден крепкий карниз, но Евсей его не замечал. Рука скользила и скользила по камню, осыпая желтое каменное крошево. У капитана на спине бугром напряглись лопатки. Ватажники, задержав дыхание, ждали. В горле у Бочарова стоял крик: «Поверни голову! Поверни и увидишь!» Но кричать было нельзя, крик мог сорвать мужика со стены.
Рука Евсея все скользила, скользила по камням. Он будто гладил, ласкал скалу, уговаривал уступить его настоянию. Ватага ждала, не в силах ни помочь, ни подсказать. Рука шарила, шарила по гладкой поверхности отполированной временем и ветрами скалы, и было пронзительно заметно, как мал человек на огромном теле обрыва, как хрупок среди каменных выступов и складок, как беззащитен перед ними.
Евсей двинул ногой, и она сорвалась, повисла над провалом.
Кто-то в ватаге, не выдержав напряжения, забормотал торопливо:
– Святый боже, святый крепкий, обереги и помилуй...
На него зашикали.
Евсей подтянул ногу и, почти падая, уперся носком сапога в чуть приметный выступ. Рука нащупала карниз, который разглядел Бочаров.
Единый вздох облегчения вырвался у ватажников, следивших за Евсеем затаив дыхание.
По карнизу Евсей пошел смелее. Теперь было различимо и его лицо: темное, как камни скалы, застывшее. На скуле, обращенной к Бочарову, пухли желваки. Трудное, казалось, позади. Вершина скалы сплошь была иссечена трещинами, и Евсей без труда находил опору. Он остановился, припав к скале, завел за спину руку и выдернул из-за пояса конец тянувшегося за ним каната. Связав петлю, укрепил за выступ. Подергал и, видимо убедившись, что канат закреплен надежно, полез выше.
Сорвался Евсей, когда до верхнего края скалы оставалось сажени две. Вдруг из-под его сапога выскользнул камень, тело Евсея отделилось от скалы, руки вслепую схватили воздух и, больше и больше заваливаясь на спину, Евсей грянул вниз.
Бочаров ткнулся лицом в камни.
Капитан не видел, как тело Евсея подхватили волны, сломали, смяли, закружили и в мгновение унесли куда-то в глубину. Бочаров услышал только всплеск принявшей мужика реки, и жгучей болью ударило его, что у Евсея, как и у многих товарищей Бочарова и здесь, на новых землях, и в морях, которые он прошел с ними, не будет даже могилы.
Никто из ватаги не вымолвил слова. Да слова сей миг были и не нужны. Они не смогли бы выразить ни восхищения перед тихим, неприметным мужиком Евсеем, ни горечи его потери.
Бочаров лежал на обрыве, уткнувшись лицом в камни. Он разом ослабел, словно капля за каплей вкладывал силу в каждый шаг Евсея, и сейчас, когда тот погиб, у капитана не осталось и самой ее малости, чтобы поднять голову. Когда он все же превозмог себя и взглянул в провал, по скале, работая лопатками так, что они ходуном ходили под армяком, ухватившись за канат, поднимался Емельян. С такой отчаянностью рисковать мог только человек, обозлившийся до крайности. Русская натура взыграла в Емельяне: «А, не моги? На же тебе!» Это так, коли придавят русского мужика за горло, что дышать нечем, то он, осерчав, я мертвым из петли вывернется. Не пожалеет себя, но дело сделает. На Руси исстари ценили того, кто, упав под ударом в стенке, кровь отсморкает, поднимется, когда уж, казалось бы, и подняться нельзя, и сдачи даст. Пойдет ломить, хотя бы и смерть глаза застила.
Емельян влез на обрыв, шагнул к сосне, ударил топором в ствол.
* * *
То, что на новых землях мастерового люда не хватает, Шелихову было известно и без письма Баранова. Однако, прочтя послание из-за океана, Григорий Иванович и вовсе озаботился. И не только слова Баранова были тому причиной, но почерк управителя. Буквы сбегали с листа, строчки стекали к краю, и видно было – писано это человеком так уставшим, что и легкое гусиное перо ему неподъемно. Помочь, немедленно помочь след было новоземельскому управителю, но только народа, сведущего в ремеслах, в восточных российских пределах сыскать было трудно. На вес золота ценились здесь такие люди. Охотники, землепашцы – с этими было полегче, а мастеровой люд больше по старым российским городам жил, и вызвать ремесленных с насиженных мест, оторвать от привычных дворов куда как было сложно.
Шелихов не раз с ремесленными разговоры вел. Не просто, ох не просто человеку взять да и сняться с места, на котором и деды и прадеды жили. Пуповиной прирастают люди к своим домам. Такого вдаль сманить? Э-г-е-г-е... Прочихайся, потом скажешь. Но и уговорить ремесленного было половиной дела. Много труднее – выхлопотать разрешение на вывоз мастеровых за океан. Правительственное распоряжение на то требовалось. Гербовая бумага с печатями и высокими подписями. В хлопотах о мастеровом народе Шелихов измаялся душой. Как только ни убеждал чиновников, с посулами ходил, объяснял выгоду для державы в посылке на новые земли мастеровых, но все понапрасну. Тогда, осерчав, написал он в Питербурх своему благодетелю Федору Федоровичу Рябову. Ответа ждал с трепетом. Последней надеждой была для него весть из Питербурха.
Федор Федорович, получив письмо Шелихова, направился к патрону. Граф выслушал помощника и сказал:
– Сие требует положительного решения. Готовьте бумаги, Федор Федорович. Со своей стороны я приложу старания к разрешению дела.
В тот же день питербуржцы видели выезд графа, поспешавший по столичным улицам. За стеклами кареты проглядывало холодное лицо Воронцова. Оно казалось бесстрастным, и мало кто знал, что и бесстрастность эта, и холодность были только привычной манерой графа держать себя, его «маской». На самом деле многих волнений и беспокойств стоили Воронцову восточные начинания. И все же за последнее время граф немало успел в осуществлении планов экспедиции в Японию. Высочайшего распоряжения, правда, еще не последовало, однако общее мнение значительно подвинуто было к решению сей проблемы. И конечно, немалую роль в необходимых действиях сыграл личный секретарь императрицы. Безбородко так ловко мог стремить паруса своей лодьи в бурных правительственных водах, что складывалось впечатление – и все были в этом убеждены,– будто действует он не вопреки высочайшей воле, но лишь исключительно ею направляемый. Так и сейчас, выслушав ходатайство графа относительно разрешения вывоза на новые земли мастеровых людей, Безбородко рекомендовал Воронцову, не сомневаясь, направить это дело в развитие состоявшегося мнения о необходимости японской экспедиции.
– Мой любезный друг,– сказал он, беря графа за локоть,– споспешествование Северо-Восточной компании, участие которой в столь важном правительственном акте, как экспедиция в Японию, уже никем не оспаривается, есть естественное продолжение занятой правительством позиции. Кто же будет воспрепятствовать начинаниям компании? И именно в этом направлении следует вести разговоры. Я убежден – успех обеспечен.– Он ободряюще подмигнул Воронцову.– Действуйте, граф,– сказал,– действуйте.
Безбородко был игрок и рисковать любил.
Этих слов достаточно было президенту Коммерц– коллегии. Бумаги были выправлены тотчас и при известной изворотливости Федора Федоровича тотчас же скреплены необходимыми печатями и подписями. По длинным правительственным коридорам пролетел он птицей под благословение секретаря императрицы.
На плотную бумагу правительственного распоряжения был наложен сургуч, в пылающую, глянцевую массу втиснута орленая печать, и курьер поскакал по российским бесконечным дорогам. У питербурхской городской черты солдат поднял шлагбаум перед курьерской тройкой и подивился резвости коней. За тройкой всплеснулась пыль, и солдат покрутил головой: только что видел ее здесь, а она уже в-о-о-н где. Не разглядишь, ежели плох глазами.
– Да-а,– сказал,– как коники царские бегают.
Бумаги были направлены иркутскому губернатору генералу Пилю. От него без промедления дали знать о вышедшем разрешении Шелихову в Охотск. В бумаге правительственной говорилось, что выделяются в распоряжение Григория Ивановича Шелихова ссыльные, «знающие кузнечное, слесарное, медековальное и меделитейное мастерство, и десять человек мужска пола с женами и детьми для заведения хлебопашества». Генерал Пиль распорядился передать Шелихову ссыльных, приписанных к Охотскому острогу.
Не мешкая Шелихов отправился в острог.
Острожных Григорий Иванович часто видел на улицах Охотска. Шли они толпой, плотная серая масса колыхалась в странном движении, как если бы это были не отдельные люди, каждый из которых наделен своим лицом и своей жизнью, но безобразное, неряшливое тело, подгоняемое, подталкиваемое злыми криками окружавших казаков. В морозном воздухе над острожными стоял серый, как и они сами, туман от дыхания, усиливая впечатление, что это одно целое, связанное единой цепью и единым дыханием, вившимся над ними рыхлым, неистаивающим облаком. Толпа двигалась неровными толчками. Они зарождались в головных рядах и перекатывались дальше и дальше до последнего человека, а оттуда вновь возвращались в голову. Движение острожных было противоестественно, как противоестественно движение калеки.
В остроге Григория Ивановича принял чиновник с ласковым и тихим голосом, никак не вязавшимся с толстыми коваными решетками на окнах и видимым за ними высоким частоколом. Чиновник, казалось, обнюхал поданную Шелиховым бумагу за подписью генерал-губернатора и поднял воспаленные глаза на Григория Ивановича.