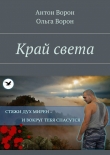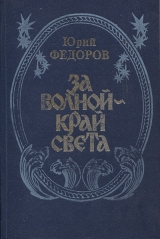
Текст книги "За волной - край света"
Автор книги: Юрий Федоров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
Опустив ладони, индеец прислушался. Бочаров разглядел, как поднялись у него плечи.
«Уа, у-а«а,– долетел снизу ручья голос плачущего лосенка.– У-а-а-а...»
Не мешкая больше, индеец быстро пошел вверх по течению. Из-под ног взлетали брызги, вспыхивая разноцветной радугой в косых лучах солнца.
Бочаров провожал его взглядом, пока тот не скрылся за поворотом ручья. Теперь капитан знал: их отделяет от преследователей только час ходьбы. Один час. Слишком мало, чтобы отдохнуть и надежно запутать следы. Однако он понимал и то, что, каких бы это ни стоило сил, надо встать и, несмотря на усталость, идти быстрей, чем они шли прежде... Только тогда к сумеркам они могли иметь в запасе необходимое время, которое позволило бы уйти от погони.
Бочаров повернулся к лежащим в кустах ватажникам. Те поднялись и подошли к нему.
– Ну, мужики,– сказал капитан,– видели – каков? Свеженький, будто и не бегал по лесу.
– Да,– ответил бородатый устюжанин, которого Бочаров приметил, когда они лямкой вели байдары, и устюжанин, не в пример другим, тянул за троих.– Видать, ходок.
– То-то,– сказал Бочаров,– нам сейчас хоть в узел завяжись, а идти надо.
– Чего уж,– сказал устюжанин,– пошли.
Бочаров, в другой раз прикидывая, на что способен в ходке каждый из ватажников, обвел глазами мужиков. Молодой парень, стоявший за плечами устюжанина, нехорошо морщась, поправил на плече ремень ружья. Третий, видать, желая поддержать устюжанина, повторил за ним:
– Пошли, пошли.
Тогда и молодой сказал:
– Пошли.
И опять поправил ремень. И это дважды отмеченное Бочаровым движение, и то, как странно сморщился молодой, капитану не понравились. Он хотел было сказать, что о ружье надо забыть, но не сказал. Бочаров понимал, что основные трудности впереди, и не желал, чтобы и малое несогласие между ними занимало и его и их мысли, отнимая частицы сил.
Бочаров повернулся и зашагал от ручья.
Капитан шел, ступая расчетливо и экономно, следя за дыханием и не делая ни единого движения, которое бы сбило с наладившегося хода. Так же внимательно, как он следил за собой, капитан приглядывался к ватажникам, зная, что если даже один не выдержит заданной гонки, вся их затея пойдет прахом.
Мужики, однако, шли хорошо.
Они прошагали верст пять, будто обретя новые силы. Бочаров вел ватажников по лесу петлями, возвращаясь и возвращаясь на свой след, с тем чтобы и преследователи также шли петлями, приходя каждый раз после нового круга на старую тропу. Наконец ватажники вышли к распадку, протянувшемуся меж невысоких сопок, пологие склоны которых заросли чащобным лесом. Лес этот, видимо, не раз горел и, поднимаясь по гари, был особенно густ. Глядя на чащобную заросль, капитан решил перейти через сопку и, прибавив в ходе, вернуться к тому ручью, у которого они увидели индейца, трубившего лосихой. Бочаров рассчитал так: ежели они успеют к ручью к тому времени, когда туда же выйдут индейцы, у них наконец-то за плечами будет достаточно верст путаного хода по чащобе, чтобы соединиться с основной частью ватаги.
Бочаров оглянулся на мужиков и полез на сопку, спотыкаясь о корни поваленных деревьев. За плечами надсадно дышал молодой ватажник. Бочаров время от времени оборачивался подбодрить его:
– Ничего, ничего!
Парень хрипел. Коротким «ничего, ничего» капитан, как веревкой, тащил его за собой, боясь, что парень сядет под дерево и, раскинув руки, скажет: «Все, я больше не могу». Но парень шел.
Наконец за кустами блеснул ручей. Парень упал в траву. Бочаров, выбрав удобное для наблюдения место, опустился на землю. Рядом прилегли мужики. Сознание того, что они дошли, было для Бочарова сейчас лучшим отдыхом, и он никак не ожидал, что придется пережить еще одно испытание.
Индеец появился у ручья, словно выпрыгнул из лесной чащи или будто бы лес вытолкнул его жесткими ветвями. Увидев лесного охотника, Бочаров оглянулся на мужиков, чтобы предупредить неосторожное движение, и замер от неожиданности. Молодой ватажник, которого он чуть ли не на плечах дотащил до ручья, поднял ружье, метясь в индейца. Бочаров понял: ему не успеть подползти и задержать руку у курка. Что произошло с молодым ватажником – сказать было трудно. Скорее всего, это был тот случай, когда человек, устав до изнеможения, теряет волю и уже не управляет своими поступками. Бочаров видел, как ствол ружья поднимался над травой... И тут из-за куста талины упал камнем на молодого ватажника устюжанин. Придавил к земле. Бочаров услышал горловой, задушенный шепот.
– Дура, дура... Вот дура...
Два тесно сплетенных тела замерли.
Бочаров повернулся к ручью. Индеец стоял на том месте, где ватажники лежали в средине дня, рассматривал их следы. Не подав сигнала сородичам, индеец нырнул в кустарник. Качнувшиеся ветви указали направление его движения. Он шел к распадку. Теперь Бочаров был уверен: время оторваться от погони и соединиться с ватагой у них есть.
Уйдя от преследования индейцев, сохранив людей и лодьи, капитан Бочаров перешел через Аляскинский полуостров. Ватага его вышла к Кенайскому проливу и добыла шкуры, дабы, обтянув заново лодьи, идти на Кадьяк.
* * *
Баранов, после того как в Чиннакском заливе побывал испанский непрошеный гость, и минуту, потерянную на строительстве крепостцы, считал прожитой попусту. Так и говорил:
– Промешкал, выполни урок хотя бы и ночью. Неча спать. Ты, считай, выспался в минуту потерянную.
И не щадил никого. Бывало, вскинет глаза, посмотрит жестко, и станет ясно: не спустит, делай, как сказано.
Ватага ставила палисады с бойницами, раскаты окладывала дерном, возводила башни и засыпала их доверху землей. На земляных работах мужики выматывались не меньше, чем на путине. Железа требовалось теперь в два раза больше. Кузница гремела, почитай, без перерыва. Горны не тушили. Кузнецы приткнутся где ни есть поспать и опять за молоты. То же и с лесом. Но к этому делу Александр Андреевич пристроил коняг. Поначалу пилы им представлялись страшным зубастым зверьем: визгливым, гибким и непременно коварным. Управитель неведомо как переборол в них страх, и теперь коняги с охотой разваливали лесины на плахи. Вроде игры это стало у них, и коняги, выхваляясь один перед другим, пилили с азартом.
Как-то Баранов, забравшись с Кильсеем на только что засыпанную землей башню, ткнул пальцем вниз:
– Глянь!
Кильсей оборотился и увидел, как коняжский хасхак, стоя на высоких козлах, махал пилой. В работе ему, видать, стало жарко, и он, скинув меховую одежду, по пояс голый, облитый потом, уже не пилил, но играл длинным гибким лезвием, разваливавшим желто-медную лесину. Мощный торс хасхака сгибался и разгибался, и, хотя Баранов с Кильсеем глядели на хасхака с верха башни, видно было, что каждый мускул пильщика участвовал в работе, проступая под кожей тугими узлами, свободно перекатываясь, гибко и весело напрягаясь в размеренных, умелых движениях.
У Баранова лицо вспыхнуло румянцем от удовольствия.
– Хорош,– сказал он,– а говорили, коняги не умеют с пилой. Все они умеют.
И на валке леса лучше коняг не было умельцев. Коняг, только подходя к лесине, уже знал, как подступиться. Одним взглядом определял, куда наклонен ствол, как в нем сучки проросли, куда ударить топором и как ляжет подрубленное дерево. Валили лес они без замахов богатырских, как лесоруб за плечо закидывает топор и бьет в лесину наотмашь, далеко разбрасывая щепу. Нет, коняг силу попусту не тратил, рубил короткими, сильными ударами, лезвие шло в ствол под углом, зло вгрызаясь в древесную мякоть и отваливая щепу тут же, под ствол. Глядишь, вроде бы только подошел лесоруб к могучему дереву, а оно уже лежит на захвоенной земле, и смола закипает на ровном, словно пилой сделанном срезе.
Баранов не уставал хвалить коняг, да и они в нем души не чаяли. Но как ни споро шла работа, управитель гнал и гнал ватажников.
Кильсей, сидя ввечеру в землянке Баранова, сказал на то:
– Андреевич, ты так и себя загонишь, и людей замордуешь.– Взглянул осуждающе.
Баранов вскочил из-за стола, метнулся по тесной землянке, но опять сел, подвинул фонарь и, припустив фитиль, вгляделся в лицо Кильсея. Спросил:
– Ты капитана видел? А уразумел, почему он стройку рассматривал? Слова его помнишь, что-де земли американские Испанской короне принадлежат?
– Помню, как не помнить,– ответил Кильсей, качнувшись на лавке.
– То-то,– заторопился управитель,– то-то...– Выставил палец, помотал им. И в третий раз сказал, не находя сгоряча другого слова: – То-то!
И, вдруг замолчав, опустил голову.
Так просидел он минуту или две.
Кильсей ждал.
Баранов, уперев взор в щелястую крышку стола, за короткие эти минуты мысленно прошел по всей своей жизни. Перебрал день за днем и пожалел, что мало, очень мало – почитай, и вовсе не было – деньков, которые ушли у него на учение. Отец поводил недолго пальцем по книге, выговаривая с натугой: «Аз, буки, веди»... Потом сосед-дьячок (мать свела ему кабанчика) цифирь показал и заставил псалтырь затвердить, да сам позже, урывками, кое над чем посидел. И все. Какое уж здесь с инородцами разговоры о землях вести? Однако, нет! Баранов кулаком по столу стукнул, так что Кильсей от неожиданности вздрогнул.
– Не шибко грамоте учили меня,– сказал Баранов,– но все одно вижу: капитан испанский на землю, на которой сидим, смотрел, что на лакомый кусок, и проглотил бы его разом, не укрепись мы здесь, не вгрызись фортами самой этой крепостцы. Неужто ты этого не уразумел?
Глаза у Баранова побелели.
Вот ведь как оно получалось. На краю русской земли сидели два мужика, и им бы, по их нелегкому положению, о животе своем беспокойство проявить, помыслить, как живу остаться, не сгинуть безвестно в дальних краях, но нет – они о государственных делах разговор вели. Да еще какой разговор: Баранов-то в стол кулаком саданул, глазами побелел. Знать, державный интерес за живое его когтил. Откуда бы, казалось, такое? Что им держава? Да и видит ли она их? Эко, взгляни, расстояние какое через океан, и все волны, волны, облака... Углядеть никакой возможности. А он кулаком по столу...
Издревле ломали, гнули Россию черные нашествия. Горела земля, гибли люди, рушились города. И русский человек в пламени набегов в кровь впитал и с кровью сыну, внуку передал: жить будешь, доколе стоит твоя земля. Мужик говорит: «Как мир, так и я». И его же слова: «На миру и смерть красна». Он на миру спляшет, в последнем отчаянии ворот на себе разорвет, покрасуется на миру и голову за него сложит. А мир – Россия. Вот оттого-то и кулаком по столу...
Баранов, повстречавшись с испанским капитаном, разглядел наперед, как жизнь на новых землях будет складываться и чего сулят им встречи с такими вот капитанами. Видел он, видел прищуренный глаз капитанский, жестко сжатые губы, пальцы, играющие на эфесе шпаги, и мысли его достиг.
– Он нас, Кильсей, живьем съест,– сказал управитель,– выкажи мы хотя бы и в малом слабину.
– Да-а-а,– протянул Кильсей, подумав,– похоже.
– Не похоже, а точно,– отрезал Баранов,– оттого я и жму изо всех сил. К осени непременно надо, чтобы крепостца стояла и городок был. Хоть в лепешку разбейся.
На том разговор они закончили, и Кильсей с того вечера погнал на строительстве, как и управитель, а может, и круче. В ум вошло мужику, что слабина в их деле горем может оборотиться.
Наутро начали копать тайный ход к заливу. Мужиков для такого дела выбрали надежных, но и при этом Баранов не вылазил из темного, сырого подземного хода. Работу вели при факелах, задыхаясь от дыма; чад разъедал глаза.
На третий день, спустившись в тайных ход, Александр Андреевич услышал разговор ватажников. Они не видели управителя за кривым, как колено водосточной трубы, поворотом.
– Ну, попали мы черту в зубы,– сказал первый голос.
Баранов не стал бы ждать продолжения разговора, не в его это было правилах, но у поворота, при свете факела, увидел – стойка крепления треснула, и управитель остановился, прикидывая, как ее поправить.
– Намаешься,– продолжил голос,– все одно что на барщине. А на кой хрен в этом ходе горбы ломать?
Мужик закашлялся трудно, надсадно. Чувствовалось – кашель раздирал грудь.
Баранов, подняв факел, хотел было вышагнуть из– за поворота, и тут второй голос – басистый, крутой – возразил закашлявшемуся мужику:
– Зря ты, Никифор. Тебя не силой сюда звали. Да и ход роем мы своего бережения для... Чего жаловаться? А то, что трудно? Так оно, почитай, нет работы без труда. Шаньги сладкие с приятностью только жуют.
Баранов по голосу узнал говорившего. Был это густобровый, с жесткой, что проволока, черной бородой иркутянин. «Хорошо говорит,– подумал управитель,– лучше не скажешь».
Поднял факел, вышагнул из-за поворота и, будто не слыша разговора, озабоченно сказал:
– Крепь за углом треснула,– кивнул чернобородому,– добеги до Кильсея, леса хорошего сюда мигом.
– Выдюжит крепь,– возразил тот, но Баранов настоял:
– Нет, нет,– повторил,– тут лес надо надежный. Сбегай.– Взял лопату.– Я поворочаю за тебя.
Мужик перелез через наваленные горой неподъемные камни, нырнул в темноту.
Баранов укрепил в стене факел, повернулся к расчищавшему проход мужику, спросил:
– Кашляешь? Давно это у тебя?
Тот не ответил.
– Ты вот что... Вечером ко мне зайди. Настой дам травный, отмякнет в груди.
Мужик поднял лицо и посмотрел на Баранова, но управитель уже долбил лопатой в стену. Из-под лопаты сыпалась земля, и пыль заволакивала ход, пригашая свет факела. Пламя начало мигать, гаснуть. Баранов откачнулся от стены, опустил лопату.
– Нет,– сказал,– так негоже. С такой работой к берегу не пробиться. Задохнешься.
В глубине прохода, в темноте, послышались голоса. Баранов поставил лопату к стене, взялся за факел, высветил свод. Увидел: над головой клубилась пыль. Факел чуть не погас.
Из темноты выступил Кильсей. Спросил:
– Чего тут? Андреевич, дерево даем самое лучшее.
Баранов высвечивал свод. Лицо его в неверном свете выглядело сосредоточенным.
– Андреевич,– в другой раз позвал Кильсей.
– Постой,– ответил Баранов и, только опустив факел, сказал: – Плохо дело, так не пойдет.– Показал на груду камней: – Садись.
Присели, ожидая, что скажет управитель. Пыль спускалась со свода, хрустела на зубах, ложилась на лица.
– Надо колодцы пробивать,– сказал Баранов,– они дадут воздух. Дым, пыль вытягивать будут.
Чернобородый иркутянин задрал голову, посмотрел на свод.
– Это дело,– сказал,– как мы раньше не доглядели. Сподручней будет.
– Рухнет свод,– возразил Кильсей.
– Не рухнет,– неожиданно возразил мужик со слабой грудью,– в Знаменском монастыре, в Иркутске, так же вот ход тайный рыли, и через каждые двадцать сажень продушины пробивали. Ничего, держало.
Баранов поднялся на ноги.
– Решено,– сказал,– закончив ход, отдушины завалим.– Повернулся к мужику, сказавшему о Знаменском монастыре, похвалил: – Молодца, соображаешь. А то– барщина, барщина...
Мужик понял, что управитель слышал его разговор, но промолчал.
– А вечером зайди,– сказал ему Баранов,– непременно зайди. Дам траву, полегчает,– И оборотился к Кильсею: – Поставь пяток мужиков колодцы бить. Время не ждет.
Управитель вылез из тайного хода, обдернул разорванную о камни полу камзола, остановился, расставив ноги. Перед глазами, после подземельной темени, клубилась чернота, но отвалило ослепление, и взору открылся залив, во всей широте выказались строящиеся крепостца и город. Теперь вовсе отчетливо проступили будущие улицы, площадь, бастионы и форты. Увиделись причалы, и легко домыслить было стоящие у пристани галиоты, белые паруса шныряющих по заливу лодей. И Баранов увидел и паруса, и лодьи... Незаметно, исподволь, но он, купец каргопольский, поднял житье россиян на новых землях ступенью выше. Трехсвятительская крепостца, что ни говори, а игрушкой была в сравнении с разворачивающимся на берегу Чиннакского залива городком. Но даже не в размерах была суть. Здесь, в Чиннакском заливе, явственно обозначилось: за крепостцой и городком не купец, как за зимовьем, стоит, но держава. Баранов теперь был уверен: городок и крепостцу, которую вскоре назовут Павловской, к осени они построят.
...Никогда не было так ясно небо над Северо-Восточной компанией, никогда не поддувал так ветер в ее паруса, и – главное – не было у нее таких матросов, что ныне стояли на вантах и могли даже под шквалом вести судно по курсу. Однако в глубоком трюме скользящего по волнам галиота компании объявилась пробоина, о которой не знал пока Баранов, да и Шелихов.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Ясский мир был подписан. Турция признала присоединение Крыма к России и новую русско-турецкую границу по Днестру и Кубани. В Питербурхе победу отпраздновали с подлинным триумфом, и императрица, утомленная поздравлениями, отправилась в загородную резиденцию Саари-сойс.
Секретарь императрицы Безбородко в дружеской беседе с Александром Романовичем Воронцовым сказал:
– Положение на юге ныне не беспокоит государыню. Да оно и очевидно – основные вопросы здесь решены.
Личный секретарь императрицы был настроен благодушно.
– Я полагаю,– сказал он,– что некоторое время спустя государыня займется внутренними делами империи, и мы сделаем следующий шаг в развитии восточных начинаний в желаемом направлении. В нужное время я дам знак.
Однако шли дни, но Безбородко вести не подавал.
К изумлению переселившегося в Саари-сойс двора, императрица после нескольких дней, отданных развлечениям и отдыху, обратилась к предмету неожиданному.
Во время очередного доклада секретаря Екатерина задала вопрос, который сильно удивил и Безбородко, давно привыкшего ничему не удивляться.
– Сколько стоит говядина в Питербурхе? – спросила императрица.
Безбородко неопределенно сложил губы. Он знал, сколько стоит говядина, но хотел предугадать следующий вопрос повелительницы, ему была хорошо известна ее слабость к парадоксам. Екатерина, желая слыть человеком, мыслящим оригинально, время от времени озадачивала свое окружение вопросами, которые ставили в тупик даже и людей, привыкших к придворным неожиданностям.
– Ну, ну, мой друг,– улыбнулась императрица личному секретарю.
Безбородко перебрал в голове возможное продолжение разговора и, не найдя ни малейшей связи между ценой на говядину и чем-либо из упоминавшегося в докладе, ответил:
– Копейка за фунт, ваше величество.
Императрица помолчала.
Безбородко, нагнув голову, ждал фейерверка, который бы еще раз подтвердил необычный образ мыслей самодержицы. Но Екатерина самым обыденным тоном осведомилась:
– А какова цена на говядину в Москве?
Тут уж Безбородко мысленно обозрел не только сегодняшний доклад, но и все последние дворцовые веяния. Этот экскурс определенно свидетельствовал: ничего общего не было между говядиной и всем происходящим при дворе, хотя бы и за минувшие полгода. Безбородко уяснил это твердо, прежде чем назвал цену говядины в Москве.
– Хорошо, мой друг,– сказала императрица, разглядывая, по своему обыкновению, лицо секретаря так, как ежели бы она видела его впервые. Затем распорядилась: – Завтра поутру сообщите мне изменение цены на говядину за последние два года в Питербурхе и Москве. Одновременно я хотела бы знать, по какой цене вывозится мясо из России нашим купечеством через Питербурхский и Архангельский порты.
Ежели бы дворцовый этикет позволял, то секретарь императрицы с удовольствием хлопнул бы сейчас кулаком по лбу. Но это было невозможно, он только мысленно выругал себя за недогадливость, и словами довольно замысловатыми. Чего-чего, а выражений крепких секретарь императрицы знал предостаточно.
В этот же день последовал долго ожидаемый сигнал президенту Коммерц-коллегии. Ввечеру граф Воронцов прибыл в Саари-сойс. В сумерках у подъезда царского дворца, где были отведены апартаменты секретарю императрицы, остановился хорошо известный Питербурху выезд графа. А через несколько минут солдат, стоявший на карауле у подъезда, увидел за окнами апартаментов Безбородко четкие силуэты гостя и хозяина. При свете свечей они, вероятно, что-то заинтересованно обсуждали, прогуливаясь против окон. Солдат отвернулся, отвлеченный звуком пастушьего рожка, нежно и тонко выпевавшего нехитрую песню.
Скрытой за газонами дорожкой пастух вел стадо из пяти коров, специально привезенных в Саари-сойс из Ганновера. И пастух, и удоистые коровы были прихотью императрицы. Она сказала как-то, что песня пастушьего рожка ее бодрит, и вот рожок запел у царского дворца. Впрочем, императрица не отказывалась и от молока, которое давали дорогие коровы. По утрам Екатерина позволяла себе каплю сливок к лично приготовленному крепчайшему кофе.
Стадо прошло, и солдат вновь оборотился к окнам.
Знакомые силуэты по-прежнему были видны за зеркальными стеклами.
Утром, во время доклада секретаря, перед императрицей объявился граф Воронцов. Екатерина сказалась удивленной. Безбородко, дабы еще более выявить показавшееся необходимым императрице удивление, подтвердил, что появление графа в Саари-сойс неожиданность.
– Однако,– сказал он, – неожиданность сия весьма кстати, так как никто иной лучше, чем граф Воронцов, не сможет дать объяснение о ценах на говядину в Москве и Питербурхе и их зависимости от вывоза говядины через российские порты.
Вперед выступил граф.
– Ваше величество,– сказал он,– Коммерц-коллегия взяла за правило ограничивать вывоз хлеба и мяса через упомянутые вами порты, как только цена на них возрастает на рынках обеих российских столиц. Это правило мы сделали обязательным, так как известна непомерная алчность некоторых людей, занимающихся торговым промыслом.
Один из присутствующих на аудиенции высоких придворных, недовольно покашливая, сказал:
– Любезный Александр Романович, позвольте...
Императрица оборотила к говорившему заинтересованное лицо. На губах самодержицы цвела приветливая улыбка. И хотя близкий вельможа знал, что улыбка царицы не всегда выражает ее подлинные чувства, он все же продолжал свою речь:
– Люди, занимающиеся торговым промыслом, истинные патриоты державы, любящие Россию.
Такая горячность вельможи объяснялась тем, что он сам участвовал в широком вывозе за море российского хлеба и мяса. И оттого, не сдержавшись, он повторил:
– Да, да... Любящие Россию.
И тут же был наказан. Улыбка сошла с лица императрицы. Выделяя каждую букву, Екатерина сказала:
– Я бы выразилась точнее: подобные лица любят не Россию, а себя в России.
Безбородко сцепил челюсти, чтобы не издать какого-либо звука. Он давно понял, что все предыдущее было лишь четко и продуманно разыгранным спектаклем, дабы сказать именно эту фразу и именно тому, кому она и была сказана.
Произнеся свои слова, императрица перевела взор на лежащую в ногах борзую. Секретарь сказал себе: «Спектакль окончен. Занавес упал».
Дальнейший его доклад был бесцветен.
Малое время спустя Безбородко сошелся с графом Воронцовым в своих апартаментах. И только здесь он дал волю чувствам. Смех его был громоподобен. Отсмеявшись и вытерев выступившие на глазах слезы, Безбородко вдруг по-малороссийски сказал:
– О, бисова душа! – Покрутил с восхищением головой.– О-о-о...– Взял графа за руку.– Императрица, играя в карты, по счетам отдает с аккуратностью. Мы для нее разыграли спектакль. Разыграли успешно.– Безбородко низко поклонился воображаемой самодержице, но тут же выпрямился и уже без шутки сказал утвердительно: – За это она нам с удовольствием заплатит.
Потирая руки, Безбородко оживленно прошелся по зале, весело ударяя каблуками в несравненной красоты дворцовый паркет. Крутнулся легко на месте, оборотился к Воронцову:
– Перво-наперво надо окончательно решить с экспедицией в Японию. Высочайшая подпись – я ручаюсь – гарантирована.– Далее,– продолжил он,– я полагаю, будет своевременным нижайше просить ее величество начертать личную записку иркутскому губернатору с поощрительным мнением относительно восточных начинаний.
– Это будет победой,– развел руками граф,– более чем победой.
Безбородко вскинул указательный палец со сверкающим на нем бриллиантом величиной в лесной орех:
– Так и будет, граф, так и будет!
Секретарь императрицы оказался прав. Он хорошо знал условия игры при дворе.
* * *
У Ивана Ларионовича Голикова не хватило духа разом вывалить компаньону все, с чем он приехал в Охотск. Маялся старик. Много лет связывало его с Шелиховым, много общих надежд было у них и – топором рубануть по-живому? Но разговор был не окончен, и как ни крути, а кончать его... Тут Голиков голову вскидывал, будто шею ему тугим ошейником перехватили, кряхтел надсадно.
По утрам Наталья Алексеевна слышала, как он шаркающей походкой подолгу ходил по комнате, шептал неразборчивое. По всему было видно: старик не в себе. Наталья Алексеевна спрашивала:
– Что, Иван Ларионович, может, нездоровится? Я велю баньку истопить.
Старик досадливо отмахивался. Был Голиков раздражителен, как никогда.
Три дня ездил он по Охотску с компаньоном без всякого интереса, пустыми глазами осматривая компанейские лабазы, верфь, готовые к отплытию галиоты. По палубам ходил, цепляясь за несуществующие сучки, вялыми руками листал судовые журналы, говорил с капитанами, но так, что и постороннему было видно: разговоры его тяготят. Капитаны смотрели с удивлением.
Григорий Иванович молчал. Беду нутром чувствовал, а торопить с разговором не решался. Что-то мешало ему, а может, страшно было ковырнуть-то? В первый день встречи наговорено было немало о долгах, о Лебедеве-Ласточкине, о Кохе. Еще и это не прожевал, и оно горечью жгучей стояло в горле. Возил компаньона по Охотску и прятал глаза от старика. За столом напротив не садился. А так – приткнется сбоку и в тарелку взор упрет.
Маета такая была обоим тягостна.
Прошла неделя. Старик как тяжелая оплетка связывал Шелихова по рукам и ногам. Дела не делались, и компанейский люд в недоумении пожимал плечами. Не знали, что и думать.
В один из этих дней Шелихов повстречался с капитаном порта Кохом. Тот приехал на причал по пустяковине какой-то, и после двух сказанных слов стало понятно, что единственная причина визита – желание взглянуть на Шелихова.
Кох повертелся у галиотов и, ничего дельного не сказав, сел в коляску, которая тут же тронулась.
Шелихов постоял минуту, другую, повернулся и долго разглядывал пустынный горизонт. Лицо его было таким, что капитан галиота, собиравшийся подойти с неотложным вопросом, почему-то подумав: дело терпит и неотложность его сомнительна, пошел прочь.
В тот вечер Шелихов закончил разговор с Иваном Ларионовичем.
– Говори,– сказал старику,– что маешься?
Голиков сидел у окна, к нему спиной и, не оборачиваясь, сказал:
– Из дела я выхожу, Гриша.
От этих простых и коротких слов воздух в комнате вдруг уплотнился и осязаемо прилил к лицу Шелихова. И не то что двинуться, вымолвить слово и то показалось трудно, словно для того требовалось огромными усилиями раздвинуть глыбы застывшего воздуха и только тогда в образовавшееся пространство вколотить голос.
Иван Ларионович медленно повернулся, но и сейчас Шелихов не увидел его лица, а разглядел лишь силуэт, вырисовывающийся на фоне гаснущей за окном, не к месту веселой рыжей зари.
И, почему-то с горечью подумав, что заря рыжая и веселая, Шелихов почувствовал в голове пустой и нехороший звон. Мыслей не было.
– Я понял это, Иван Ларионович,– сказал он.
– Как будешь жить дальше? – спросил Голиков.
И это слово «дальше» закувыркалось в сознании
Шелихова, все возвращаясь и возвращаясь, словно повторяемое эхом: дальше, дальше, дальше... «Почему дальше? – подумал он.– Что буду делать сейчас?» Но на этот вопрос он не ответил, а в мысль вошло другое: «Я всегда знал, что Иван Ларионович бросит новоземельское дело. Знал, но не хотел так думать». И воздух вдруг словно разредился, разлетелся легким ветерком, и комната наполнилась звуками. Григорий Иванович услышал звон с раздражением брошенной на стол Голиковым даренной царицей шпаги, звяканье почетной медали, катящейся по полу, шелест денежных купюр, отсчитываемых Голиковым на краю стола, звяк замка шкатулки компаньона. Звуки нарастали, ширились, заполняя комнату, и уже не от глыб застывшего было воздуха, но от множества неожиданно проснувшихся голосов в комнате стало трудно дышать. Звон, бренчание, шелест врывались в уши, глушили, ошеломляли.
– Хочешь знать, почему я выхожу из дела? – спросил Голиков.
– Нет,– коротко ответил Григорий Иванович.
Иван Ларионович двинулся от окна навстречу Шелихову.
– Я скажу,– начал он.
– Не надо,– возразил Григорий Иванович.
Голиков, как слепой, протянул руки к Григорию Ивановичу и, мелко перебирая ногами, приближался и приближался, повторяя:
– Скажу, скажу.
Голос Ивана Ларионовича, хриплый, с потайной, скрываемой болью, вдруг потерял богатства звуков:
– У меня две дочери, две дочери на выданье, приданое нужно... Мне в сыновьях не повезло... Да что я говорю? Сам знаешь: сын в дом, а дочь все вон! А тут еще Лебедев-Ласточкин Алеуты обобрал. Компании-то что останется? – Он тянул и тянул руки к Григорию Ивановичу.– Ты пойми, пойми!
Шелихов отступил шаг назад, толкнулся спиной в дверь, переступил через порог и, пятясь, плотно притворил за собой тяжелые дверные створы. Придавил ладонями. Звуки смолкли, как обрезанные.
На следующий день Иван Ларионович с предельной аккуратностью обсчитал компанейские бумаги, до копейки определил свою долю в компании, подвел черту под колонкой цифр и не глядя по столу подвинул Шелихову расчеты.
Компаньоны почти не разговаривали. Так только: «Подай вот то», «покажи это», «пересчитай, ежели хочешь».
И все.
Ужинали в последний вечер перед отъездом Ивана Ларионовича, тоже почти не разговаривая.
Позвякивали тарелки, Наталья Алексеевна вносила и выносила кушанья с ничего не выражающим лицом, однако знала она все.
К концу ужина, когда внесли самовар и хозяйка заварила любимый стариком китайский жулан, ароматный и темный, как хорошо выдержанное вино, у Ивана Ларионовича судорога прошла волной по лицу, но он сдержал себя и твердо протянул руку за чашкой чая. Хозяйка подала чашку с поклоном. Голиков, торопясь и обжигаясь, выпил чай, встал и ушел в отведенную ему в глубине дома комнату.
Провожать купца Шелихов вышел во двор. Голиков бойко сбежал с крыльца, сунулся было к возку, но вернулся, хотел что-то сказать, однако только ткнулся головой в грудь Григорию Ивановичу, всхлипнул, тут же откачнулся от Шелихова и ввалился боком в возок.
Кони тронулись.
Шелихов смотрел вслед отъезжающему возку и все тер и тер широкой ладонью с левой стороны груди.
* * *
То, что Голиков изъял капитал из компании, так било по новоземельцам, что, если бы не свирепая воля Шелихова, рухнуть делу сему до основания. Раскатали бы избу по бревнышку и там, где из печи пироги метали на стол с сидящими вкруг него веселыми, ухватистыми работниками, гремели задорные голоса, и дух домовитости был крепок и заборист так, что в нос бил, проросла бы сиротская полынь – горькие, седые, печальные кустики пустышей и пожарищ.