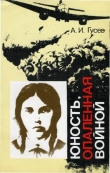Текст книги "Опаленная юность"
Автор книги: Юрий Ильинский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
На пороге стоял старшина Марченко. Голова старшины, замотанная грязными бинтами, казалась непропорционально огромной. Марля скрывала все его лицо, и только один глаз, черный, налитый кровью, вспыхивал злобным огнем. Марченко попал под огнемет.
– Ось, побачьте, – громыхнул старшина, – на сукиного сына! – Он пропустил впереди себя понуро стоявшего красноармейца. Из щелей сочился неясный свет. Красноармеец поднял голову, и добровольцы замерли в недоумении – перед ними стоял Вовка Панов.
– Что он сделал? – выдохнул весь подвал. – Вовка, в чем дело?
– Его, подлюку, спытайте!
Панов молчал.
Бельский недовольно поморщился:
– Вы, старшина, доложите командиру, как положено. Нечего в боевой обстановке загадки загадывать!
– Слушаюсь! Товарищ старший лейтенант, докладываю.
И старшина доложил. И добровольцы слушали, разинув рты.
Еще днем старшина приказал Панову находиться у пулемета, подтаскивать боеприпасы, чтобы пулеметчики – два бойца из второго взвода – могли не отрываясь заниматься своим делом.
Позже, пробираясь по обороне, старшина обнаружил сержанта Панова в глубокой воронке в тылу передовой линии.
– Це еще что за штучки, сержант?
– Я… Мне показалось, что здесь укрыть боеприпасы надежнее.
– Так то ж боеприпасы. А сам зачем сховался? Марш на позицию!
Но Панов не пошел на передовую. Минут через двадцать, когда старшина опять пробрался к пулемету, первый номер, бородатый, клочкобровый старик, крикнул, харкнув кровью:
– Сержант-то убег!
– Шкура! – поддержал его напарник.
В этот-то момент гитлеровцы и хлестнули из огнемета. Пулеметчики, обугленные до неузнаваемости, так и остались у своего «станкача», а Марченко потерял сознание.
Утром он осторожно полз к развалинам конюшни, когда заметил за обвалившейся кирпичной кладкой человека. Человек тянул из-за стены руку…
– Ладошку он под пули наставил, – гудел Марченко, – я сначала не понял. Потом он вскрикнул. Я понял психологию. Ось и всэ.
Буря пронеслась по подвалу. Крики взлетели к потрескавшимся сводам, разметав серые лохмы вековой паутины.
– Самострел, гад!
– Членовредитель!
– Бей его, ребята! – выскочил вперед Черных. – Лупи!
– Гэть! – властно выдохнул Марченко. – Вы шо, сказылись, чи шо. Я рассказал, и усэ. А теперь треба командиру решать…
– Не усэ, нет, не усэ, – задыхаясь, говорил Бобров, невольно передразнивая в волнении старшину. – Как мы можем терпеть такое?
Панов не поднимал головы. Левую руку он держал чуть на отлете, с нее медленно падали на цементный пол густые, тяжелые капли.

Добровольцы продолжали бушевать. Панов, их товарищ, совершил гадкое, черное, подлое дело! Они готовы были растерзать его.
На всякий случай лейтенант Бельский подался вперед, пытаясь заслонить сухонькой фигуркой рослого сержанта.
И тогда вперед вышел Борис Курганов. Четко печатая шаг, он подошел к одноклассникам вплотную, вынул пистолет:
– Что ж. Значит, расстреляем его?!
Панов не шелохнулся. Ребята дрогнули и стали. Такого оборота никто не ожидал. Побледневшие ребята во все глаза смотрели на командира роты. Многие уловили в его словах вопрос, но он звучал и как приказ. Ребятам стало страшно.
Их состояние передалось и Панову. Вовка побелел. Борис Курганов впервые в жизни колебался. Смелый по натуре он привык действовать решительно. Армия и война научили его твердости. Если бы подобный поступок совершил кто-либо Другой, Курганов, не задумываясь, приказал бы его расстрелять.
Но Панов?! Панов был его земляком, одноклассником и Другом его брата.
Когда-то – казалось, что с тех пор прошел целый век, – десятиклассник Борис Курганов работал пионервожатым. В его отряде находились лопоухие малыши. Наивные, веселые, добрые и отчаянные. Борис любил возиться с ними. Летними вечерами у костра он рассказывал ребятишкам разные истории – О путешественниках, мореходах, пиратах и исследователях, – которые сам читал в детстве.
Борис вспомнил, как внимательно они слушали его, как у пионерского костра сверкали озорные мальчишечьи глаза.
Борис вспомнил и крепкого, загорелого мальчугана, который после рассказов вожатого каждое утро делал гимнастику, обливался холодной водой. Как-то Борис вытащил его из пруда; ноябрьская вода обжигала, от нее шел морозный пар, а синий мальчишка стучал сведенными судорогой зубами, упрямо заявляя: «Все равно буду. Вы уйдете – опять в воду влезу». – «Зачем?» – «Надо закаляться. Хочу стать сильным…»
Другое воспоминание. Школа. Зал, украшенный хвойными гирляндами. Красный кумач лозунгов. На дощатой площадке сцены – шеренга. Не менее взволнован и вожатый. Торжественная, незабываемая минута! Он, старший товарищ, повязывает ребятам пионерские галстуки.
Борис ищет в шеренге братишку. Андрейка стоит рядом с Вовиком, тем самым упрямым, волевым, сильным мальчишкой. Борис поздравляет их.
…Наверху разорвался тяжелый снаряд. Подвал вздрогнул, посыпалась затхлая пыль.
Курганов, не глядя на бойцов, глухо обронил:
– Он ваш… товарищ… Решайте сами.
И отошел в сторону. Лейтенант Бельский склонился над лежащим в углу тяжело раненным бойцом. Старик Иванов стал не спеша чистить автомат.
Добровольцы столпились около седоусого сержанта.
– Как быть, батя?! – чуть не плача, воскликнул Родин.
– Что ж тут поделаешь? Решайте сами, – вздохнул тяжело старик. – Ваш он… вы и решайте его судьбу. О, дела, дела…
– Я знаю, – выскочил вперед Копалкин. – Судить его надо.
– Вот и судим, дурья башка…
– И присудить к тюрьме…
– Бестолочь! Немца отбей сначала.
– Решайте скорее, – заметил Курганов. – Скоро опять пойдут…
И тогда впервые вышел вперед Валентин Бобров.
– Довольно играть в прятки… Мы комсомольцы и должны смотреть правде в глаза. Здесь… окружение… Среди нас оказался трус. Трус и предатель. Своей кровью он хотел купить то, что мы отдаем сами за родину, за нашу страну. Не место таким на земле. – Бобров, бледнея с каждой секундой, закончил твердо – Панову смерть!
Ребята взглянули на белого как мел Боброва с ужасом, но постепенно до них дошел смысл сказанного.
– Кто согласен со мной, отходи вправо! – резко крикнул Бобров, махнув рукой.
Первым подошел Андрей Курганов. Качаясь, как пламя свечи под ветром, подошли Родин, Копалкин и Кузя.
Бобров вопросительно взглянул на командира роты.
Борис отвернулся.
– Р-равняйсь! – негромко скомандовал Бобров.
Бойцы отхлынули в стороны. Панов остался у стены.
– Сдай билет. Красноармеец Копалкин, примите комсомольский билет у осужденного.
Бедный Игорь, едва живой от всего происходящего, заковылял к одиноко стоявшему Панову.
– Дай билет…
– А? – Панов оглядел тщедушную фигурку бойца, точно впервые его увидел. – На… возьми.
Копалкина душили слезы, дрожащими руками он взял серую книжечку в негнущейся обложке.
– Постой, держи и это. – Панов протянул остальные документы.
– Вова… Вовочка… – захлебываясь слезами, частил Копалкин, – ты бы попросил их… ребят попроси… Прощенья.
Панов невесело усмехнулся.
– Красноармеец Копалкин, марш в строй! – металлическим голосом крикнули сзади.
Копалкин встал в шеренгу, беспомощно оглядываясь на командиров.
– Пр-риготовиться! – крикнул Бобров.
Неровный ряд винтовочных дул поднялся на уровень груди.
– За кровь наших людей, за Леньку Захарова по дезертиру и трусу…
Бобров уверенно подал команду. Грохнул нестройный залп.
Глава двадцать первая
Исповедь
И время остановилось. Из-за низких, свинцово-тяжелых быстролетящих туч, из-за черных букетов разрывов, черного дыма пожарища и черного пепла день стал похожим на ночь, а ночь, озаренная вспышками выстрелов, исчерченная разноцветными пунктирами трассирующих и зажигательных пуль, освещенная мертвой бледностью ракет, походила на хмурый полярный день.
Командиры отдавали приказания. И все равно их нельзя было услышать в сплошном грохоте боя. Каждый красноармеец действовал самостоятельно. Люди делали то, что им подсказывала совесть, чего требовал от них долг.
Борис Курганов, лейтенант Бельский, старшина Марченко и сержант Иванов знали, что их подчиненные сделают все, что нужно, без подсказки. И они сами превратились в рядовых воинов – лежали в обороне.
Если бы какой-либо старый знакомый со стороны взглянул на солдат Курганова, он не узнал бы их. Да что знакомый родной отец не узнал бы сейчас своих сыновей, закопченных, грязных, замотанных промокшими бинтами, с землистыми лицами, наморщенными лбами, сведенными судорогой скулами, сведенными пальцами. Разве лишь по белозубым улыбкам можно было бы узнать прежних ильинских школьников. Сейчас каменная неподвижность сковала их лица, недетская хмурь была во всем их облике.
…В ночь с 4 на 5 декабря в полузасыпанном подземелье никто не спал. Немцы не стреляли, видимо проводили перегруппировку перед решительным штурмом. Красноармейцы понимали, что это затишье будет длиться недолго. Ребята нервничали, ходили по подвалу. То здесь, то там вспыхивали разговоры.
В строю оставалось девятнадцать человек. Все были ранены, многие по нескольку раз. Боеприпасов почти не осталось, патронов – по обойме, гранат – по одной. Осознав это, люди стали еще общительнее. Каждый испытывал потребность сделать товарищу приятное – разделить с ним последний крепкий, как кремень, сухарь, щедро вывернуть в бугроватую ладонь остатки махры из кисета.
Красноармеец Чуриков швырнул на пол вещевой мешок, сел возле него, подогнув ноги, и призывно махнул рукой:
– Подходи, братва! Потрошить сидор буду!
Чуриков вытряхнул содержимое вещевого мешка и начал щедро оделять товарищей. Раздал трофейные консервы, Андрею дал красивую авторучку, Иванову – роскошную бритву.
– Бери, батя, пользуйся, мне не нужно.
И, хотя все прекрасно понимали, что их ждет такая же – судьба, как и этого хитрющего красноармейца, все брали дареное, брали, чтобы не обидеть цыганка, чтобы поддержать в нем дух…
А Чуриков посмеивался, балагурил:
– Налетай, братва, бери…
Когда мешок опустел, Чуриков подошел к Тютину и протянул ему голубое, расшитое красными петухами полотенце.
– А это, Гриша, тебе. Дарю от всего сердца. На память.
Здоровяк Тютин отказывался, а цыгановатый Чуриков скалил зубы, щурил черные озорные глаза:
– Забирай, не стесняйся… Помнишь, Гришка, как ты в Вязьме хотел мне по шее дать?
Опустошив мешок, Чуриков описал им круг в плотном, прокуренном воздухе:
– Все. Остался гол, как сокол. Лети и ты к чертям, старая хреновина!
Боец бросил пустой мешок в угол и подсел к товарищам. Через минуту вновь послышался его негромкий голос:
– Ты спрашиваешь, откуда я родом? Поздненько, братец, стал ты землячка искать. Но я удовлетворю твое любопытство. Московский я, пресненский. О пресненских мальчиках слыхал?
– О шпане пресненской, – насмешливо протянул Каневский и, поморщившись, плюнул кровью.
– Не надо так говорить. Пресня себя еще в 1905 году показала. Революцию Пресня делала. Понял?
– А чем ты занимался… – гудел Тютин.
– Я что. Всяко пришлось… и карманы резал, и еще кое-что в том же духе. Но это раньше. Потом поумнел. Понял, что к чему, отчего и зачем. Между прочим, в вечерней школе учился. Правда, на трешки, зато по физике – пятерка. Любил ее. Правильная наука.
– Все науки правильные, – заметил Андрей.
– Да. Учился. Ну, и работал. Зарабатывал, конечно. Мать у меня. Всю получку ей до копеечки. Даже на четвертинку не оставлял. Не люблю этого. Не употребляю. В общем, жил ничего. Зарабатывал прилично. Шоферы знаете как жили – не терялись. Жениться думал – была одна залеточка… Н-да. Только не вышло.
– Изменила? – глухо вырвалось у Бориса Курганова.
Все с удивлением посмотрели на командира. Он отчаянно покраснел.
– Не было этого, товарищ старший лейтенант. Неприятность вышла из-за другого, – продолжал Чуриков, – на работе. Был у нас один деляга – предложил левую ездку. Я не схотел. Не потому, что святой был, нет, – торопился к Зинке. Он – грозить. Грозит и грозит. Я тебе да я тебе. Ну, не выдержал я – въехал ему разика два, да еще…
– Правильно сделал, – громыхнул Тютин.
– Да… Отбыл за это сколько полагалось. Вышел. А тут война.
– Да, – протянул Бобров, – воина перевернула наши планы…
Медленно-медленно ползло время, тягучей нитью разматывалась нить рассказа.
– Заждить, хлопцы. Скажу о себе. Кадровую служил – сверхсрочную Восемь лет оттопал, – начал старшина взволнованно. – Служил справно, как медный котелок. А потом решил до дому поихать, на Вкраину, отпуск выхлопотал, литер. Документы взял в части – и прямиком на вокзал. Домой, конечно, телеграмму послал: еду.
– Приехал?
– Где там! Так до сих пор и еду. Хай тому Гитлеру грець на кинець, собаци.
Один за другим бойцы рассказывали о себе все, даже самое сокровенное, стараясь ничего не утаить. Люди испытывали странное чувство – необходимость рассказать, поделиться, вылить душу. Слушали каждого внимательно, горячо одобряя хорошее и не осуждая за плохое. И люди не скрывали плохого. Они словно сбрасывали с себя лишнее, наносное, грязное, и оно сгорало в пламени, зажженном родством душ, стремлений, цели, сгорало без остатка, как лигатура. И тогда обнажалось то замечательно простое, честное, неоценимое, что от века заложено в русском человеке и что привила ему взрастившая его Советская страна.
– …До чего любил я завод! – тяжело дыша, говорил Иванов. – Заводишко невеликий, а я прирос к нему. Помню, как сейчас, только поженились мы со старухой, – а любил я ее крепко, – пришлось сколько-то раз ночевать в заводе. Оборудование мы меняли. Времени в обрез. И вот возвращаюсь я домой после двух смен да ночки бессонной, ноги кренделя выписывают, а старушка моя характерная. Ну, и начала меня казнить. Стыдит и стыдит, пилит вдоль и поперек и крест-накрест, визжит не хуже тупой ножовки: «Не успел жениться, уже шляешься!» И так далее и прочее тому подобное.
Я, конечно, клятву даю, мол, в последний раз, а через пару дней опять в заводе остаюсь. Чуть до развода не дошло, вот как.
– А что, батя, – Чуриков затянулся самокруткой, – изменял, поди, своей благоверной?
– Неумный разговор завел! – Старик заморозил голос и, помолчав, добавил: – Ни разу не сфальшивил.
И все поверили старику: в такой обстановке душой не кривят.
В подвале густел сумрак, скрывая лица. Неожиданно послышался неуверенный, робкий голос лейтенанта Бельского:
– Хотя и не положено командиру перед подчиненными, а хочу сказать. Не могу. Вот вы думаете, командир ваш – сухой человек. Всё, мол, требует да требует. Мораль читает да наказывает. А я ведь совсем не такой. Веселый я. И на баяне хорошо могу, на пианино. Только боялся очень авторитет командира потерять. Больше всего боялся. Думал – строгостью да официальностью. Теперь вижу – ошибся. Нужно было по-простому – вы все такие люди… такие товарищи!.. Словом, нет у меня подхода к человеку индивидуального. Потом, вы из десятилетки. Начитанные. Словом, я… В общем, простите, если когда обижал или что…
– Что вы, товарищ командир!..
– Мы вас уважаем.
– Знаю, знаю. А промеж себя зовете: «Не положено».
Все рассмеялись и больше всех Бельский.
– А как вас зовут, товарищ лейтенант?
– Меня, Миша… Михаил то есть. – И Бельский снова засмеялся, не удержавшись от излюбленной фразы – Мишей по настоящей ситуации вроде не положено.
– Ну, кто еще не исповедовался? – усмехнулся Иванов. – Кайтесь во грехах. Рассветает.
– Эх, я за всех сразу! – на середину вышел Бобров. – Нас здесь полкласса. Раньше жили разно. Ссорились, дрались по пустякам. Да и здесь не сдружились. Ленька Захаров на Андрея злился, Андрей – на Леньку. Трус среди нас оказался, черт поганый. Словом, разные мы. Но я хочу сказать не об этом. Это чепуха. Главное – цель у нас одна. Что у меня, что у Кузи, брехуна и чудодея. Потому мы здесь стоим и никуда – запомните! – никуда отсюда не уйдем! Не уйдем! – крикнул Валька сорванным голосом. – Ребята комсомольцы… – Бобров задохнулся, потирая перехваченное волнением горло.
– Ребята! – пискнул Игорь Копалкин. – Давайте клятву дадим драться до последнего. Клятву дадим, как в книжке у этого самого…
– Мы уже клятву дали, – зазвенел Бобров. – Мы комсомольцы, и этого достаточно.
– Правильно, Валя! – Андрей обнял товарища. – И все же я клянусь…
– Клянусь! – подхватил Копалкин.
– Клянусь! – крикнул кто-то неизвестным голосом, отдаленно напоминавшим Кузин. Ребята не узнали его: Кузю серьезным не видел еще никто.
– Клянемся! – поддержали оставшиеся в живых красноармейцы.
– Клянемся! – грохотало под мрачными сводами подвала. – Клянемся, клянемся, клянемся!
– Клянусь! – произнес Борис Курганов.
Затрещали выстрелы.
– Клянусь! – повторил он и зычно скомандовал: – По местам.
Глава двадцать вторая
Последний бой
Отличные стрелки Захарчук и его ученик Кузя оборудовали неплохую позицию. Из толстых камней, оставшихся от разрушенной церкви, Захарчук сложил плотную стенку. Делал он это так ловко, что Кузя невольно залюбовался, а цыгановатый Чуриков, оставшийся вместе со снайперами, восхищенно сказал:
– И где ты, дядька Захарчук, такому ремеслу обучался?
– Та я ж природный каменотес. Пятнадцать лет в Крыму проработал, инкерманский камушек тесал.
– Вон что! А я думал, ты кадровый снайпер.
– Нет, парень, скорей бы война кончилась, бросил бы эту постылую профессию.
– Надоело убивать людей?
– Я солдат. И какие фашисты люди?
Когда гитлеровцы перешли в атаку, Захарчук стрелял до тех пор, покуда атака не захлебнулась. Протирая раскаленную винтовку, он сказал Чурикову:
– Вот еще семерых приземлил. А у них, возможно, детишки и фрау дома. Нет, скорее бы прикончить войну!
– А они о наших людях думают? – истерически крикнул Чуриков. – С моими стариками в Смоленске знаешь что сделали?
Чуриков смолк, словно застеснявшись своей откровенности, и отошел в дальний угол подвала.
Утром немцы снова пошли в наступление.
– Ну, Кузя, держись! – закричал Захарчук.
От разрыва бомбы у него болели уши. Снайпер оглох и часто падал на колени: кружилась голова. Захарчук отложил винтовку и припал к ручному пулемету. Кузя работал за второй номер. Чуриков поспешно набивал диски.
– По пехоте! – крикнул Захарчук.
Пулемет задрожал, как в лихорадке, посылая навстречу врагу смерть. Фашисты просочились в расположение роты Курганова и рассекли ее остатки на части.
– Всё! – сказал Захарчук. – Сами хозяева…
Он осмотрел оставшееся оружие, подсчитал патроны и гранаты.
– Не густо! – вздохнул Чуриков. – До обеда продержаться бы!
– Ну, до хорошего обеда нам долго держаться, – невозмутимо отозвался Кузя. – Давненько щей с бараниной не хлебал.
– Все шутишь, грешная душа! – рассмеялся Чуриков.
– Так веселее помирать…
– И без того не скучно: видишь, фриц какую иллюминацию наладил.
– Нехороший разговор! – обрезал их Захарчук. – Наше дело бить их, а не рассуждать о смерти – она придет, спрашивать разрешенья не будет.
– Верно, начальник! – весело отозвался Кузя и вдруг побледнел.
– Ты чего? Ранило?
Кузя молчал. Он стиснул зубы и боялся их разжать. Боль была невероятная.
«Очевидно, нерв задело», – подумал Кузнецов.
– В плечо ему! Видишь, кровью подмокает.
Немцы снова зашевелились. Захарчук бросился к пулемету, крикнув Чурикову:
– Перевяжи его!
Чуриков перевязал товарища, но в этот момент пулемет замолчал: крупнокалиберная пуля попала снайперу в грудь. Чуриков приник к пулемету, а Кузнецов оттащил раненого за угол подвала.
– Хороший ты парень, Кузя! – шептал побелевшими губами Захарчук. – Ты уж прости меня за анархиста…
Когда бой поутих, Кузнецов сказал Чурикову:
– У него под головой планшет. Достань оттуда листок бумаги да карандаш.
– Писать будешь?
– Донесение командиру.
– Зачем? Кто доставит?
– Ты и доставишь!

Кузя взял карандаш, поточил его трофейным штыком и начал писать кривыми, сползающими набок буквами, при неровном свете зимнего розового заката.
«Товарищ командир роты! Сообщаю: ведем огонь по фашистским сволочам! Сколько их набили, не могу сказать, так как подсчитать никак невозможно. Хорошо проявил себя сержант Захарчук. Он геройски погиб, остались мы двое. Товарищ старший лейтенант! Вы не беспокойтесь, мы отсюда не уйдем и фрицев не пустим. Чувствуем мы себя хорошо, только пить здорово хочется и уже забыли, когда пили последний раз. Но вы не беспокойтесь, это ничего. Товарищ старший лейтенант, у меня к вам просьба. Вы знаете, у нас в Ильинке на пруду у самого мостика живет старик, плотником он в поселковом совете работает, Соснин фамилия. Так вот, у него есть дочка Нюра. Вы скажите ей насчет меня. Ну, словом, нравилась она мне очень. Я-то сам ей ничего не говорил, тушевался как-то. А теперь чего уж… В общем, привет горячий передайте. Извините, конечно, за такую просьбу, но как вы сами ильинский… товарищ командир! У нас все в порядке. Немцы пока не лезут, танк, что позавчера наши подбили, еще дымится, и противным оттуда пахнет. Фрицы от нас близко, метров семьдесят. Слышно, как они тюлюлюкают. Вот и все. Вы, товарищ командир, меня извините, если что не так написал. Мне никогда не приходилось писать боевые донесения, первый раз пишу.
Кузнецов. 5.12.1941 года».
Кузя прочитал свое творение, подумал и, лукаво улыбаясь, приписал:
«Думаю, что еще натренируюсь в донесениях, впереди целая война. И не забудьте, пожалуйста, о моей просьбе в отношении тов. Сосниной.
Кузя».
Кузя сложил вчетверо листок и позвал Чурикова.
– Снеси командиру!
– А ты один останешься? А вдруг полезут?
– Без разговоров! – шутливо оборвал Кузя. – Дисциплиночка хромает. Анархия!
Едва Чуриков уполз, немцы пошли в атаку. Прилетела тяжелая мина и исковеркала пулемет. Автоматные патроны кончились. Оставалась винтовка Захарчука с оптическим прицелом. Кузя вскинул приклад к плечу и, смахнув груду стреляных гильз, лег на то самое место, где еще недавно лежал Захарчук. Послышался свист и дикое улюлюканье: гитлеровцы цепями в полный рост бежали навстречу.
Пулю за пулей посылал боец из разрушенного подвала. Он не знал, что делается справа и слева, он был совершенно один, не знал, что находится впереди и сзади.
– На Москву вам захотелось? – торопливо шептал Кузя. – Я вам покажу Москву. Вот вам Москва! Вот! Вот!
Серо-зеленые фигуры никли к земле, срезанные губительным огнем. Кузя ничего не видел, кроме врагов, но больше ему ничего и не нужно было видеть.
– Я вам покажу Москву! – кричал он. – Получай, фашистская погань! Это тебе за Красную площадь, это за улицу Горького, это за Чистые пруды, а это за мою Ильинку!
Ствол винтовки накалился, ствольная накладка дымилась, патроны были на исходе, но Кузя стрелял и стрелял, шепча свое заклинание:
– Москву вам захотелось? Вот вам Москва! Вот! Вот!
У Кузи оставались считанные патроны, когда с тыла послышалось русское «ура».
– Слышали? – заорал Кузя. – Москва! Москва на выручку идет! Сейчас она вам даст жизни!
– Товарищ старший лейтенант!
Перед Кургановым стоял обросший, исцарапанный, перемазанный грязью Чуриков.
– Ты откуда? Проскочил?
– Вам донесение.
Боец протянул листок и пошатнулся. На него смотрели, как на пришельца с того света. Старшина Марченко, не любивший Чурикова, отдал ему последний кусок хлеба.
– А ты? – прохрипел Чуриков.
– Я не хочу, сыт, – буркнул Марченко. – Бери, чертов сын!
– Фрицы! – крикнул Каневский.
– Выбьем их! – вскочил Борис Курганов. – За мной!
– В атаку! – негромко приказал Иванов.
Красноармейцы во главе с Бельским устремились за командиром роты.
Стремительный удар красноармейцев опрокинул противника.
Бойцы продвигались вперед. Навстречу им летели сотни снарядов, мин, тысячи пуль, но никакая сила в мире не могла остановить их: они защищали Москву!
Прорвались к развалинам подвала.
– Здесь! – крикнул Чуриков.
Он бросился к подвалу и остановился пораженный. Подвала не было. Вместо него чернела снарядная воронка.
Каневский, скользя по битому кирпичу, спустился туда и поднял какой-то блестящий предмет.
– Никого нет! – задыхаясь, доложил он командиру роты. – Нашел только это. Возьмите.
На темной от пороха, гари и копоти ладони Бориса Курганова лежал трофейный складной ножичек.
Долго смотрел командир роты на маленькую блестящую вещицу – все, что осталось от веселого, неунывающего Кузи…
Летчик Анатолий Павлов возвращался после выполнения задания. В азарте боя он оторвался от товарищей, преследуя удирающего врага, и сейчас летел над территорией, занятой противником. Тревожно поглядывая на приборы, Павлов не переставал напевать песенку, рожденную удалью и удачным воздушным поединком.
Спасаясь от преследования, он резко снизился и пошел прямо над островерхими макушками деревьев. Но что это? Павлов не поверил своим глазам. В гитлеровском тылу кипело ожесточенное сражение. Павлов пролетел над спаленной деревушкой и приметил, что фашисты сжимают кольцо окружения.
– Наши дерутся! Сейчас я вас, братишки, поддержу!
Летчик дал полный газ и, улучив момент, полил наступающих огнем. Фашисты оторопели. Видно было, как часть из них бросилась врассыпную. Советский летчик снова и снова заходил на штурмовку.
В воздухе появились немецкие истребители. Закипел воздушный бой. Разгоряченный Павлов распорол очередью плоскость «Мессершмитта», бросился на второго, но, нажав гашетку, содрогнулся: «Патроны! Вышли боеприпасы!»
Фашистский самолет, сверкая пунктирами трассирующих пуль, метеором летел навстречу. Павлов мог отвернуть, скрыться, дотянуть до своих, но в этот короткий миг он вспомнил своего друга Виктора Талалихина, геройски погибшего в схватке с врагом, родную Кировскую улицу, мать. Он увидел стремительно приближающегося противника, увидел холодные глаза фашиста, и горячие огненные брызги ударили летчику в лицо.
Последним усилием воли и гаснущего сознания Павлов направил свой самолет вперед, и фашистский пилот не смог избежать столкновения.
Обломки горящих самолетов полетели вниз.
А на земле кипел ожесточенный бой. Гитлеровцы со всех сторон охватили горстку красноармейцев. На одного бойца приходилось двадцать, тридцать, пятьдесят фашистов. Они нападали скопом: били из пистолетов, кололи плоскими штыками, глушили прикладами, сбивали с ног… топтали, терзали…
Ника совершенно осатанел. Долговязый, простоволосый, он вертелся на месте, поливая врагов из автомата. Кончились патроны, Ника бросился к ближайшему немцу, свалил его с ног и, не в силах удержаться, упал. На него навалились гитлеровцы. Коренастый фашист ударил Нику саперной лопатой, рассек висок – кровь залила лицо, залепила глаза. Ника не видел врага, но продолжал наносить удары. Ему казалось, что на него высыпали мешок картошки. Ника не чувствовал боли. Коренастый немец зашел сбоку, и Ника увидел его:
– Ага, сволачь!
Фашист был сбит с ног.
И снова гитлеровцы обрушили град ударов на бойца. Они не стреляли, боясь попасть в своих. Они били лопатами, гранатами, прикладами, окованными металлом сапогами, они хрипели, задыхались от ярости, плевали, выхаркивали ругательства:
– Руссише шайзе!
– Швайнхунд!
И сквозь чужие, странные слова, выплюнутые сведенными от злобы ртами, внезапно донеслось:
– Андре-ей!
Но Андрей не слышал. Он катался по дну траншеи, силясь вырваться из рук врага. Андрей задыхался. Огромным усилием воли он приподнялся, но тут же упал вместе с врагом на землю. Фашист ударился головой, разжал руки. Андрей сорвал с себя каску и изо всей силы опустил ее на лоб противника.
– Андре-ей!
– Ника! – крикнул Андрей, выскакивая из траншеи.
Увильнув от преследователей, он с разбегу ринулся в гущу фашистских солдат и прорвался к другу.

Друзья стояли шатаясь, спина к спине, опирались друг о друга, поддерживали друг друга. Им становилось все труднее, если бы один из них упал, другой не удержался бы на ногах. Но взаимная поддержка прибавила силы, и они дрались.
– Бей, Андрик!
– Бью!
Набежала новая группа фашистских солдат, друзей закрутил бешеный водоворот, разделил, разбросал. Ника вырвал у ближайшего немца автомат. Он пустил в ход чужое оружие и даже не услышал выстрелов. Автомат дрожал, бился в руках, как живое существо. Мыслей, чувств не было. Ника сознавал одно: надо бить, надо бить, надо бить.
И Черных бил, вертелся, как обожженный, нанося беспорядочные удары. Ника терял кровь, слабел. Удары не приносили результата. Враги легко увертывались от них, но Ника продолжал размахивать исковерканным, погнутым автоматом.
Увидев поблизости фашистского офицера, Ника махнул автоматом. Движение получилось медленное, плавное. Ника зашатался.
Восемь гитлеровцев навалились на Андрея. Рослый фашист выбил у него из рук разбитый автомат, другой ударил Андрея штыком в спину.
– А-а-а! – бешено вскрикнул Черных и выпустил последние патроны.
Трое фашистов свалились замертво. Высокий офицер выстрелил из парабеллума.
Ника упал навзничь, беспомощно шаря по земле бессильными руками. Он не чувствовал мороза, обжигавшего ладони. Голубые, чистой воды глаза, глаза художника, смотрели в зимнее небо, отражая сгущающуюся хмарь и тускнея.
Пошел снег.
Узорчатые снежинки, опускаясь на холодеющее лицо, еще таяли, копились в глазницах, стекали мутными, мертвыми слезами.
Андрей изнемогал. Перед глазами плыло красное и белое. Качались огромные фигуры в мышиных шинелях. Андрей понимал – это враги, и он бил их как мог. Андрей выстрелил из винтовки в упор и тотчас выронил оружие, зашатался и упал на холодную землю, не почувствовав боли. Приметив возле себя кованый сапог фашиста, охватил его и рванул и, когда рядом грохнулось чужое тяжелое тело, вцепился в горло фашиста слабеющими руками. Пистолетный выстрел разнес ему голову, но руки, охватившие врага за горло, не разжались – сведенные предсмертной судорогой узкие мальчишеские пальцы стальными клещами душили гитлеровца.
Каневского, Марченко и Копалкина оттеснили от остальных. Фашисты поняли, что у русских вышли патроны, и в упор расстреливали их. Все красноармейцы и командиры получили по нескольку ранений.
– Гады! – истошно крикнул Лаптев, судорожно щупая грудь, словно пытаясь вытащить из нее глубоко засевшую пулю.
Бобров опрокинул эсэсовца и обрушил приклад на подбегающего врага. Автоматная очередь заставила его высоко подпрыгнуть. В тот же момент принял смерть Марченко. Пуля ударила его в висок, и он упал как подрубленный.
К вечеру 5 декабря русская речь слышалась только в самом глубоком подвале под руинами колокольни. Фашисты наконец заняли Марфино, вернее то, что от него осталось. Они поспешно стягивали силы вокруг подвала, готовясь окончательно добить русских.
В подвале Борис Курганов последний раз осмотрел свою роту. Теперь она состояла из пяти красноармейцев.
Здоровенный Тютин, весь забинтованный, мрачно сжимал кулаки. Грудь его тяжело вздымалась, дышать было трудно.
– В легких пуля сидит, не иначе, – с трудом проговорил Тютин и харкнул кровью.
– Поправишься! – ласково сказал Каневский, отводя глаза. – Еще покидаешь свою штангу.