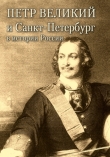Текст книги "Повесть о пустяках"
Автор книги: Юрий Анненков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
19
Мелкие волны Финского залива, как и вчера, желты и неторопливы. Между сваями забравшихся в море купален весело кружатся пескари. Сегодня пескари беспечнее обыкновенного, потому что шумливые дачники не тревожат их ныряньем, веслами и визгами. Розовато-серый песок отдыхает под солнцем от груза затянутых в цветные трико человеческих тел, попиравших еще накануне горячую зыбь берега. Пестрые будки, расставленные, как деревянные солдатики, в несколько рядов, покинуты – ненужные, раскрытые, одичавшие за одну ночь. Берег пуст. Странной и неестественной выдумкой кажутся тишина и безлюдье дачного пляжа. Зато над толевыми крышами, над цветочными клумбами и гипсовыми аистами, над немощеными улицами, над чередой сосновых участков, разгороженных заборами, плетнями и канавами, никогда еще так часто, так взволнованно и тревожно не носились свистки паровозов. Поезда проходят один за другим, нарушая привычное расписание и станционный порядок (ветер перемещает вывески), поезда бегут мимо дюн, мимо смолистых рощ и торфяных болот, мчатся все в одном и том же направлении, летят к Петербургу. От тендеров до багажных вагонов, до открытых товарных платформ, на которых обычно перевозят бревна, поезда заполнены женщинами, детьми, картонками, тюками, самоварами. Берутся с бою свободные вершки пространства. Шляпки сползают с причесок, женщины, бранясь, цепляются друг за друга, дети плачут…
На даче у писателя Апушина – очередное чаепитие с разговорами. Печенье Эйнем, голубоватый рафинад заводов Кенига, варенье собственной варки.
– Да здравствует искусство!
– Та-ра-рам, та-ра-рам, бум!
– Да здравствует Россия, черт возьми!
– Разумеется, и Россия.
– Та-ра-рам, бум-бум.
– Возможен ли здесь десант? Десант возможен…
– Не раньше чем через неделю. Паника глупа.
– Десант вообще неосуществим.
– Если не завтра, то никогда.
– Десант вполне вероятен, но совершенно бесполезен.
– Десант имеет решающее значение.
– Стратегически, пожалуй, он объясним.
– Десант, как таковой, пустой звук.
– Зато моральное значение десанта огромно.
– Десант опасен только для кухарок.
– И для твоих стихов!
– Во всяком случае – не для России…
– Война закончится через месяц в Берлине. Кайзеру публично остригут усы, помяните мое слово.
– Идет в поход Мальбрук, усат и сухорук.
– Браво! Запишите!
– Неусыпно усатинить усы легче, чем вселенную усыпать мертвыми костями.
– Запишите!
– Грохочут тяжкие шпалеры
Тевтонских войск в пыли заката.
О, келомякские рантьеры,
Вы скоро будете рогаты!
– Браво! Взгляните на позу: Пушкин у Пущина, Мицкевич в салоне какой-то графини.
– Существуют и должны существовать идеи, во имя которых стоит жить…
– Сегодня хлеб вздорожал на одну копейку, а пирожных в кондитерской совсем не пекли.
– …но таких идей, ради которых нужно было бы умирать, существовать не может. От подобных вещей следует лечить человечество холодными душами и надевать на него смирительные рубахи. Одним словом, – долой войну! Да здравствуют дезертиры!
– Уже о дезертирах?
– Время – деньги.
Так начались разговоры о войне.
Вечером прошел по линии первый поезд в обратном направлении, из Петербурга: воинский. Солдатам кричали «ура», солдаты пели песни. Много времени спустя, в 17 году, писатель Апушин записал на обрывке чистой бумаги:
«Пили чай с печеньем, говорили о войне. Не очевидные (для меня и, надо думать, для остальных) предпосылки к затяжной бойне, не гибель культуры, не безумие вдруг ослепшего человечества, не миллионы внезапно приговоренных к смерти людей – в центре внимания оказались усы Гогенцоллерна. В этот вечер я постиг обреченность России, и мне представлялась чудовищной людская недальновидность».
Подумав, Апушин пометил эти строки задним числом: Июль 1914.
20
Первые признаки существования Дэви Шапкина обнаружились в кинематографе «Иллюзион». В «Иллюзионе» Шапкин служил тапером. Никто не спрашивал, откуда Шапкин пришел в «Иллюзион», и никто не удивился бы, если в метрике Шапкина против «места рождения» стояло бы слово «Иллюзион». Но, играя, Шапкин так изумительно вскидывал руки, что с ним нельзя было не познакомиться. Коленька Хохлов разговорился с ним в антракте, когда, прислонившись к пианино, Дэви зубочисткой чистил ногти. Он был прирожденным музыкантом. Даже и вне кинематографа «Иллюзион» Дэви Шапкин мог без устали играть танго своего сочинения. Дэви быстро хмелел от водки. Он взмахивал руками, рассказывал еврейские анекдоты, почесывал себя между лопаток, не умел сидеть на месте, затевал споры. Больше всего любил Шапкин спорить о литературе: наступал вплотную на собеседника, накапливал слюну в углах рта и теребил свои бачки (Дэви Шапкин отращивал бачки).
– Вы говорите – Гейне! А Моисей? – вскакивал Шапкин из-за пианино. – Моисей, по-вашему, не написал скрижалей? Это вам не литература? Фунт изюму, что? Это, правда, короче самого Петера Альтенберга, но это же – красиво!
Подымался хохот. Шапкин едва поспевал за своей скороговоркой.
– Вы смеетесь над Шапкиным? Вы думаете, что он ничего не может делать, кроме кекуоков в «Иллюзионе»? Но, знаете, смеется тот, кто хорошо смеется.
Студенты-юристы Покидов, Темномеров Миша и Фаробин Ромка уходили на фронт в пехоту, гражданец Керн – в кавалерию, и два технолога, Сурков и Неустроев, – с автомобильной ротой.
– Ах, оставьте, на самом деле, действительно! – кричал Дэви Шапкин. – Война, я знаю, необходима, потому что она прекрасна, что? Кровь очищает. Дэви Шапкин, конечно, не Макс Нордау, но он знает, что такое красота.
– Садись за рояль, а то водки не дадим.
– Плевать я хотел с вашей водкой! А впрочем – сижу уже.
Тонкие, длинные пальцы прыгали по клавишам.
21
Наедине с тобою, брат,
Хотел бы я побыть:
На свете мало, говорят,
Мне остается жить!
Поедешь скоро ты домой:
Смотри ж… да что! моей судьбой,
Сказать по правде, очень
Никто не озабочен.
А если спросит кто-нибудь…
Ну, кто бы ни спросил,—
Скажи им, что навылет в грудь
Я пулей ранен был;
Что умер честно за Царя,
Что плохи наши лекаря
И что родному краю
Поклон я посылаю.
Отца и мать мою едва ль
Застанешь ты в живых…
Признаться, право, было б жаль
Мне опечалить их;
Но если кто из них и жив,
Скажи, что я писать ленив,
Что полк в поход послали
И чтоб меня не ждали.
Соседка есть у них одна…
Как вспомнишь, как давно
Расстались… Обо мне она
Не спросит… Все равно,
Ты расскажи всю правду ей,
Пустого сердца не жалей,—
Пускай она поплачет…
Ей ничего не значит!
22
Поэт Рубинчик уходил с призывного пункта в косоворотке, в визитке и высоких сапогах; за спиной бренчала походная кружка. Навстречу двигалась процессия, неся над головами трехцветные флаги и портрет государя; извозчики; городовые; люди неопределенных категорий – в чесучовых пиджаках, в картузах, в соломенных шляпах; сенновцы; писаря; приказчики; шли ряженные в студентов вышибалы и дворники; маршировали в патриотическом азарте гимназисты. Под портретом величествовал пристав, впервые возвышенный до человека. Пожарные топили национальный гимн в грохочущей меди. Над Петербургом оседала копоть погромов.
Рубинчик говорил:
– Как спички выделываются исключительно из простой малоценной осины, несмотря на высокое качество других древесных пород, так и война… (гимн заглушает слова)… осина легче всего воспламеняется, что бы ни говорили о высокой морали, о любви к отечеству и народной гордости, о защите прав человека, о справедливости.
(Хор:
…царствуй на страх врагам,
Ца-арь православный,
Бо-о-оже, Царя храни…)
– Но в этом слове – война – есть какая-то магия. Оно завораживает. Как удав – антилопу, война гипнотизирует человечество. Потом она пожирает его… Кстати: Пушкин у Пущина – какая рифма упущена!
23
Шагает босиком через канавы и лужицы журавль Апушин, плотный и угорелый нос его блестит на солнце. Вот зеленая лужайка, вдалеке меланхолически перекликаются колокольцами рыжие коровы. Хорошо лежать на такой зеленой лужайке, примяв душистую кашку, смотреть на зеленых стрекоз и разговаривать. О чем, как не об искусстве, можно говорить, развалясь на траве под светлым финским небом и кусая кислый стебелек щавеля? Блямбают колокольцы ленивых коров; за плетнем на одноколке проезжает молочница, вздымая пыль.
Снова, как и всегда – во все войны, любители отечественной словесности начинают, при известной доле сочувствия со стороны слушателей, свои упражнения в стилистике. Вслед за графом Ростопчиным берет слово молодой депутат Керенский:
– Мы верим, что на полях бранных в великих страданиях укрепится братство всех народов России и родится единая воля освободить страну от страшных внутренних пут… Крестьяне и рабочие, все, кто хочет счастия и благополучия России, в великих испытаниях закалите дух ваш, соберите ваши силы и, защитив страну, освободите ее!..
Наконец, Верховный Главнокомандующий шлет «Воззвание Русскому Народу»:
«Братья!
Творится суд Божий.
Как бурный поток рвет камни, чтобы слиться с морем, так нет силы, которая остановила бы Русский народ в его порыве к объединению. Да не будет больше подъяремной Руси. Достояния Владимира Святого, земля Ярослава, Остомысла, Князей Даниила и Романа, сбросив иго, да водрузят стяг единой, великой, нераздельной Руси. Да поможет Господь Царственному Своему Помазаннику Императору Николаю Александровичу Всея России завершить дело Великого Князя Ивана Калиты.:
Верховный Главнокомандующий
Генерал-Адъютант и Великий Князь
НИКОЛАЙ».
Апушин хохочет. От смеха прыгают в его руках газетные листы.
– Непростительная рассеянность, – произносит Коленька Хохлов, – позабыты Синеус и Трувор.
За плетнем мелькает гимназист на велосипеде: последние соринки испорченного дачного сезона.
– Стиль определяет собой содержание, – говорит юноша в матросской блузе, крутолобый Толя Житомирский. – По существу, безразлично, что именно в данном случае подлежит анализу: этот идиотский манифест, Дон Кихот Ламанчский или «Тристрам» Стерна. Мы объявляем новый метод анализа, построенный…
Апушин настораживается. Газета белеет в траве и, толкаемая легким, незлобным ветром, все дальше относит слова о войне:
«…Упорные бои между Рава-Русская и Днестром продолжаются. На восточно-прусском фронте неприятель продолжает наступать. Упорные атаки германцев в районе Бакаларжево развиваются… Тяжелая и гаубичная артиллерия противника в районе Пеняки…
Ничего существенного не произошло. Во многих местах перед нашими окопами накопились груды неприятельских тел, стесняющих даже наш прицел…
…Горемыкин, Палеолог, Бьюкенен, Кривошеин, Сазонов, граф де-Бьюиссере, Сухомлинов, Крон-принц, Григорович, Спалайкович, Ренненкампф, Тимашев, Рухлов…»
Газета скользит и вспархивает над душистой кашкой, несомая ветром.
Имена и дела отлетают к плетню. Толя Житомирский говорит о форме художественного произведения.
(edit)
24
Наконец произошло то, чему страшно было верить и чего с жадным интересом ожидали, как в цирке ждут последнего прыжка из-под купола: по Невскому проспекту, прихрамывая и опираясь на палку, шел раненый офицер.
Левая рука его висела на перевязи, лицо было наполовину забинтовано, на груди белел новенький Георгиевский крест. Офицер направлялся в кинематограф «Пикадилли».
Только с появлением первых раненых Россия поверила тому, что война стала явью. Официальные сводки, печатавшиеся в газетах, казались не более чем литературой. Россия, подобно Фоме Неверящему, хотела осязать войну, убедиться воочию в ее существовании. Режиссеры войны торопились поэтому возможно скорее послать раненых в глубокий тыл, рассыпать по стране микробы, способные вызвать, пробудить, разжечь необходимый подъем чувств, без которых не могло быть ни войны, ни победы. Санитарные поезда, груженные стонами, кровью, йодоформом, смертью, – направились с фронта в дремотную Пензу, в самоварную Тулу, в мирный и миролюбивый Орел, в Полтаву, Москву, Петербург. Искалеченные люди ложились струпьями на тело занемогшей России, вызывая боль, тревогу, бред. Впоследствии, когда война сделалась бытом, непреодолимой ежедневностью, когда корреспонденциями с фронта, телеграммами из Ставки Главнокомандующего, вытянув строки в одну линию, можно было многажды опоясать земной шар; когда в России не оставалось ни одной семьи, войной не тронутой, не разбитой, не напуганной; когда ей, России, приходились уже в тягость все новые и новые партии калек, не предусмотренные режиссерами лишние рты, ненужные, бесполезные, неработоспособные члены семьи, осколки, обрезки, обрубки, куски кровоточащего и несъедобного мяса, – тогда естественно и неизбежно санитарные поезда, шедшие из окопов, вместо энтузиазма везли с собой ненависть к войне и возмущение. Но если в начале войны – только в начале! – некоторая часть России сумела пережить чувство, называемое патриотическим гневом, то это случилось именно в те дни, когда на улицах далеких от фронта городов показались первые жертвы сокрушительной эпидемии.
Вечер был воскресный, проспект многолюден. Человеческий туннель расступался перед раненым офицером. Он смотрел печально и просто на незнакомых людей, обнажавших перед ним головы, на военных, поспешно козырявших ему независимо от чинов, на женщин, глядевших испуганно, сочувственно и восхищенно. Ребятишки бежали за ним почтительной гурьбой.
Офицер поднимался по ступеням «Пикадилли». За плечами офицера реяли патетические крылья войны. Представление было прервано. Люди подымались со своих мест. Пафос войны вошел в залу кинематографа. Сквозь фортку оцинкованной будки, забыв про Веру Холодную, механик разглядывал белое пятно забинтованной головы, в то время как в зале, протискиваясь между кресел, приближался к армейскому поручику седой генерал.
– Разрешите мне, старому солдату, – произнес генерал, – приветствовать вас, господин поручик… и… постойте, постойте… поздравить в вашем лице героя. Голос генерала дрожал. Пролетела по залу тишина – торжественная, неповторимая.
– Поручик Лохов. Ранен под Кенигсбергом. Я не полагал, что помешаю представлению, – тихо ответил офицер.
Поручик Лохов едет домой. Извозчик мчит своего седока. Сиреневая мгла электрических фонарей летит навстречу. В тот памятный день, когда на улицах Петербурга появился первый раненый с фронта, извозчик, гордый седоком, отказался принять от него деньги. Поручик Лохов, сойдя с пролетки, крепко жмет извозчику руку. С визгом и хрустом открывается дверь в темную дыру лестницы. Лохов стремительно взбегает на четвертый этаж, освобождая на ходу руку от перевязи. И неопрятной, холостой квартирке кудластая собачонка встречает хозяина радостным лаем. Поручик Лохов срывает с головы бинты, приглаживает ладонями взъерошенные волосы, раздевается и остается в одном белье, в несвежих егеровских кальсонах, напевая матчиш на слова:
Ах, мама, мама, мама,
Какая драма:
Вчера была девица,
Сегодня – дама…
Поручик производит ритмические телодвижения по системе Мюллера и, убедившись, что от бинтов, прихрамывания и ранений не осталось и следа, надевает халат и кидается на ковровую, потертую атаманку. На стене скрестились сабли и дуэльные пистолеты. Запалив старинную, обкуренную предками, длинную трубку, поручик мечтательно глядит в потолок; кольца голубого дыма уплывают в вышину. Иногда тонкая, прямая струя пронзает их одно за другим, нанизывает: шашлык на вертеле. Кнопками приколоты к обоям фотографии голых и полураздетых женщин – в чулках, в корсетах, в панталонах…
Белый пудель, похожий скорее на белую тень собаки, вьется подле атаманки. Поручик ложится на живот, протягивает арапник пуделя прыгать…
– Анкор, еще анкор! – повторяет поручик два, три, четыре раза, голос его тускнеет, поручик погружается в сон. Комната засыпает также. В воздухе повисает белая тень собаки – в прыжке над арапником.
25
Государь Император, удостоив внимания способности рисующего офицера, Высочайше повелеть соизволил предоставить ему добровольно оставить службу и посвятить себя живописи, с содержанием по 100 рублей ассигиациями в месяц. И вот появилась квартирка в Санкт-Петербурге, с грошовой мебелью, с гранатовыми обоями и золотым бордюром, с грудой холстов и папок. В папках лежали удивительные вещи, и, хотя торговец художественными изделиями и эстампами Дациаро с Морской улицы всему предпочитал заказные портреты, папки распухали от удивительных вещей. Маленькая квартирка часто пустовала: хозяин целыми днями блуждал по городу. Хозяин видел жизнь, питерскую жизнь, – изображенной на холсте фламандскими мастерами. Представление о жизни двоилось. Было странным и страшным родство российских сидельцев, горничных, расфуфыренных купчих, бородачей второй гильдии, крикливых сбитенщиков – с эрмитажными полотнами. Офицер лейб-гвардии Финляндского полка, капитан в отставке, Павел Андреевич Федотов, резался в «дурачка» в подворотне Апраксина рынка, и ему мерещилось, что он бродит в прохладных анфиладах музея. Борода собеседника, его енотовая шуба, варежки – казались писанными по полотну фламандцем Теньерсом. Федотов распознавал даже чуть приметный ворс кисти, заглаженные временем рельефы мазка. Чтобы еще крепче убедиться в своих наблюдениях, Федотов снова торопился в Эрмитаж, но там его неожиданно обступало многолюдье Апраксина рынка. День заканчивался головной болью, головная боль начиналась миганьем в глазах. Но одни ли только фламандцы? Вслед за фламандцами пришли англичане. Русский, руссейший капитан в отставке (с правом ношения мундира) до такой степени сливался с англичанином Хоггартом, что терял окончательно свою собственную сущность, за исключением, пожалуй, одного мундира лейб-гвардии Финляндского полка. Но разве нежинский землемер лесного департамента Венецианов, отмеряя мужицкие межи, не видел в родных полях в лапотных, босоногих нежинских жницах – образов классической Италии? И разве, несмотря на это, Россия знает художников более русских?
Ста царских рублей ассигнациями хватало ровно на первую неделю каждого месяца; заказные портреты все реже получались от придирчивого торговца Дациаро, однако удивительные вещи множились в федотовских папках. Названия их длинны и замечательны:
«Сватовство майора, или Поправка обстоятельств женитьбой».
«Звезда предвещает рождение гения».
«Как хорошо иметь в роте портных».
«Мышеловка, или Опасное положение бедной, нo красивой девушки».
«Художник, в надежде на свой талант женившийся без приданого».
«Две манеры сидеть».
«Утро чиновника, получившего первый орден…»
«Анкор, еще анкор!»
Но однажды, когда сквозь непревзойденную зелень обоев в спаленке своей «Вдовушки» Федотов увидел белую тень пуделя, распростертую над арапником, головная боль сделалась невыносимой, и Федотов заплакал (как и все русские люди, он вообще умел плакать над абстракциями). Федотова усадили на извозчика, еще более бородатого, чем фламандцы Апраксина рынка, и отвезли в заведение медика Лейдесдорфа, что на Песках. Гранатовые обои в маленькой гостиной навсегда перешли в прошлое… Проезжая по Миллионной, Федотов красными от слез, боли и страха глазами взглянул на здание музея: с портала снимали последние леса, каменщики стучали молотками. Именно в этот год строители Штакеншнейдер и Кленце, продолжая дело Деламота, Фельтена и Гваренги, закончили постройкой Императорский Эрмитаж, украсив его подъезд кариатидами Теребнева.
Глава 2
1
– Трус! – кричит Иван Павлович Хохлов. – Посмотри вокруг: разве твои друзья не в окопах? Разве они не доказали своей готовности гибнуть за родину? Ты пойдешь на фронт!
Но Коленька оставался в Петербурге. Мать снабжала Коленьку деньгами для подкупа врачей в мобилизационных комиссиях; врачи единодушно признавали его неспособным носить оружие. Случайно об этом узнал отец. Он яростно стучал кулаками по столу (чашки в буфете вздрагивали, позвякивая):
– Негодяй! Я не обвиняю твою мать, у нее женское сердце, но ты – ты позоришь нашу семью! Если ты не испытываешь стыда, то я сгораю от него. Когда мы были молоды, мы радостно отдавали себя за народ.
С горячностью Коленька прерывает отца:
– Нет! Ты не прав, ты передергиваешь карты!
Коленька сознает, что говорит не то, что следует. Его отец прежде всего – честный человек. К тому же он ни разу в жизни не брал карт в руки, и эта фраза ему особенно неприятна. Но Коленька уже бессилен сдержаться:
– О каких жертвах ты говоришь? Разве ты жертвовал собой в том оголенном, физическом смысле, как это делает мое поколение в окопах? Мне наплевать на политику, я не читал резолюций Циммервальда. Но для меня ясно, что ваша война выйдет человечеству боком.
– Извозчик и трус, – говорит отец печально.
– Ты жертвовал собой ради близкой тебе идеи. Но я не иду на войну, потому что не вижу в ней смысла, потому что не понимаю – слышишь? – не по-ни-маю, на какого черта меня туда посылают!
Коленька с отвращением слышит собственный визг и старается говорить спокойнее:
– Пусть мне прежде объяснят, что должен я защищать. Историю? Географию? Национальные особенности культуры? Никаких чувств, кроме досады, во мне не возбуждают эти понятия. Ты всю жизнь хотел сделать из меня художника. Вот я и стал художником. Язык моего искусства международен: живопись не нуждается в переводчике. Поддержание национальных признаков в нашем искусстве мы считаем, прости меня, выражением дурного вкуса.
– Погоди! Ты, художник, ты же видишь, как немцы разрушают Лувенскую библиотеку, как они разрушают Реймский собор, как шаг за шагом они уничтожают памятники искусства и культуры. Ты, художник, видишь все это и остаешься хладнокровным?
– Что же нужно сделать, чтобы спасти все это от гибели? – возражает Коленька. – Раздавить, уничтожить Германию? Вздор! Нужно прекратить войну.
– Урод. Мой сын – невежда и моральный выродок.
Иван Павлович опускается в кресло.
– Что еще ты здесь делаешь, нянька?! – внезапно обрушивается он на Афимью, стоящую у дверного косяка.
– Хрущу, – не спеша отвечает няня Афимья, заламывая пальцы.
Отец сидит в кресле, откинувшись на спинку и закрыв глаза. Отец и сын никогда не поймут друг друга. Коленька умолкает. Он опускается на пол, кладет свою голову на колени отца. Отец недвижим. Коленька видит его страдания, и нежная боль, нежнейшая жалость к отцу пронзает его. На другой день Коленька отправляется в воинскую комиссию, его признают годным для службы и зачисляют в учебную команду. Ему выдают ружье и, как мельчайшую гайку, ввинчивают в общий военный аппарат. Через месяц Коленьку уже отправляют в окопы, а через два он дезертирует. Отец никогда не узнает о его бегстве.