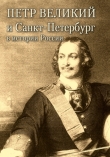Текст книги "Повесть о пустяках"
Автор книги: Юрий Анненков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
15
С одесского кичмана
Бежали два уркана,
Бежали без путевки, как-нибудь,
В варпнярской малине
Они остановились,
Чтобы немного отдохнуть.
Товарищ, товарищ,
Болят мои раны,
Болят мои раны в глубоке!
Одна заживает,
Другая нарывает,
А третья открылася в боке.
Товарищ Скумбриевич,
Скажите моей маме,
Что сын ее погибнул на посте.
С винтовкою в рукою
И с шашкою в другою,
И с песнею веселой на губе.
Чекист малохольный
Зароет мое тело,
Зароет мое тело во землю,
Чтобы куры не заклевали,
Чтоб люди не заплевали
И чтобы все узнали, как люблю…
Лермонтов сорвал с себя эполеты и бранденбурги, его грудь поросла шерстью, пальцы заскорузли от раздавленных вшей.
Прихожу в пивную,
Сéдаю за стол.
Скéдаю фуражечку,
Кéдаю на стол.
Я зову Марусю:
Что ты будешь пить?
Она отвечает:
Голова болит.
Я в тебе не спрашиваю,
Что в тебе болит,
А я в тебе спрашиваю,
Что ты будешь пить?
Чи тебе водки,
Чи тебе вина,
Чи тебе пива,
Аль, может быть, чего?
Во время затмения солнца звери начинают выть.
16
Господи, что же это такое! Когда же это кончится? Разве я мешаю кому-нибудь? Оставьте меня в покое. Я только одного и хочу, чтобы меня оставили в покое. Пусть себе строят, разве я мешаю им строить? Я никому не мешаю, пусть делают, что хотят. Но так же нельзя, Господи! Все отняли, всего лишили, хлеб сокращают… В чем моя-то вина? Ты же видишь, Господи! Где же тут справедливость! Я хочу жить тихо-смирно, мой век недолог, ты же сам знаешь. За что меня – так со всех сторон… Оставьте меня в покое! Когда же все это кончится, Господи! Обручальное кольцо пошло за гнилую картошку. И то – слава Богу, ведь могли и его отобрать. А кто мне кольцо вернет? Что же это такое? Что еще завтра будет? Нет у меня больше сил. Пожалуйста, послушайте, ну хоть ты выслушай, Господи. Нельзя так! За что, собственно? Кому до меня какое дело? Я никого не трогаю, никого не душил, пожалуйста. Ну, знаю, кольца-то мне уже никогда не вернут, Бог с ним. Я хочу тихо-смирно. Я хочу покоя, всего-то навсего. Стройте, пожалуйста, я слова не скажу. Я все понимаю: каждому надо, ну и пожалуйста. Но я-то при чем? Я чужого не хочу и не вмешиваюсь. Нет больше сил, я так устаю, так устаю… все вверх дном, какое же это строительство, впрочем, пожалуйста, Господь с вами, делайте, что хотите. Я вовсе не критикую, только оставьте меня-то в покое, забудьте, что, дескать, там-то и там-то… Нельзя же так без конца, так можно в гроб загнать – и не опомнишься. Немыслимо так. Тогда уж лучше палками забейте, честнее будете; так и скажите: палками забьем, тогда я пойму по крайней мере. Уж и так сидишь без огня, без жратвы – и то все не слава Богу. Я и не мечтаю об огуречных рассолах или о театрах: куда уж! Забирайте все ваши фигли-мигли с собой, Бог с ними, с вашими кино и разными штучками! Чтó я – в библиотеке, что ли? Господь с ними, с удовольствиями! Но ведь нельзя же так, немыслимо так, поймите, пожалуйста. Лучшe накиньте петлю на шею, и дело с концом, чего уж! Господи, ты же видишь, скажите пожалуйста. Я вовсе не жалуюсь – не подумайте – не нужна мне ваша жалость ко всем чертям! Я о своем говорю, мне чужого не надо, все равно ничего не вернут. Душа устала, Господи, как душа устала! – вот что существенно… все устало, какая там к черту душа! – вот что существенно, я уж и не говорю о кольце… Господи, помилуй! Господи, Ты же можешь… кто сказал, что ты можешь?! Ничего Ты не можешь! Сволочь ты, вор, сукин сын! Ты мое счастье украл, ты все у меня украл! Что я тебе сделал такого? Что? Говори, скажите на милость! Где ж твоя хваленая справедливость? Кто мне кольцо вернет? Кто меня самого вернет? Ты, что ли, вернешь? – кукиш с маслом! Ах, оставьте меня в покое, оставьте в покое, Господи Боже мой…
17
К вечеру на отсыревший снег снова стали падать крупные хлопья – еще не очень морозные, еще мягкие, но уже оттепели пришел конец. Князь Петя почти бежит по улице: он засиделся, он может опоздать в Дом Искусств на доклад Толи Виленского о построении метафор. Внезапные рези в желудке и минутное головокружение заставляют его в изумлении оглядываться – он еще ничего не ел, может быть, с третьего дня, он уже давно не ест, а так перехватывает кое-где, по случайности. Князь Петя не понимает причины, он изумленно смотрит по сторонам, он забыл, что существуют обеды и завтраки, что где-то когда-то он ел кровяные бифштексы, что где-то под солнцем растут апельсины, которые, кажется, тоже можно есть, все это случайно припоминает князь Петя, как путешествия Гулливера, как нечто совсем нереальное и в действительной жизни, конечно, ненужное; ведь жизнь так пленительна, надо спешить, торопиться, поспеть. Князь Петя еще ускоряет шаги. Он бежит проходным двором, сокращая дорогу. Двор выводит на набережную Фонтанки. Из-под сугробов торчит остов живорыбного садка. Расставив ноги, оправляется милиционерша. Невдалеке – костер на снегу, подле костра сидит на ящике рабочий, держа между ног винтовку. Падают хлопья. Синева. Чернеют кони Аничкова моста. С моста, через перила, можно перешагнуть на реку – так высоки сугробы на Фонтанке. Дальше – синяя темнота неосвещенного проспекта, синее марево снегопада, следы на снегу. Князь Петя бежит посреди улицы, изредка вздрагивая от головокружения. Толя Виленский всегда начинает ровно в назначенный час, чернеет небо, чернеет темнота в дальней точке проспекта, по Садовой проходит красноармейский патруль, чернеет синий снег под натиском ночи, сужаются дома, скоро там, в черноте, будет мост через Мойку. Падает иссиня-черный снег, метет, наметая новые пригорки. Лучший компас, конечно, – звезды, но когда звезд нет…
18
Конструктор Гук не нашел во всем Петербурге компаса – ни у друзей, ни на технических складах, ни в научных учреждениях. Две недели блуждал конструктор Гук по городу в безрезультатных поисках. На него смотрели с недоумением; где-то обиделись и прикрикнули:
– Вы бы еще спросили шелковые носки или рябчиков!
Нет. Он этого не спросит. Ему нужен только компас. Но компаса не было. Тогда конструктор Гук решил идти по звездам. Надо было выждать не очень светлую, безлунную, но звездную ночь.
Между Лисьим Носом и станцией Горской с пустынного берега конструктор Гук осторожно скатывать деревянные салазки на лед Финского залива. К салазкам привязан тюк, покрытый белой простыней. Белая простыня с капюшоном надета также на конструктора Гука: он напоминает собой монаха инквизиции. Далеко, версты за полторы от берега, едва заметна крохотная красная точка: то светится ближайший из фортов Кронштадтской заградительной сети, батарея № 9; между ней и берегом совершают обход советские дозоры, здесь путь отрезан. Впереди, почти над головой, – Полярная звезда, слева – Большая Медведица, справа – Юпитер. Если между Полярной звездой и Медведицей провести отвес к земле, он упрется в финский берег где-то возле Терриок. Следует сделать по морю полукруг: взять сначала влево, обогнуть батарею № 9, пройти между ней и следующим фортом – батарея № 11, сделать верст десять по снежному простору залива, держась поглубже от берега, и, только миновав Сестрорецк, начать другое отклонение вправо – к точке падения отвеса. Идти придется часов пять, волоча за собой салазки, прислушиваясь к ружейным выстрелам, которыми от скуки балуются советские пограничники. Идти придется, сгибаясь еще под двойной ношей: тяжесть расставания и тяжесть неверия в будущее.
Конструктор Гук спускается на лед и размеренным, не очень быстрым шагом направляется в обход красной точки. Хорошо, что снег не очень крепок; хорошо, что не хрустит тонкий наст, что не слышны шаги и беззвучно скользят за спиной салазки, Конструктор Гук смотрит на звезды, собирая их в созвездия. Он впитывает в себя покой снежной ночи, проникается ее величием. Неисчислимость светящихся точек мерцает, мигает, дрожит над его головой, и одна – красная точка – внизу, впереди. Конструктор Гук оглядывается на покинутый берег, но берег уже растворился в темноте. Мир теперь геометрически совершенен. Ночь едва колышется в бесстрастном, холодном, звездном ритме. Шаги упруги и четки, как часовой механизм; мысли ясны, дыхание ровно. Невидимая точка под невидимым отвесом материализируется в сознании конструктора Гука: он как бы выдвинул ее из темноты, из потерянного в звездах горизонта, и поставил перед собой. От красной точки внизу, теперь передвинувшейся вправо, от Полярной звезды, от созвездия Медведицы, от Юпитера, от Венеры, от самого конструктора Гука протянуты к основанию отвеса прямые, безупречные линии, воздвигнут невидимый, но стройный чертеж. Этой ночью конструктор Гук впервые так восхищенно ощутил непререкаемую гармонию природы. Он видел карту небесных полушарий, рассеченных Млечным Путем; он восстанавливал контуры Геркулеса, Дельфина, Пегаса, классической Лиры в когтях Орла, Павлина, Кентавра и Козерога, мифологическую фантасмагорию образов; видел античные группы древних астрономов, склоненных над вычислениями, видел суровых пифагорейцев, окруживших величайшего из учителей… На всю жизнь конструктор Гук сохранит воспоминание об этой ночи, о неповторимом слиянии времен и пространств в одно нераздельное целое.
Красная точка форта медленно увеличивалась и наконец распалась на несколько точек. Слева виднелись огни батареи № 11. Конструктор Гук проходил наиболее опасную зону, прорывал заграждения, но он теперь не думал об опасности. Он уверенно шел по безмолвной снежной равнине. Огоньки батарей снова слипались, пока не превратились в прежние красные точки. Конструктор Гук находился на финской стороне, вне опасности, на свободе. Он оглянулся и сел на салазки. Он откинул с головы белый капюшон, снял эскимосскую шапку, прикрыл ею лицо и кашлянул, заглушая кашель оленьим мехом. В ту минуту конструктор Гук не знал – сделал ли он так, чтобы не нарушить великий покой этой ночи, или – боясь пробудить внимание пограничников? Но в то же мгновенье – вдали, за спиной, щелкнул ружейный выстрел и прокатился, замирая. В подвалах сознания темными, суетливыми прыжками забегали земные мысли, конструктор Гук вскочил на ноги, но тотчас понял, что дальше идти он не сможет; он дернул веревку салазок: полозья скользнули по снегу так же легко, как и раньше. Но ноги уже не повиновались ему. Двойная ноша, о которой он забыл, спускаясь с берега, всей своей тяжестью обрушилась на конструктора Гука. Невидимая точка, к которой теперь так близок был конструктор Гук, потеряла всякое значение, чертеж рассыпался и потускнел. Не глядя на небо, но высматривая на темпом снегу запись пройденного пути, конструктор Гук торопился, снова прорывая заграждения, снова минуя огни фортов, – обратно к русского берегу, к станции Горской, где уже проснулись паровозные свистки Приморской железной дороги.
Глава 4
1
Мольберт художника похож на гильотину. Палитра висит на гвозде, отяжеленная красками. Художники, философы и поэты строят новые формы, новые принципы: искусство есть изобретательство. Изобретательство – тяжкий дар, который под силу немногим. Художники часто изобретательствуют группами: так вырастают школы…
Суровое небо Эллады. На серый, скалистый, обесцвеченный солнцем берег ложатся черно-зеленые волны Эгейского моря. Желтоватые колонны с отбитыми завитками капителей, мраморные листья аканта лежат на земле в груде осколков. Белые, голубые, розоватые кони резвятся, отбрасывая черные тени на серый песок. Конские шеи могучи, широки крупы и спины, раздвоенные желобом по хребту. Кони, играя, вздымаются на дыбы, античные гривы стелются по ветру. Поднявшись на задние ноги, кони застывают неподвижно, опираясь на трубы хвостов. Черные волны, по которым когда-то отплывали аргонавты за золотым руном, беззвучно бьются о скалы, побелевшие под солнцем. Конское ржанье, удары мечей о щиты, клекот орлов и плеск прибоя, заглушенные веками, приведены к молчанию. Молча раздуваются ноздри коней, неслышно скрещиваются мечи, и замирает в воздухе брошенный трезубец. Каменеют на подмостках трагические складки актеров Эсхила и Эврипида, умолкают оды поэтов, красноречие ораторов, споры философов, обращаясь в холодный паросский мрамор. Художники, философы и поэты работают для вечности. Вечность, далекие столетия будущего, всегда ближе художнику, чем его современность. Но нет призраков страшнее мраморных свидетелей ушедших миров; они обнажают торсы, исщербленные проказой столетий, простирают руки с отломанными пальцами, глядят в пространство и время белыми яблоками невидящих глаз, полных ужаса одиночества, тоски эпох и культур, убивших собственные мифы, не найдя истины, и медленно угасших, как костры, в которые уже нечего подбросить… Путешественники на современных трансатлантических сверхгигантах, оставляющие кратковременный след п конторских книгах пароходных компаний и в таможенных протоколах, менее опасны для будущих поколений, чем аргонавты, уводящие паруса к Колхиде, или Колумб, открывающий Америку на хрупкой каравелле.
2
Коленька Хохлов сидит на табуретке перед мольбертом, похожим на гильотину. Коленька работает, хотя заниматься живописно приходится все реже и реже. На столике у мольберта – полированный, треснувший ящик, в нем – гора измятых тюбов с красками, грязная тряпка с неоторванной пуговицей – лоскут рубахи; рядом – палитра, не чищенная уже несколько месяцев, стакан с керосином, кисти, цветная бумага, запачканная краской гребенка, блюдце с песком. В комнате – обычный беспорядок, няня Афимья не успевает прибираться: стареет. Книги повсюду: в шкафу, на полу, на столе, на стульях – начиная с «Трактата» Леонардо да Винчи – до серых томиков «Старых Годов», тетрадей «Золотого Руна» и «Мира Искусства», желтых выпусков «Аполлона», до последних брошюр Толи Виленского и конструктивиста Крашевича. Кое-кто из поэтов – с авторскими посвящениями. Но, по обыкновению, книги, не относящиеся к вопросам искусства, Коленька, прочитав, выбрасывал, чтобы они не засоряли библиотеки. На печурке – чайник и валенки. На столе – горбушка пайкового хлеба, тарелка с окурками, новенький, сверкающий браунинг, подаренный Хохлову членом ревсовета VII армии (старый, выданный в дни Октября, лежит в ящике); любительский портрет матери, снятый на балконе хохловской дачи; план сцены Александринского театра, номер газеты «Жизнь Искусства» с последней статьей Хохлова – «О методе динамического оформления спектакля», и рукопись новой статьи – «Революционная форма», начинающейся такими словами:
«Пикассо не просто большой художник, он – четверть века современной живописи, некая центральная точка, вокруг которой движутся планеты второй и третьей величины, малые и бесконечно малые тела» (слово «некая» перечеркнуто, потому что оно рифмуется с «веком»). «Как бы мы ни были разны между собой, каждый в отдельности непременно напоминает какой-нибудь поворот Пикассо. Мы, художники Революционной России, авангард пролетарской культуры, поставленный на страже революционной формы, утверждаем, что передвижничество, чуждое формальным задачам и выдвигающее сюжетный базис, является замаскированной вылазкой реакции; картина, ограничивающая свое назначение революционной тематикой, похожа на дом, стены которого обклеены лозунгами и декретами, но крыша протекает, водопровод не действует, и кирпичи плохого обжига. Утверждая это, мы в то же время не должны забывать, что Пикассо – скорее последняя вспышка буржуазного искусства, нежели пионер новой пролетарской эры…»
Редактор газеты «Жизнь Искусства», прочитав статью, скажет Коленьке:
– Товарищ Хохлов, коллегия признала твою статейку актуальной и помещает ее на первой странице. Но, учитывая некоторые особенности текущего момента, я вынужден внести пару поправок.
Редактор заменит слово «художник» – «работником палитры», слово «откровение» – «профессиональным домыслом», ссылку на передвижников выпустит вовсе, но зато прибавит 24 строки собственных суждений… Коленька отмахнется – «пожалуйста, пожалуйста»… – и статья появится через день – петитом на третьей странице, с пометкой: «Печатается в дискуссионном порядке». На первой странице корпусом будет набрана статья Игнатия Гайка: «Нужны люди с большевистским хребтом»…
Еще на столе у Хохлова – линейка, молоток и циркуль, а также полученная вчера записка:
«Нам опротивела твоя половинчатость, раз и навсегда
Муха
Дора».
Коленька задумывается над работой.
– Нянюшка, – спрашивает он, – хороша ли, по-твоему, картинка? Няня Афимья присматривается, подходит ближе и говорит:
– Нешто ты плохо сделаешь!
– Нравится?
– Как не нравиться!
– Помнишь, к прошлому Рождеству я закончил большую картину, такую синюю?
– Еще бы не помнить!
– В Третьяковку повешена.
– Ишь ты!
Няня целомудренно умолкает. Она не помнит картины: все они, картины, одинокие – одна синяя, другая красная, третья зеленая, а то и совсем пегая – разве упомнишь? Но няня чувствует, что Коленьке нужна поддержка, и потому целомудренно умолкает, боясь проронить неловкое слово. Коленька угадывает нянины чувства, он хочет поднять ее на руки – седенькую, легонькую, – хочет усадить ее в глубокое кресло, окутать шалями и стеганым одеялом, насыпать перед ней шоколадных конфет, абрикосовской пастилы и изюма, купить новую косынку, окружить няню ласками и заботой. Но Коленька толпе молчит и молча принимается за работу. Часы идут. Старательно проверяя каждое движение кисти, расчетливо, любовно и трудолюбиво Коленька накладывает на живописный опыт истории новый, свежий пласт.
3
Член коллегии Петербургской Чрезвычайной Комиссии и муж Мухи Бенгальцевой Юрик Дивинов, встав из-за стола в своем кабинете на Гороховой, шагнул навстречу вошедшему Хохлову.
– Дело обстоит такого рода, – начал Юрик Дивинов, – Муха здесь ни при чем, Муха частность, хоть и небезынтересная.
Коленька насторожился, разглядывая серое лицо Дивинова.
– Вы, товарищ Хохлов, умный и ценный революционный работник и, как нам кажется, парень свой. Повторяю, что Муха – только частность… Такие люди, как вы, нужны революции, такими бросаться – пробросаешься. Невероятно, что вы, так близко стоящий к партии, короче говоря – околопартийный товарищ, не числитесь в наших рядах. Кстати: какие пайки вы получаете?.. Только-то?.. Ну, это, конечно, не густо. Почему я спрашиваю? А разве вы торопитесь? Нам бы хотелось подробно развернуть с вами некоторые вопросы. Если вы не очень спешите, я имел бы в виду… Впрочем, если угодно, можно ближе к делу… Чай пьете? Ну, ну – не отпирайтесь: Муха говорила, что вы большой любитель чаевничать. Я тоже обожаю. Наши вкусы кое в чем сходятся, приятно констатировать… В партию вам, должен сказать, нет смысла записываться, партия вас раздавит, будет кидать с одной работы на другую, перемелет, и тогда – прощай, искусство, или как вы это называете. Согласны? Рекомендую согласиться, тем более что нам ваша партийность не нужна ни в какую. Мы развертываем партийную вербовку широких масс, широкого пролетарского коллектива, а не единиц. Революционные массы нуждаются в дисциплине, партбилет дает дисциплину, становление политической линии и, в конечном итоге, – обо что разговор? – взнуздывает. Единицы важны за пределами партии: надпартийные, внепартийные, околопартийных товарищи… Вы курите?.. Прошу. Предпочитаете полукрупку? Дело вкуса, здесь мы расходимся… Принято думать, что каждый коммунист является сотрудником ЧК. Думать так – значит смотреть на факты сквозь розовые очки: в идеале – само собой, но на практике – отнюдь. Коммунисты в большинстве случаев бесполезны и даже вредны в нашей оперативной работе. Большинство коммунистов мы не подпускаем к ЧК на пулеметный огонь. Деловые установки мы производим на единиц, пользующихся доверием в беспартийной среде и способных служить отображением ее активизаторской потенции, Коммунистам ни один дурак не верит, это гиблое дело. В наши целевые задания они вносят лишь суматоху и вообще дрянь. Как парень свой вы все это знаете, и мне нечего скрывать, что наибольший процент секретных сотрудников ЧК составляют попы, профессора, писатели, академики и еще раз попы. Кроме прочего, они умней и наблюдательные партийных массовиков, а нам нужны не доносчики, а умозаключатели, нас надо знакомить не с действиями – действия сами о себе говорят, – а с подкладкой действий. Немало добровольных агентурных заявок со стороны бывших генералов-военных и гражданских, но эти типы слишком мелко плавают: так себе – плотвица без горизонтов, шпана… Говорить с вами о материальных преимуществах – вульгарно и неопрятно. Я заостряю вопрос: принимаете ли вы в принципе наше предложение со всеми вытекающими последствиями? Не забудьте, что Муха здесь ни при чем. На пока других вопросов не имеется.
Юрик Дивинов достал револьвер, подбросил его на ладони.
– Но чтобы о нашем разговоре – ни гy-гу! Я вас больше не задерживаю. До скорого! С товарищеским приветом!
– Пока!
В коридорах стояли часовые, звонко смеялась курьерша в тулупе. Внизу, в приемной, за столом сидел Сережа Панкратов с черным кружком на глазу.
– Бонжюр! – крикнул ему Коленька.
Панкратов строго посмотрел на Коленьку и ничего не ответил.