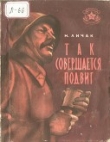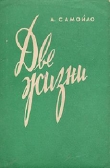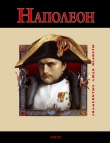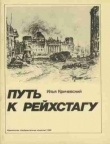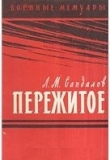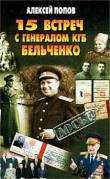Текст книги "Кремль. Ставка. Генштаб."
Автор книги: Юрий Горьков
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц)
Во-первых, предполагалось, что главные силы германской армии развернутся на юго-запад от Седлеца до Венгрии с тем, чтобы ударом на Бердичев – Киев захватить Украину. Это, однако, не исключало предположения о развертывании основной немецкой группировки в Восточной Пруссии и под Варшавой.
Во-вторых, и это очень важно, отрицалось развертывание сил Красной Армии против Восточной Пруссии и на Варшавском направлении, так как имелось опасение, что борьба на этом фронте может привести к затяжным боям, свяжет наши главные силы и не даст добиться быстрого эффекта, чем ускорит вступление Балканских стран в войну против нас. Основными причинами для такого вывода были сложные природные условия, непригодные для применения механизированных войск, и наличие мощных укреплений на территории противника.
В-третьих, наиболее выгодным считалось развертывание советских войск к югу от реки Припять с тем, чтобы мощными ударами на Люблин, Радом и Краков разбить главные силы немцев и на первом этапе войны отрезать Германию от Балканских стран, лишив ее поставок нефти, сократив возможности маневра и переброски войск, вооружения и боевой техники.
Развертывание наиболее сильной группировки наших войск на юго-западе преследовало следующие стратегические цели, как о том свидетельствуют документы архива:
«Первая стратегическая цель – разгром главной группировки войск в районе Люблин – Радом – Сандомир и выход на фронт Варшава – Лодзь – Крейцбург – Оппельн.
Дальнейшей стратегической целью для главных сил Красной Армии, в зависимости от обстановки, может быть поставлено развитие операции через Познань на Берлин или действия на Юго-Запад на Прагу и Вену или удар на севере через Торунь и Данциг с целью обхода Восточной Пруссии».[50]50
ЦАМО РФ. Ф. 16а, оп. 2951, д. 241, лл. 17–18.
[Закрыть]
По данному варианту плана были подготовлены уточняющие директивы в западные приграничные округа и наркому ВМФ, но адресатам их не отправили.
Трудно установить, почему уточненному в марте 1941 года плану не был дан ход. Возможно, во время очередного доклада Г. К. Жукова в Кремле И. В. Сталин дал какие-то указания по его содержанию. В заключение доклада начальника Генштаба он сказал: «Надо подумать и подобрать первоочередные вопросы и внести их в Правительство».
Еще раз проанализировав обстановку с учетом указаний И. В. Сталина, Генштаб разработал «Соображения по плану стратегического развертывания вооруженных сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками» по состоянию на 15 мая 1941 года. В майских «Соображениях» было указано:
«В настоящее время Германия имеет развернутыми около 230 пехотных, 22 танковых, 20 моторизованных, 8 воздушных и 4 кавалерийских дивизий, а всего около 284 дивизий.
…в случае нападения на СССР она может выставить против нас до 137 пехотных, 19 танковых, 15 моторизованных, 4 кавалерийских и 5 воздушно-десантных дивизий, а всего до 180 дивизий»
(Подробнее см. Приложение № 2).
Там же были даны боевые составы войск союзников Германии и всей группировки в целом.
Намерения и замысел действий противника приведены здесь без изменений, как в мартовском варианте плана. Существует, однако, и важное добавление, зная которое, можно внести, наконец, полную ясность в набивший оскомину вопрос: готовил ли И. В. Сталин упреждающий удар по германской армии. Речь идет о первом разделе «Соображений», где, в оценочной части противника, имеются такие слова:
«Учитывая, что Германия в настоящее время держит свою армию отмобилизованной, с развернутыми тылами, она имеет возможность предупредить (подчеркнуто в тексте – Ю. Г.) нас в развертывании и нанести внезапный удар.
Чтобы предотвратить это, считаю необходимым ни в коем случае не давать инициативы действий Германскому Командованию, упредить противника в развертывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находиться в стадии развертывания и не успеет еще организовать фронт и взаимодействие родов войск».
Какие же практические действия последовали вслед за таким решительным предложением военных руководителей? Основы стратегического развертывания советских войск остались прежними. Более того, окончательно победила точка зрения И. В. Сталина и его ближайшего окружения, что главный удар немцы нанесут на Киев с целью захвата Украины. По указанию И. В. Сталина в состав Юго-Западного фронта выделялось больше сил, после чего на его долю пришлось около 50 % дивизий всех западных приграничных округов (фронтов). Последний расклад наших сил и средств на советско-германском фронте был доложен Н. Ф. Ватутиным Сталину 13 июня 1941 года.
Существенно изменилась в сторону ограничения последующая стратегическая цель операции, проводимой силами Западного и Юго-Западного фронтов. В замысле практически отсутствует задача овладения территориями какого-либо государства, захват какой-то столицы, скажем, Берлина, Праги, Вены или Варшавы. Это еще раз подчеркивает отсутствие агрессивных намерений в отношении Германии и ее союзников. Цели и задачи планируемой наступательной операции ограниченными силами Западного и Юго-Западного фронтов укладывались в рамки фронтовой операции того времени. Основная ее цель заключалась в разгроме главной группировки немцев южнее Варшавы и в лишении ее возможности наступления, а также в изоляции Германии от южных союзников.
Полоса фронта наступления составляла всего 350–400 километров, то есть примерно 10 % от всей протяженности советско-германского фронта, а глубина – до 250–300 километров. На остальной части фронта предусматривалась жесткая оборона. Кстати, по мнению Гальдера и Манштейна, эта концепция жесткой обороны потерпела крах в самом начале войны.
Исследование оперативных документов Генштаба (самого плана войны, частных оперативных директив фронтам), планов обороны государственной границы силами армий прикрытия и войск второго оперативного эшелона показывает, что они не предусматривали нападения на сопредельные государства. Более того, в них категорически запрещалось переходить государственную границу СССР даже после нападения противника (см. Приложение № 3).
Существенным является также и то, что о наступательных действиях Западного и Юго-Западного фронтов говорится только в оперативном плане Генштаба. В оперативных документах всех западных приграничных округов никакие планы наступательных операций не были предусмотрены. На основе частных директив Генштаба в штабах округов разрабатывались планы обороны государственной границы на период отмобилизования, сосредоточения и развертывания войск, а также в последующий период. Все эти документы имеются в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации.
Отношение И. В. Сталина к майскому оперативному плану было непростым. Оно диктовалось сложившейся военно-политической обстановкой и явной угрозой нападения Германии на СССР (см. Приложение 5–7). Явная обеспокоенность главы партии и государства подтверждается его постоянным общением с С. К. Тимошенко и Г. К. Жуковым. В мае они были на приеме в Кремле 10-го, 12-го, 19-го и 23-го. Здесь же, в Кремле, 24 мая состоялось секретное совещание под личным руководством И. В. Сталина с командующими войсками, членами Военных советов и командующими ВВС западных приграничных округов. Я уже упоминал о нем в первой главе моей книги.
Завершая тему оперативных военных планов, разработанных Генеральным штабом РККА в различные периоды своего существования, считаю необходимым остановиться на их юридической полноценности. Острота вопроса заключается в том, что эти документы не содержат подписей И. В. Сталина, Наркома обороны, начальника Генштаба, членов СТО или Главного Военного Совета. На этом основании историки ставят под сомнение их подлинность. Многие военные исследователи, штабные работники, в том числе и я, не верили, что такой важный документ, как оперативный план войны, может быть не подписан исполнителем, другими должностными лицами, а также не снабжен резолюцией самого И. В. Сталина. Потому мы считали эти документы просто черновиками, полагая, что подлинник хранится где-то за семью печатями, в абсолютно недоступных для нас архивах.
Но вот летом 1993 года мне удалось найти в бывшем архиве Политбюро ЦК КПСС неопубликованное интервью маршала А. М. Василевского, датированное 1965 годом. Этот документ был опубликован с моим предисловием сотрудником архива Президента РФ Ю. Г. Муриным. Обсуждая свои сомнения по поводу неподписанных документов особой важности, мы с Юрием Григорьевичем пришли к выводу, что перед войной на «самом верху» подписывать документы было просто не принято. Что это, попытка обойтись без ненужных формальностей? А может быть, нечто другое? Ведь не случайно же не стенографировались и не протоколировались заседания Политбюро (имелись только Постановления за подписью И. В. Сталина), а позже, во время войны, не утверждалось формально подписью Верховного Главнокомандующего подавляющее большинство стратегических и фронтовых планов операций.
Быть может, высшие партийные руководители, по старой конспиративной привычке, просто старались не оставлять следов? Недаром в 30-е годы бытовало правило: ничего не подписывай, если подписал – откажись… Не исключено, что И. В. Сталин вовсе не был так уж уверен в своей неуязвимости и на всякий случай старался не «наследить». Впрочем, это всего лишь предположение. Верховный, например, не требовал, чтобы стратегические и фронтовые карты, по которым докладывали обстановку в Кремле начальник Генштаба или его заместитель, были обязательно подписаны ими. На каждой карте в обязательном порядке стояла подпись исполнителя, по сути – чертежника, а также подпись лица, проверявшего нанесенную обстановку. Вот тут не дай Бог было совершить ошибку. За ошибки И. В. Сталин спрашивал строго, в том числе с начальника информационного отдела Генштаба генерал-лейтенанта С. П. Платонова.
Некоторые историки считают, что И. В. Сталин боялся ответственности и оттого не решался ставить подпись на важных документах. С этим вряд ли можно согласиться. Человек он был волевой и достаточно мужественный. Во всяком случае, ответственность за ход военных действий на полях Великой Отечественной он ни на кого не перекладывал.
Одним словом, нет в архивах подписанных документов. Это, однако, не умаляет значения находок последних лет. Теперь нет сомнения, что стратегическое планирование войны осуществлялось в СССР в полном объеме. Несостоятельными оказались домыслы некоторых историков, считавших, что Генштаб РККА в предвоенный период вообще не составлял стратегических, в том числе и мобилизационных, планов. Кстати говоря, в широкий обиход это мнение попало с «легкой» руки маршала А. И. Еременко (см. его мемуары «В начале войны»). Г. К. Жуков резко и заслуженно критиковал его за явную тенденциозность в освещении ряда событий.
Последнюю точку в этом спорном вопросе ставит уже упомянутое мною интервью маршала А. М. Василевского. Вот что говорил он по поводу обсуждаемой проблемы:
«Все стратегические решения высшего военного командования, на которых строился оперативный план (на 1940–1941 годы – Ю. Г.), как полагали работники оперативного управления, были утверждены Советским правительством. Лично я приходил к такой мысли потому, что вместе с другим заместителем начальника оперативного управления (Генштаба – Ю. Г.) тов. Анисовым в 1940 году дважды сопровождал, имея при себе оперативный план Вооруженных Сил, заместителя начальника Генштаба тов. Ватутина в Кремль, где этот план должен был докладываться Сталину… Никаких пометок в плане или указаний в дальнейшем о каких-либо поправках к нему в результате его рассмотрения мы не получали.
Не было в плане и никаких виз, которые говорили бы о том, что план был принят или отвергнут, хотя продолжавшиеся работы над ним свидетельствовали о том, что, по-видимому, он получил одобрение.
На основе принятых правительством и высшим военным командованием стратегических решений план большой войны на Западе был отработан Генштабом вместе с соответствующими подразделениями Наркомата обороны и командованием западных приграничных округов. Он был также увязан с мобилизационным планом Вооруженных Сил.
За несколько недель до нападения на нас фашистской Германии вся документация по окружным оперативным планам была передана командованию и штабам соответствующих округов».[51]51
Василевский А. Накануне. – Архив Президента РФ. Ф. 73, оп. 2, д. 3, лл. 38–39.
[Закрыть]
Анализируя предвоенные оперативные планы, в частности, план от 15 мая 1941 года, нельзя не остановиться на крупных просчетах стратегического характера, которые так или иначе повлияли на воплощение в жизнь замысла войны. Одна из основных ошибок – неверное определение вероятных сроков нападения германских войск. Здесь особо отмечу ту негативную роль, которую сыграло пресловутое заявление ТАСС от 14 июня 1941 года. Это заявление, пересказывать которое нет необходимости, ибо содержание его известно очень хорошо и полно, дезориентировало военное командование не только в отношении сроков начала войны, но и вообще по поводу возможности войны с Германией.
Известно, что И. В. Сталин до последнего часа не верил, что Гитлер посмеет нарушить пакт о ненападении. Здесь немцы буквально обвели «гениального» вождя вокруг пальца. За несколько дней до начала агрессии И. В. Сталин получил от Гитлера письмо с заверениями в дружбе, что еще более повлияло на его позицию в отношении возможного приведения наших войск в боевую готовность. Короче говоря, не были выполнены самые необходимые мероприятия для отпора врагу – мобилизация, сосредоточение и развертывание войск.
В связи с этим главную причину разразившейся катастрофы вижу не в том, что у нас якобы не существовало оперативного плана войны, а в том, что наши войска не были сосредоточены и развернуты на установленных рубежах и в районах, предусмотренных пусть несовершенным, но имевшимся у нас планом от 15 мая. О несовершенстве его я говорю потому, что в нем не были учтены уроки уже вовсю полыхавшей Второй мировой войны. Государства-агрессоры не предупреждали свои жертвы о том, что готовятся на них напасть. Они просто готовили свои вооруженные силы и нападали именно тогда, когда степень этой готовности их устраивала. При этом плевать они хотели на дипломатический протокол. Тем не менее наш оперативный план, вопреки здравому смыслу, предусматривал начальный период войны продолжительностью 15–25 суток от начала боевых действий до вступления в дело главных сил.
Не учитывался и тот факт, что вооруженные силы Германии и СССР находились в разной степени отмобилизования, сосредоточения и развертывания. Разведданные недвусмысленно говорили о завершении выдвижения и сосредоточения немецких войск у границ Советского Союза. О том, что в Кремле об этом хорошо знали, свидетельствует спецсообщение о подготовке Германией войны против СССР (см. Приложения). И таких спецсообщений в архивах сохранилось не одно и не два.
И. В. Сталин явно промедлил с принятием решения о переходе Красной Армии и страны в целом на режим военного времени. В частности, он не согласился с предложением Наркома обороны С. К. Тимошенко о проведении отмобилизовывания западных приграничных округов. Только после настоятельных ходатайств Наркома было принято Постановление СНК от 8 марта 1941 года о призыве на большие учебные сборы 903 806 человек, в том числе 366 408 военнообязанных для войск, сосредоточенных вдоль западных границ СССР. Увы, это была полумера, так как численность войск даже с учетом участников БУС существенно не изменилась, о чем читателю уже известно.
Между прочим, даже через десять-двадцать лет после Великой Отечественной у наших полководцев не было единого мнения по поводу причин поражения наших войск в начальный период войны. Вот, например, что думал по этому поводу маршал А. М. Василевский:
«Как известно, для осуществления плана нападения на Советский Союз германское командование выделило 152 дивизии, в том числе 19 танковых и 14 моторизованных, что составляло 77 процентов общей численности действующих немецких войск; страны – сателлиты Германии выставили против СССР 29 дивизий, а всего на границах СССР были сосредоточены 181 дивизия и 18 бригад, 48 тысяч орудий и минометов, около 2800 танков и штурмовых орудий и 4950 самолетов. Общая численность составляла 5 500 000 человек, из них 4 600 000 немцев.
Какой силы, спрашивается, нужны были на границе с нашей стороны войсковые эшелоны, которые в состоянии были бы отразить удары врага указанной выше силы и прикрыть сосредоточение и развертывание основных вооруженных сил страны в приграничных районах? По-видимому, эта задача могла быть посильной лишь только главным силам наших Вооруженных Сил, при обязательном условии своевременного их приведения в боевую готовность и с законченным развертыванием их вдоль наших границ до начала вероломного нападения на нас фашистской Германии».[52]52
Там же, л. 44.
[Закрыть]
С этим мнением 6 декабря 1965 года был ознакомлен Г. К. Жуков и на первом листе документа написал:
«Объяснение А. М. Василевского не полностью соответствует действительности. Думаю, что Советский Союз был бы скорее разбит, если бы мы все свои силы развернули на границе, а немецкие войска имели в виду именно по своим планам в начале войны уничтожить их в районе границы.
Хорошо, что этого не случилось, а если бы главные наши силы были бы разбиты в районе гос. границы, тогда бы гитлеровские войска получили возможность успешнее вести войну, а Москва и Ленинград были бы заняты в 1941 году. Г. Жуков. 6.ХII.65 г.».[53]53
Там же, л. 39.
[Закрыть]
Думается, нельзя поставить знак равенства между главными силами и всеми силами, ибо главные силы не равны всем нашим силам. Видимо, это недоразумение, не будем спорить с полководцами. Одно ясно из выводов А. М. Василевского: на войне силе должна противостоять равная сила. По-видимому, А. М. Василевский под главными силами понимал 1-й стратегический эшелон. А при своевременном приведении войск в боевую готовность их численность в западных приграничных округах по личному составу и боевой технике составляла почти половину всей Красной Армии. И если бы они были своевременно развернуты вдоль государственной границы, то результат начального периода войны мог быть иным.
Очевидно, следовало бы разместить войска не просто у границы, ибо административный рубеж по госгранице – это не передовой рубеж обороны. Главный рубеж обороны нужно было бы отнести примерно на 50 километров вглубь страны, а за ним создать систему оперативной и стратегической обороны, своевременно разместить там 1-й и 2-й стратегические эшелоны. В этом случае при наличии у противников равных сил не пришлось бы отходить до Москвы, а затем, преодолевая неимоверные трудности, возвращаться на рубеж госграницы и громить врага уже на его территории. Все это можно было предусмотреть в оперативном плане, а потом осуществить на практике. И уж во всяком случае нельзя было считать госграницу главным рубежом обороны. Ведь сил на ее удержание требовалось значительно больше, чем указывалось в предлагаемом выше варианте, а эффект от их применения был весьма проблематичен. Короче говоря, в предвоенный период были нарушены основные требования оперативного построения системы обороны. Политические и военные руководители СССР недооценивали оборонительные действия, особенно в стратегическом масштабе.
Важнейшим просчетом оперативного плана явилось ошибочное определение района развертывания основных сил немецкой армии в составе 100 дивизий к югу от Демблина и направления главного удара на Ковель, Ровно, Киев. Главные же силы немцев были, как уже известно читателю, к северу от устья реки Сан и в Восточной Пруссии (группы армий «Центр» и «Север») с основным направлением действий Белосток, Барановичи, Минск, Смоленск, Москва. Это привело к тому, что 16-ю и 19-ю армии Юго-Западного фронта после начала войны пришлось срочно перебрасывать эшелонами в район Смоленска и прямо с колес бросать в бой в крайне неблагоприятных условиях. Своевременное и скрытое развертывание этих, а также 21-й и 22-й армий на выгодных в оперативном отношении рубежах могло бы серьезно повлиять на ход боевых действий. Можно, конечно, допустить, что они были бы разбиты, но эти армии в любом случае задержали бы немцев далеко от Москвы. Это позволило бы подготовить стратегические резервы, выдвинуть их на нужные направления с целью как обороны, так и наступления. Чтобы хоть в какой-то степени объяснить причину принимаемых руководителями СССР решений, скажу, что в ходе разработки операции «Барбаросса» Гитлер действительно ставил перед генштабистами задачу подготовить два удара: главный – в направлении на Киев, вспомогательный – на Ленинград. Только после того, как немецкие войска овладеют Киевом и Ленинградом, предполагалось ударить по сходящимся направлениям из района Харькова – Воронежа и от Ленинграда на Москву. Часть сил при этом выделялась для проведения наступательной операции на Кавказ.
Подобный план войны с Советским Союзом был разработан бывшим начальником штаба группы армий «А» во Франции генерал-лейтенантом Зоденштерном. Только к концу ноября – началу декабря 1940 года возник вариант иного плана, в котором предусматривались три одновременных удара на Москву, Ленинград и Киев, причем московское направление было признано главным во всей операции. В этой связи, как признает Г. К. Жуков, одним из наших крупнейших стратегических просчетов была переоценка Юго-Западного и недооценка Белорусского направления агрессии, выводящего противника кратчайшим путем к Москве.[54]54
Жуков Г. Указ, соч., с. 332.
[Закрыть]
Анализируя исход начального периода войны и почти всего 1941 года, можно найти и другие ошибки, заложенные еще в довоенный оперативный план. Но они менее весомы, чем указанные в данном разделе, или относятся к другим направлениям деятельности высшего командования Вооруженных Сил. Конечно, сейчас, когда от начала Великой Отечественной нас отделяет более полувека, ошибки эти видны нам весьма четко. В мае 1941 года увидеть их, а тем более исправить, было неизмеримо труднее. Порой людям в считанные часы приходилось принимать буквально исторические решения, хотя сложная, а то и просто неизвестная обстановка этому никак не благоприятствовала. Нельзя забывать и о тяжкой ответственности, лежащей на политическом и военном руководстве, за судьбу Отечества. Как никогда, в то время полководцам необходимо было обладать отличительными для их сферы деятельности качествами характера и таланта.
Г. К. Жуков по этому поводу писал:
«Нет ничего проще, чем, когда уже известны все последствия, возвращаться к началу событий и давать различного рода оценки. И нет ничего сложнее, чем разобраться во всей совокупности вопросов, во всем противоборстве сил, противопоставлении различных мнений, сведений и фактов непосредственно в данный исторический момент. Историкам, исследующим причины неудач вооруженной борьбы с Германией в первом периоде войны, придется тщательно разобраться в этих вопросах, чтобы правдиво объяснить истинные причины, вследствие которых советский народ и страна понесли столь тяжелые потери».[55]55
Там же, с. 350.
[Закрыть]
Добавлю: изучать опыт, накопленный за годы Великой Отечественной войны, нужно еще и затем, чтобы сейчас не повторить ошибок полувековой давности, использовать его в деле реформирования Вооруженных Сил России, в процессе принятия ее военной доктрины.