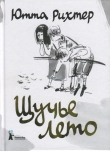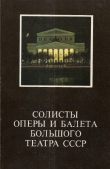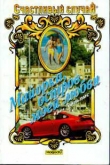Текст книги "По направлению к Рихтеру"
Автор книги: Юрий Борисов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
Нет, все это недостижимо! Сам Стравинский, призывая к объективности, вдруг начинает клеймить Вагнера. И все портит А Дебюсси называл Бетховена варваром. Это и не субъективно, и не объективно – это просто распущенность. Прокофьеву не давал покоя Рахманинов. Рахманинова все пинают, дошли до того, что говорят: «Ну, этот… из прошлого века…» Стравинский вспоминает, что носил Рахманинову мед – больше ему сказать о нем нечего!
Клоунство Стравинского вышло из балагана, из его «Петрушки». Кажется, он сам это признает.
Пробует читать из «Балаганчика», но забывает
«И ты узнаешь, что я безлик… тра-та-та… твой черный двойник!»
[114]
Помните фотографию Стравинского в черных очках? Или как Чаплин в Голливуде его раскачивает на цирковом колесе? А с Хиндемитом? Хиндемит в «тройке», все «comme il faut», Стравинский – в галстуке и бриджах! Как клоун. Ему это идет!
Только он мог столько намешать в «Персефоне» [115]– мимы, чтица, детский хор… но полное ощущение, что ты в Аиде.
Это же самая большая мечта: какую-то часть года проводить на земле, проглотить зернышко граната и провалиться в царство мертвых. На каникулы… Я видел одну современную постановку, где опускались на лифте в окружении шахтеров.
Адонис там проводил треть года. Я бы с тетей Мери сочинял сказки. И с удовольствием работал бы посыльным. Генрих Густавович делал бы через меня наставления ученикам…
Наверное, идеальная оперная форма – в «Эдипе» [116]. Котурны, обезличенный хор, капюшоны… Когда Стравинский сочинял арию Эдипа, он уже видел китайскую маску
Самая впечатляющая маска – Черта! Опасная! Смотрите, и в «Истории солдата», и в «Потопе», и в «Rakes Progress» [117]. Там по-настоящему испытываешь дрожь. Сцена на кладбище – продолжение пушкинской «Пиковой дамы» [118]. Последний аккорд перед эпилогом – как последняя песчинка на песочных часах. Это действует на меня также сильно, как «Взгляд Тристана» или скрябинское «en délire» (в исступлении) [119].
А теноровая ария и «последующий Моцарт» в E-dur'e [120]? Как могло прийти в голову поместить эту музыку в бордель? Постановка, игра артистов – все тогда должно быть на уровне Пикассо, его эротических рисунков.
Я бы хотел сыграть двухрояльный концерт (проблема – с кем?) [121]. Стравинскому хорошо – он заказал «Плейелю» двойную клавиатуру в форме ящика. А мне что делать? Могу записать обе партии в студии – их потом совместят. Теперь техника все позволяет… Но я никогда не пойду на это – ансамбли написаны для живых музыкантов, а не для мертвых… Вот когда отправлюсь тудана каникулы (указывает пальцем на пол)…
У вас в комнате все как я люблю – вообще без мебели. Так было и у японцев, пока не пришли «наши». Матрацы на циновках из рисовой соломы – самое удобное. В одной из своих прошлых жизней я точно был самураем!
Снова подходит к открытому окну – я держу его за руку, не подпускаю.
А вид из окна ничем не поправишь. Такой же был у нас с Ниной Львовной, когда мы жили на Левитана [122]. Я ведь запечатлел… «Двор на улице Левитана» я вам презентую [123]. Может, это и не в вашем вкусе… не бог весть что… но память о том, как я пришел к вам с печенкой, останется.
XV. «Скиталец»
План прогулки был составлен заранее: от Яузских ворот до Арбатских – и дальше по арбатским переулкам.
– Это не самый трудный маршрут – вы не устанете. Потом я покажу несколько важных для меня скамеек, я там часто назначал встречи – на Покровском, на Чистопрудном… Не подвела бы погода. Яузский бульвар – самое любимое место. Здесь никто никогда не найдет. Я удивлен, почему его не приметил Булгаков. Тут от Москвы как будто отрезан.
До Арбата мы шли полдня. Скамеек оказалось семь. На каждой сидели минут по пятнадцать, молчали.
– Расскажите, что с ними связано? – допытывался я, усаживаясь на скамейку в самом центре Страстного бульвара.
Вместо ответа Святослав Теофилович натягивал кепку на самые брови, поднимал воротник, съеживался. Оказывается, мимо проходил «нежелательный человек». Ближе к Арбату я все-таки разговорил его.
Ну, что за вопрос… Что это значит – самое любимое сочинение? Я – странник, странствую по сонатам, экспромтам. Из одного века в другой. От Баха… опять к Баху. Но, представьте, именно поэтому у меня и есть самое любимое сочинение.Угадайте с трех раз. Нет, не Тридцать вторая. Я в каком-то смысле даже больше ранние сонаты люблю… Нет, не Восьмая Прокофьева. Нет, не Скрябин – хотя Пятая соната – это уже горячо… Это – шубертовский «Wanderer», моя путеводная звезда. Я боготворю эту музыку и, кажется, не так сильно ее испортил.
Для человека на земле – это главная тема. Он здесь странник, ощупью ищет Обетованную Землю. Когда ему светит звезда – он идет, когда он ее теряет – то останавливается.
Останавливаемся на улице Воеводина, у дома 8/1.
Хороший дом… Раньше это был Малый Толстовский переулок Скрябин здесь пожил недолго. У него случилось то же, что и у меня. Этажом ниже жил Владимир Маркусов – он занимался у Игумнова. Очень прилежный пианист. Скрябин пытался установить время для занятий, двигал рояль из одной комнаты в другую – ничего не помогало. И тогда он отсюда съехал.
У Шуберта есть еще песня «Скиталец». Вы помните, как это звучало у Фишера-Дискау: «Не прерывай своего движения. Будь добрым, но будь одиноким».
Не понимаю, как можно сидеть на одном месте? Мы все были «закрыты», но ведь можно было идти по окружной дороге, вокруг Москвы! Лишь бы идти! Там же нет «железного занавеса». Я два раза так обошел Москву. Однажды зашел в лес и ждал ту самую птичку [124]… Как Зигфрид из тростинки пытался сделать свирель. Ничего не вышло. И на свист она не прилетела. Разбудил только какого-то пьяницу. С топором.
Я долго не понимал, почему Вотан у Вагнера превращается в Странника, откуда это жизнеотрицание? Что за противодействие самому себе?
Человек проходит такой путь: от борьбы – к отрицанию, к погружению в себя. Я – не исключение. Уже погружаюсь.
Поначалу ковка меча, удары по наковальне, к концу – удаление на свою Валгаллу [125].
Знаете, как я играл «Аппассионату» в Нью-Йорке? У-жа-са-ю-ще! Мне казалось, что я – Прометей, несу американцам огонь, чтобы выжечь под ними землю. Так составил программу, чтобы начать с Бетховена, а закончить Пятой сонатой Скрябина. Но им этого ничего не нужно, хотя я все равно доволен, что там играл. Я же – странник!
Еще одна остановка на улице Луначарского, 8.
Вам нравится этот дом? Здесь было музыкальное издательство и принадлежало С. Кусевицкому. Он ведь дирижировал премьерой «Прометея»!
Меня склоняли играть «Прометея» со светом [126]. И я бы, конечно, играл… Только мне непонятно, почему тональность C-dur красная? Якобы и Пифагор так считал. Но ведь C-dur совершенно белый! По Римскому-Корсакову тоже белый. Этот цвет хорош тем, что принимает, впитывает любые оттенки. И тень на белом самая устрашающая!
C-dur'ный этюд Шопена – белый. Я его около двухсот раз сыграл. Ослепительный этюд – от силы белого почти слепнешь. С-dur'ная, Третья соната Бетховена – черно-белая, гравюра на металле!
На чистый холст наносится розовая, голубая краски, с каждым проведением темы краски расцвечиваются, смешиваются. Это – финал C-dur'ной «Авроры». Я ее не играю только потому, что она уже сыграна.Сыграна Нейгаузом. Сыграны и е-moll'ный концерт и h-moll'ная соната Шопена, и «Крейслериана» Шумана. Им же. Лучше не сыграть.
Юдина так сыграла А-dur'ный (Двадцать третий) концерт Моцарта, В-dur'ный экспромт Шуберта, что после нее не хочется. И после A-dur'ного интермеццо Брамса – все будет неловко.
После Софроницкого можно забыть о fis-moll'ном полонезе, о g-moll'ной прелюдии Шопена, о Третьей, Восьмой, Десятой сонатах Скрябина.
Гилельс так «отгрохал» d-moll'ный концерт Брамса, что эту тему я для себя закрыл.
За Гавриловым – «Скарбо», «Исламей», «Ромео и Джульетта перед разлукой» [127], но главное – Третий концерт Рахманинова.
В этом списке не хватает Гульда, но я его нарочно «забыл» – он везде допускал нарушения: игнорировал повторы. Вот в d-moll'ной фантазии Моцарта повторов нет, и сразу какой результат! Хотя я бы эту фантазию все равно не играл!
Надо сказать всем, чтобы к этим сочинениям не прикасались лет двадцать пять! Ноты выдавать только музыковедам.
Теперь останавливаемся у ресторана «Прага».
Знаете, как раньше его называли – «Брага»! Знаменательное место. Ольга Леонардовна рассказывала, что Чехов здесь отмечал премьеру «Трех сестер». Скрябин праздновал исполнение «Прометея».
(Разглядывает небо).Облака! В точности как у Листа – серые [128]. Скрябин ввел в партитуру «Прометея» «стальной цвет с металлическим блеском». Что-то похожее…
Я не очень верю в скрябинское «Luce». Для меня, например, Es-dur – красный. Но, сколько Es-dur'ных сочинений, столько и новых оттенков. Давайте будем перебирать: алый, рубиновый, пурпурный, яхонтовый, пунцовый, багряный, малиновый, как мак, как грудка у снегиря…
У Дома-музея Скрябина, на Николопесковском.
Это последнее его пристанище. Сюда приходили и Бердяев, и Алиса Коонен…
Для меня в Скрябине важно, что он тоже странник. Много играл и в Европе, и в России. Ему нравилось в Лондоне – я его понимаю. Один из родственников Генри Вуда рассказывал [129], что, расплачиваясь, Скрябин обязательно одевал перчатки. Англичане находили в этом аристократизм, а на самом деле – обыкновенная мнительность. Скрябин всего боялся… и заражения тоже. Кто чего боится…
Говорят, он мужественно переносил операции. Ему изрезали все лицо, но не спасли.
У меня был случай в Польше – пренеприятный. Авария. Голова разбита, много потерял крови. За два часа до концерта надо накладывать швы. Меня уговаривали на операцию под наркозом, чтобы потом отменить концерт. Перенести. Но я настоял, чтобы швы наложили без наркоза. С мыслью: все! доездился! – я отключился. Был без сознания. Первое, что спросил, когда очнулся: «Что я сегодня играю?» Мне ответили: «Прелюдии и фуги Шостаковича». И я опять в обморок! Потом на меня нацепили тюбетейку, и я играл.
И Шуберт, и Скрябин мало постранствовали. А я все мечусь – по двум направлениям. По направлению к Свану – там все такое чувственное, с грехом пополам. Или к Германтам – там «чистая духовность» и… сны [130]!
Хотите, расскажу вчерашний сон? Только не упадите в обморок! Это все ваш Андерсен… У него есть такая «сказочка» – про красные башмачки [131]. Одна девочка их никогда не снимала и появлялась в самых неподходящих местах. Ей все делали замечания, а она от восторга начинала танцевать. Затанцевалась и не смогла остановиться. Тогда девочка обратилась к дровосеку и он отрубил ей ножки вместе с этими башмачками. Девочка, счастливая, заковыляла на костылях в церковь, а башмачки так и продолжали танцевать – по всему белу свету. Я все это прочитал на ночь… и вот, что потом увидел.
Я без остановки барабаню пальцами.
У пианистов есть такая привычка, хотя я за собой ее не замечал. Барабаню по окнам, за обеденным столом, потом в церкви на усыпальнице. Это вызывает раздражение окружающих. Папа глядит с портрета с угрожающим видом. Барабаню на церемонии по поводу вручения чего-то. Стучу по чьей-то важной лысине. Меня просят научиться себя вести и лишают важной премии. На улице я уже размахиваю, дирижирую – как Штраус своими польками. Срываю шляпы, сбиваю прохожих…
Мне навстречу – однорукий пианист Пауль Виттгенштейн. Для него писали леворучные концерты и Равель, и Прокофьев. Он предлагает отвести к одному знакомому палачу. Я еще успел подумать, какое это будет облегчение, и поцеловал единственную руку Виттгенштейна… И, конечно, проснулся.
Сразу этого Андерсена с глаз долой! А когда успокоился, решил, что это хороший был сон. Представляете, я уже истлею, а руки мои могли бы играть! Прибегут к вам, поиграют вашего любимого Франка. Вы успокоитесь, меня вспомните. Потом постучатся к Тутику, к Олегу с Наташей… Это же лучше – живые руки… чем гипсовые! У Рахманинова с них сделали слепки – а что в них толку? Слепки играть не будут!
XVI. Я проглотил колокол
Это продолжение начатой прогулки. Только теперь в направлении Новодевичьего.
– Зачем вам кладбище? Туда не пускают без пропуска. Лучше узнайте, в каком кинотеатре идет «Медея» Пазолини.
– Но вы обещали показать могилы Нейгауза, Софроницкого… – Хорошо, если нет «Медеи», пойдемте на «Бесприданницу».
– И «Бесприданницы» нет. Есть дневной концерт в консерватории. Пианист N играет «Патетическую», «Лунную», «Пасторальную», «Аппассионату».
– Хорошо, тогда лучше на кладбище…
И вот мы у ворот Новодевичьего… Покупая розы, Святослав Теофилович долго «прикидывал», сколько их потребуется:
– Семь – это мое число! Пусть будет три раза по семь! И еще одну розу…
– Это для кого?
– Как для кого? Для того пианиста!
Вы что-нибудь понимаете в снах? В какой-то момент я их начал запоминать. Представляете, даже открыл Фрейда. Один сон у него мне понравился. Девушка шла через зал и разбила голову о люстру. Люстра низко висела. Толкование такое: у нее скоро выпадут волосы. Я сразу закрыл Фрейда и понял, что все толкования – это только толкования.
У меня сны напрямую связаны с музыкой, которую я играю. За всю жизнь, наверное, запомнил столько же снов, сколько сыграл сочинений.
Когда бился над этюдом-картиной Рахманинова, увидел себя, глотающим колокол. У того сна была даже тональность – c-moll. [132]
На концерте все разъяснилось. Я запутался в самом конце этюда, там, где начинается перезвон. С тех пор я редко играю этот этюд в концертах, а сны стараюсь запоминать.
Самый красивый перезвон в Ростове! Там есть легенда про большой колокол, звонивший в миноре. Это угнетало митрополита, ему казалось, что в него вселяются бесы. Тогда он приказал снять колокол и поменять лад на мажорный.
Так ведь и Скрябин. Я специально играю прелюдию ор. 51 № 2 – это его последняя вещь в миноре. Учтите – еще не написана Пятая соната!
(Останавливаемся у скрябинского белого мрамора.)
Памятник хороший, но лучше всего надпись: СКРЯБИН. Без комментариев. Наверное, он уже понял, что его указание: «с небесным сладострастием» тут неисполнимо. Вот на их клавиатуре, небесной…
Там, наконец, можно достичь pianissimo – тишайшее. Чтобы в «Бабочках» шум карнавальной ночи действительно у-га-сал. А «Террасу» можно сыграть так, что французы не скажут: тихо [133]. Я и так грохочу, а ведь надо «presque plus rien», то есть «почти исчезая».
(У памятника Нейгаузу).Этому и учил Генрих Густавович, когда я проходил с ним Тридцать первую сонату. Он показал мне эскиз Иванова «Архангел Гавриил поражает Захария немотою» [134]. Adagio – мысль, состояние, которое нужно передать любым способом, только не словами. Я посылаю вам нотную строчку – она вам заменяет слова. Вы получили мою открытку с Равелем?.. [135]«Человек открывает рот от пустоты, от того, что в этот момент его оставляет Бог», – не помню, кто это сказал.
Вам нравится эта крышка? Она означает: жил пианист Нейгауз. Его дом был – рояль. Но ведь Нейгауз был больше, чем пианист. Он вынимал из тебя душу, проводил над ней опыты. а потом возвращал – обогащенную, красивую.
Кому-то роют свежую могилу. Рихтер долго наблюдает, а могильщик напевает свою песню. «Знаете, что он поет? – спрашивает Рихтер. – Вот и я не знаю… Это как в «Гамлете»: привычка сделала для него это копание самым простым делом».
Помните, мы с Фишером-Дискау исполняли песню «Тоска могильщика»? Он переходил на такое pianissimo, не снимая с дыхания. Я уже не знал, как утопить звук (напевает Шуберта).«Пробьет мой час и кто же зароет меня?»
Зарыть желающие найдутся… даже с удовольствием. Вот кто потом ходить будет? Знаю – Наташа Журавлева, чуть реже – Олег… А вы снизойдете? Только заклинаю: одну белую розу, длинную. Никаких гладиолусов. Если гладиолусы, то фиолетовые.
И еще вам придется учиться меня вызывать. Вспомните, как Зигфрид вызывал птичку (поет).

Это нетрудно запомнить. Я буду знать, что вы пришли.
(У памятника Фаворскому).Хочется постоять здесь подольше. Я благодарен ему за такого Достоевского, такую Юдину [136]. И памятник замечательный: от него светлеет.
Самое лучшее в памятнике Дягилеву – то, что он на острове. Какая хорошая мысль: «Нет человека, который был бы как остров…» Я недолюбливаю этого писателя [137], но эпиграф он подобрал самый лучший. Все интермеццо Брамса рассыпаны как маленькие острова. Санторин – самый красивый, хотя ведь он – кратер! Там каждое утро солнечное затмение и черный песок… Это и-moll'ное интермеццо. Маленький Миконос чем-то похож на Венецию [138]и такой же опасный. Это – е-moll'ное интермеццо. Уже светает, но все только расходятся спать…
Знаете, что рассказывал Александр Георгиевич Габричевский [139]? У греков было принято в гробницы запечатывать лампы. Уже изобрели вечное топливо, и лампа могла гореть несколько веков. Все верили, что усопшие как-нибудь да ей воспользуются. Теперь вам понятно, почему я вожусь со своей лампой?
(У плиты Софроницкого).Здравствуй, Владимир Владимирович!.. Кому-то незадолго до смерти он признался, что больше всего гордится Восьмой сонатой. Самая недоступная, самая мистическая… Полночное солнце! Там есть такое Presto – один его лучик вдруг касается земли… Это правда, что когда Гаврилов играл Восьмую сонату Скрябина, то гасил в Большом зале свет? Хорошо написано у Пруста: «Не нужно никакого света! Пусть играет «Лунную сонату» в темноте, и тогда луна будет освещать ему клавиши!»
Полночное солнце… Это могли только Скрябин и Софроницкий! Интересно, как они между собой сейчас общаются? Так, как написал Мусоргский – «с мертвыми на мертвом языке…» [140]? Давайте послушаем. Вы чтонибудь слышите? Я – ничего. У меня ощущение, что там – пустота. Там никого нет. Они – везде, но только не здесь.
Я Ветхому Завету больше доверяю, чем Новому. Наверное, потому что весь прочитал… и он мне часто снился. Про Авраама и Исаака был очень похожий сон… Знаете, что не только у Бриттена есть музыка на этот сюжет? Но и у Стравинского [141]… Тут что-то заложено, какая-то важная тайна. Уже одно то, что Сарра родила Исаака, когда Аврааму было сто лет…
Пошел моросящий дождь и Рихтер ему обрадовался. Отказался от зонта. Начал напевать что-то знакомое.
«Drei Knäbchen, jung, schön…» [142]Помните, какая там фактура? Мелкого, грибного дождя… Вот к моцартовской могиле не подойти. Стоит в Вене памятник – но это же так… символически… Наверное, это лучше всего – чтобы вообще никаких следов.
Сейчас бы хорошо какую-нибудь закусочную. У вас есть деньги? Если повернуть на Плющиху, там что-то вроде рюмочной. После кладбища всегда хочется…
Знаете, что больше всего убивает? Mania grandioso и… отрубленные головы. Я этого не понимаю. Это только на наших кладбищах.
Удобно в Японии. В любом питейном заведении можно допить недопитое. Мы бы сейчас заплатили за бутылку, а выпили только сто граммов. Остальное хранится до следующего раза. Под фамилией Рихтер или фамилией Борисов. На специальной полочке.
В Японии в нескольких местах я завел свои емкости Они меня всегда дожидаются… Но многие японцы к ним так не притронутся – оставляют для внуков. Им важно, чтоб внуки узнали, как звали их дедушек.
XVII. Семь обрядов
Еще на первых «Декабрьских вечерах» Святослав Теофилович обмолвился: «А ведь в Белом зале можно не только выставки устраивать, не только концерты… Надо подумать и об опере. У меня в Туре бриттеновские притчи имели успех».
К этой теме он вернулся на моем спектакле в Камерном театре. В тот вечер шла и баллада Бриттена «The Golden Vanity» (наше название – «Игра на воде»). Она написана для хора мальчиков и рояля, и поэтому больше всех волновался наш пианист Его по очереди поздравляли Святослав Рихтер, Юстус Франц и Кристоф Эшенбах, которые явились все вместе и, кажется, были довольны.
В перерыве Рихтер произнес значимую для меня фразу: «Так что – Бриттен?»
В то время я узнал, что в Париже поставили новую, неизвестную оперу Дебюсси «Падение дома Ашеров» [143] . Я был уверен, что сплав Дебюсси с Эдгаром По даст миру оперу эпохальную, и ее нужно немедленно ставить на «Декабрьских вечерах». Святослава Теофиловича уговаривать не пришлось, но партитура доставалась им долго. Наконец, «Трещина» – как он называл эту оперу – лежала у него на рояле.
Он «пропел» ее три раза и сделал неутешительные выводы:
Первое и главное:эта опера не окончена, а кто к ней приложил руку – неизвестно. Ставить (так же, как и играть) компиляции, обработки – я не стану
Второе:Оркестр у Дебюсси большой. Это для нас сложность.
Третье:Как сделать «трещину» – чтобы дом Ашеров раскололся пополам – я не знаю. Какие нужны средства…
Так мы вернулись к идее поставить Бриттена – и я предложил тогда «Поворот винта». Рихтер, конечно, знал эту оперу и… сразу зажегся. Ее преимущество очевидно – опера камерна, небольшой оркестр, несколько солистов… Но главное – эта опера без преувеличения гениальна, одна из красивейших партитур Бриттена. Рихтер думал одну минуту: «Да, да, да!!! (потом пауза). Но сначала – «Альберт Херринг»! Фестиваль должен открыться чем-то зажигательным, свежим. Чтобы все поняли, что такое английский юмор».
С этого момента началось мое «вхождение в Бриттена». Слушались не только оперы, но и «Военный реквием», и кантиклы, и фортепьянный концерт в исполнении самого Рихтера.
Однажды я принес довольно заигранную пластинку с «Обрядом Кэрол» [144] – очень ранним сочинением Бриттена. Ни с какой такой целью, просто мне нравилась музыка…
Я послушал «ваши» обряды… и мне тоже понравилось. И музыка, и как это построено: начало повторяет конец. У него и в притчах тот же прием: арка! Первый обряд – «Процессия», последний – «Уход». Начинается с того, что тебя несут в этот мир… Все плачут от счастья. Никто не задумывается, когородили. Важно, что родили.
Я как-то сказал Нине Львовне: «Хочу, чтобы у нас был ребенок!» Я и вправду хотел. «Но, Ниночка, постарайтесь сделать так, чтобы ему сразу было девять лет! Какое мученье – так долго расти и умнеть!»
В обрядах – вся жизнь. Это заманчиво. Сколько их должно быть – может быть, тридцать два – как сонат у Бетховена? В любом случае, с первым обрядом, как и с последним, все ясно. Идем дальше.
Второй обряд:оформление сна.
Собственно, толкованием снов человек и занят. Вопрос, станет ли он ясновидцем, как и Иосиф? Кажется, сны видела Вера Павловна, и «Бег» – пьеса Булгакова – сделана как бесконечные сны [145]. Все самое интересное происходит во сне. Хотите еще один – знаменательный!
Я готовился к Всесоюзному конкурсу и решил за два дня выучить «Дикую охоту» Листа.
Все время перед глазами рубенсовская «Битва Амазонок»… Занимался часов по десять, совсем не помню, как засыпал – от усталости просто «валился»… И вот – передо мной комиссия, целиком из женщин. Собирается принимать экзамены по военному делу. Это тогда был главный предмет, а я по нему не в зуб ногой. Комиссия была весьма недовольна. Председательша явилась с иллюстраций к «Лисистрате» Бердслея [146]– обнаженная, в длинном парике, черных чулках. Протянула свечу и приказала выжечь левую грудь у молоденькой амазонки. «Это так нужно, чтобы удобней владеть луком», – пояснила председательша. Я должен был подчиниться, в противном случае они бы что-нибудь выжгли мне… Тут я и рассмотрел лицо молодой амазонки – это была точь-в-точь одна известная пианистка. От страха я выронил свечу, начался пожар… и я проснулся.
«Дикую охоту» играл во втором туре. И уже в самом начале погас свет. Я продолжал играть, но слышал, как все вокруг копошатся. Они искали свечу, поставили ее на пюпитр – и она тут же провалилась в рояль. Запахло паленым. Меня это все подзадорило, и я чистенько закончил этюд – почти что впотьмах. Только после этого прибежали пожарные…
«Оформление сна» или «Сон оформляется» – скрябинская ремарка в Шестой сонате. Это именно сон, потому что французское «le rêve» можно перевести как «сон» и как «мечта».
В Шестой сонате погружение в сон почти молниеносно, смена состояний не ощутима. Такой сон бывает у детей и при высокой температуре.
Побочные партии в Шестой и Седьмой сонатах чем-то похожи, но в Седьмой – это уже не сон, а бессонница. Тяжелая голова, которая не отключается. Лежа в темной комнате, ты видишь, как светится лоб – твой мозг работает! Несколько часов ворочаешься и идешь к Нине Львовне за снотворным.
Третий обряд:служение Вагнеру.
Это, конечно, от папы. Я смотрел «Песни без слов» Мендельсона, а он поставил передо мной дуэт Эльзы и Ортруды. «Вот самая лучшая музыка», – сказал папа, и мы стали играть в четыре руки.
«Лоэнгрин» еще долго был «лучшей музыкой». Чуть позже я выучил «Смерть Изольды» и играл ее в Одессе [147]. Не мог избавиться от ощущения, что на рояле, как ни крути, получается патока. То ли дело в оркестре…
В «Траурном марше» из «Гибели богов» совсем не звучала литавра. Сыграл этот марш в немецком консульстве, когда умер Гинденбург, и тогда же решил: с транскрипциями покончено! Убежал из консульства прямо в театр, где вечером шла «Раймонда». Вы не представляете, с каким облегчением я играл свою вариацию в III-ем акте!
Вагнера ставить тяжело. У Патриса Шеро «Кольцо» получилось на грани [148]. Все-таки очень скандально… Но очень талантливо.
Надо достичь эффекта кино – чтобы из скалы вырывался настоящий сноп искр. Как это сделать? Вагнер должен быть понятен также, как «Гамлет», – каждое слово. У всех убеждение, что это – сказка, а ведь «Валькирия» – реальная картина, как все здесь кончится. Прежде, чем мы погрузимся в сон, Вотан так простится с каждым из нас – так доверительно. И потом уже воспылает огненное озеро.
Вагнер точнее и поэтичнее Иоанна Богослова. Но все будут зачитываться Апокалипсисом, а про настоящую поэзию забудут.
Самого Вагнера я видел только раз. Все происходило в Голубом гроте. Я был Тангейзером, а Дитрих – Венерой. Конечно, в костюмах Бердслея. За столом, сделанном из сталактитов, Вагнер обедал, а мы должны были развлекать. Что-то ему в моей игре не понравилось, хотя я из кожи лез, чтобы понравиться. Меня в наказание перевели в машинное отделение – я должен был вращать какие-то ручки – освещать грот, приводить в волнение озеро. Но тут я что-то напутал – температура воды упала, и озеро покрылось коркой. Тогда я услышал голос Вагнера. «Он очень виноват! Отправьте его пешком в Рим – чтобы он искупил грехи!»
Это было в 1962-ом году – я собирался на гастроли в Италию. Сон не был вещим – я не так много напутал и даже имел в Риме успех. Но вину перед Вагнером не искупил до сих пор – не продирижировал ни одной его оперой!
Четвертый обряд:построение круга. Первый концерт в Италии – Флоренция. Начинаю с Пятой сюиты Генделя, но «ария с вариациями» еще совершенно сырая. Вместо того, чтобы идти доучивать, – впитываю все, впитываю симметрию!Почти что падаю с ног. Останавливаюсь у каждого собора, изучаю купола. В Ватикане тайком взбираюсь по круглой лестнице, как только узнаю, что архитектор – Браманте. Хотел проверить, прав ли Нейгауз насчет моего черепа. Он, конечно, польстил.
Италия и Греция – самые любимые страны (Россию, конечно, в расчет не беру). После них – Франция, Чехословакия, Япония. Австрия – совершенно особенная. Готов играть там в любом месте – где остановится машина.
Америка – самая нелюбимая. Даже ваш захолустный, малокультурный Борисов – и тот лучше, чем Чикаго [149]. Я ведь в Борисове из интереса играл… но больше не буду, все-таки не самое приятное место.
Конечно, американцы памятник Колумбу не раскусили [150]. Не по зубам. Или не захотели раскусить – ведь не они придумали! Мельников разрушил симметрию и… создал свою. Его дом в Кривоарбатском – абсолютный шедевр, но я бы в нем не хотел жить. Это нескромно.
Фальк посвящал меня в очень высокие материи, что идеально правильное движение есть движение круговое, и что даже небо движется по кругу. «То, что находится под этим кругом, – это внутренность собора. Ты представь себя на вершине купола, то есть в центре круга, только тогда ты построишь фугу», – учил меня Фальк.
Но я никогда не ставлю себя в центр круга – потому что боюсь попасть в замкнутый круг, заколдованный. Помолодости я попадал, потом меня оттуда еле вытягивали. Но иногда мне кажется, что я все там и пребываю – в самом что ни на есть замкнутом.
Лучше поставить кого-нибудь другого, хоть бы и вас. Я должен видеть со стороны… Хорошо, пусть не вас, пусть себя… но не себя сегодняшнего – своего двойника, тень. Сейчас все чаще приходит эта мысль – поговорить с тем, кому двадцать шесть. Но он не отвечает… или не хочет отвечать – куда-то летит, скачет по поверхности.
Пятый обряд:исчезновение
Первый раз это по-настоящему получилось в квинтете Брамса, потом уже в концерте Чайковского с Караяном. С ним это было легко – он в любой ситуации потянет одеяло на себя.
Караяну нравилось, как я играл переход от Maestoso к главной партии. Там есть такие тихие двойные ноты… Обычно их играют колюче, звонко. «Слава, вы как молодая курочка клюете зернышки», – засмеялся Караян, чем вызвал соответствующую реакцию у господ. Но ему действительно нравилось, потому что открывалась тема у первых скрипок и виолончелей
Вспомните начало разработки. Перед этим – ускользающие пассажи у рояля, я должен в них совершенно испариться. Если бы около меня была лампа, я бы ее погасил. Струнным надо начинать в темноте.
Караян доказал, что это «симфония-концерт», и я как мог ему помогал. Даже в каденции не должно быть звонкого рояля! В «Quasi Adagio» нет бенгальских огней! Здесь техника, похожая на пуантилизм в живописи. Вспомните Сера! Изображение наносится небольшими точками из чистых красок. Получается мерцающий, вибрирующий свет. Что-то похожее на «Воскресный день в Гранд-Жатт» [151](не забывайте, это – Чайковский, и такая изысканная манера очень даже в его стиле).
С Давидом Федоровичем всегда было интересно [152]. Ни с кем не было так интересно. Он умел исчезать для меня, я умел для него. Иногда исчезали вместе (в Первой части сонаты Шостаковича, даже в бетховенских сонатах!). Но в сонате Франка не все ладилось. Ему казалось, что это – салон, а я знал, что это прустовский Вентейль. Ведь прообраз Вентейля – Дебюсси. «Вот и хорошо – переходил в наступление Ойстрах. – Дебюсси все время бегал в «Черную кошку», по барам, где выступали всякие клоунессы» [153].
Наверное, у Давида Федоровича на Пруста не было времени. А вы читали Пруста? Я ведь просил – в день по странице!!! Помните впечатление Свана от сонаты? Струйка скрипки, sine materia [154]. Вот это и нужно в Первой части Франка. Вторая часть – слух, что Вентейлю грозит умопомешательство. С этого момента у нас с Ойстрахом все пошло…
Вам ведь нравятся наши «смычковые братья»? Олег и Витя – ангелы. Потому что у них инструмент такой. У Олега скрипка звучит как сопрано, у Вити – как контральто. Наташа и Юра – демоны, которых погрузили в святую воду [155]… Мне кажется, в Es-dur'ном квартете Моцарта мы чего-то достигли. И чему я больше всего рад – во второй части.