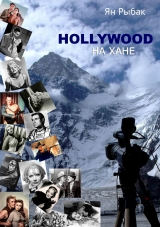
Текст книги "Hollywood на Хане (СИ)"
Автор книги: Ян Рыбак
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
О грустном
Я с удивлением замечаю, что занимаясь в своей обычной жизни в некотором роде программированием, я и тут, в процессе написания этого рассказа, создаю вложенные циклы: рассказ о дне нашего первого выхода на гору вызвал к жизни, через Лёшины пузыри, рассказ о Крассимире, а рассказ о Красимире побудил меня к поясняющим замечаниям о моём месте в современном кинематографе. Затем, как бы дойдя уже до самого дна и всплывая на поверхность, я прошёл весь путь в обратном направлении и вернулся, таким образом, в тот день, когда, спустившись с горы, мы сидели в столовой в ожидании пищи: я в радостном настроении, а Лёша в озабоченном.
Круглолицая девушка с глазами недавно одомашненного бельчонка приносит нам пирог, фаршированный яйцом и мясом, рядом с которым красуются горка капусты и несколько полосок говядины, и всё это приправлено ароматным кисловатым соусом а-ля Корея. Девушек на кухне три, и я старательно заучиваю непривычные имена Назгуль и Асель. Таблички с именами приколоты у девушек на груди, и это – одно из нововведений, замеченных мною в этот прилёт. Третью девушку звали Аней, что не потребовало от меня никаких специальных усилий по запоминанию. Вообще же, я с удовлетворением отметил, что в хозяйстве Казбека Валиева мало что изменилось, несмотря на полную смену персонала в Каркаре и в базовом лагере. Новые девушки ничуть не менее приветливы, чем те, которые кормили нас тут четыре года назад: «приятногоаппетитакушайтеназдоровьенехотителидобавку?!..» Более того, у них появился даже некоторый профессиональный лоск: они прогуливаются меж столами с грацией моделей на подиуме и загадочно улыбаются, – носики чуть вверх и в сторону, но не заносчиво, а слегка игриво. Не знаю, где они этому научились, – плод ли это всепроникающей глобализации, заносящей головоногую топ-модель в сакли самых отдалённых аулов, или же девушки были отправлены на курсы актрис и стюардесс перед заброской вертолётом в тьму-таракань, в ледниковый период.
Разделавшись с пирогом, я попиваю чай, раздевая одну за другой маленькие разноцветные карамельки, и разглядываю окружающих. Напротив моего стола, через проход, сидит команда иранцев, одетая во всё оранжевое. Они остро интересуют меня, как представители государства, глубоко враждебного моему собственному. Характер этой вражды настолько иррационален и лишен каких-либо видимых причин, что ставит в тупик даже меня, который обычно с лёгкостью объясняет всё что угодно, а в случае, если ситуация сменяется на противоположную, то и противоположное с той же лёгкостью… Конечно, я далёк от того чтобы переносить свойства государств на свойства проживающих в них отдельных личностей (в конце концов, я сам, убеждённый антикоммунист, не испытывающий и капли ностальгии по взрастившему меня монстру, родился и прожил половину жизни в Советском Союзе), но, всё же, я всматриваюсь в этих иранцев пристальней и пристрастней, чем в прочих обитателей лагеря.
Иранцы веселы, уплетают обед за обе щёки, компанейски ведут себя друг с другом и с окружающими. Сидящий у прохода лысоватый иранец, смуглым овалом лица и маслинами глаз похожий на Шломо – завхоза фирмы, в которой я работаю, держит в руках маленького плюшевого медвежонка и временами, когда он полагает, что его никто не видит, нежно прижимает игрушку к щеке. Я не из тех, кто впадает от таких вещей в сюсюкающий восторг, но я люблю живые и непосредственные человеческие реакции.
За соседним столом сидит пара японцев: парень и девушка. Вчера они спустились с горы после успешного восхождения. У них добрые плоские лица, траченные морозом и ветром, и они похожи скорее на тибетцев или людей племени шерпа, чем на японцев. Пока парень молчит, он выглядит сдержанным и интеллигентным, но когда он заговаривает, от первоначального приятного впечатления мало что остаётся: он выплёскивает из себя резкие отрывистые звуки, пучит глаза и судорожно жестикулирует. Возможно, такая порывистая манера разговора свойственна всем японцам в той или иной мере? Как легко можно принять привнесенное чужой культурой за личностные особенности конкретного индивида. И наоборот…
Японка была тиха и незаметна, а взгляд её – два затравленных, загнанных в угол зверька – был взглядом женщины, привыкшей стесняться своего увечья. Её изуродованные ладони были лишены пальцев. Всех… И несмотря на это, она взошла на Хан-Тенгри – гору, требующую если не лазательных способностей, то хотя бы способности держать в руках жумар и ледоруб?..
Я приучен уважать человеческое мужество безотносительно к предмету его приложения и почти безотносительно к прочим качествам его носителя. Это такой привитый в детстве условный рефлекс, отшлифованный годами причастности к занятиям, в той или иной мере связанным с риском. И всё же, видя эти бывшие женские руки, я не могу не задаваться вопросом о предмете приложения этого несомненного мужества и фантастического упорства. Я не могу избавиться от ощущения, что подобная обсессия, привычно выдаваемая нами за выбор свободной личности, по сути есть отсутствие выбора и отказ от построения собственной жизни, что она низводит человека до положения насекомого, запрограммированного ползти вверх, не властного над своей судьбой и своими влечениями, раз за разом выходящего на бессмысленный поединок с равнодушным чудовищем, походя откусившим ему пальцы.
Я прекрасно понимаю, что никто из нас, ходящих в горы, не застрахован от подобных потерь, а тот, кто думает иначе, просто не понимает, с какими силами он вступает в легкомысленную игру. Любой из нас рискует однажды попасть в эту мясорубку, но что заставляет человека, в ней побывавшего, возвращаться в неё вновь и вновь, – после того, как закончены игры здорового сильного животного, энергия которого ищет выхода и находит его в опасной игре, и ты покалечен, перемолот, лишен столь многого? Эти пальцы никогда уже не нырнут в кудри ребёнка, не перевернут страницу книги, не взъерошат шевелюру любимого и не пробегут по клавишам чего бы то ни было – как можно не возненавидеть то, что сумело отнять у тебя всё это? Откуда берётся эта невозможность искать и находить опору и приют в окружающем мире, откуда этот вечный штурм никем не обороняемой, забытой богом, но всё ещё смертельно опасной крепости. Как будто отрезаны все пути назад, и всё, что могло бы составить счастье этой женщины, осталось наверху – в звенящих от мороза чёрных скалах, сожравших некогда её пальцы… Господи, подари ей то, что ты не столь уж редко даришь многим другим женщинам, зачастую куда менее примечательным: понимающую любовь родителей, тёплый и уютный дом, детский смех и нежные прикосновения любимого человека. Дай ей свободу: пусть отпустит её, наконец, эта мертвящая, заскорузлая безнадёжная судорога.
О кашруте
Мы вышли из столовой. Похоже, не всегда настроение следует за погодой – иногда бывает и наоборот. Чашу ледника накрыло плотным серым войлоком, из которого, как из мелкого сита, сеяла колючая снежная крупа. Подкралась головная боль и вцепилась в затылок цепкими суставчатыми лапками – догнала с утреннего выхода. Мы залезли в палатку и занялись сортировкой продуктов для завтрашнего перехода в первый лагерь. На этот раз мы пойдём с прицелом на постановку лагеря и ночевку, а потому рюкзаки обещают быть увесистыми. Сперва, мы решаем, кто что понесёт. Поскольку операторы тащат на себе всю съёмочную аппаратуру, мы с Лёшей отдаём им только часть продуктов, а всё общественное снаряжение и остаток продовольствия делим между собой. Я беру маленькую палатку, одну горелку и оба баллона, а Лёша – палатку-полубочку и всё остальное. Теперь главное – отобрать и разделить продукты. Какое-то время мы сидим и бессильно созерцаем гору разномастных пакетиков, свёрточков и коробочек, а уголки наших ртов опущены книзу, как у печальных клоунов. Наконец, произнеся одно из тех волшебных слов, которые помогают мужику взбодриться, Лёша решительно придвигает к себе ящик с сырами и колбасами. Боже мой, сказал я, окидывая скептическим оком эту невыносимую для ортодоксального иудея картину, какой «не кашер» мы тут устроили… Лёша помолчал, взвешивая, стоит ли открывать миру своё невежество:
– Что такое кашер?..
– Лёша, ты хочешь сказать, что отправился на восхождение в паре с израильтянином, не зная законы кашрута?!.. – ответил я, как и полагается, вопросом на вопрос.
– Ну-у… – простодушно ухмыльнулся Лёша, начиная понимать, что наткнулся на золотую жилу, которая может заметно скрасить наше унылое занятие.
– Да будет тебе известно, что, поскольку евреи по характеру своему народ своевольный, недисциплинированный да, к тому же, ещё и довольно безалаберный, Господь Бог взял на себя труд по регламентации их беспорядочной жизни во всех, даже самых мельчайших, аспектах. Правильный еврей не только знает точно, до мелочей, что, как и когда нужно делать из числа тех вещей, которыми озабочены представители всех прочих народов, но и выше крыши загружен всякой абсолютно необъяснимой, свойственной ему одному иррациональной хернёй. Господь наш загрузил еврея бессмысленной работой, как опытный прапорщик нерадивого солдата: он прекрасно понимал, что незанятый еврей, еврей, энергия которого не заземлена должным образом, непременно что-то натворит. Если бы Карл Маркс, в своё время, занял свой неуёмный мозг решением вопроса, можно ли считать африканского жирафа кашерным животным, вместо того, чтобы расковыривать палочкой пролетарский муравейник, может человечеству и удалось бы как-нибудь валиком, за неимением четких рекомендаций, перекатиться через мечты о всеобщем счастье прямиком к всеобщей сытости.
С другой стороны, вполне возможно, что всему, включая и кашрут, была причина, и было объяснение, но многое утеряно безвозвратно: обрублены корни и песком занесены источники. Приведу пример из жизни животных: на Галапагосах, где от рождения очередного острова и до погружения его в пучину океана проходят какие-то смешные два-три миллиона лет, и потому эволюция работает в три смены, как замордованный стахановец, чтобы успеть произвести необходимое количество новых видов, живёт одна нетривиальная птица: нелетающий корморан. Поскольку на островах отродясь не было никаких хищников, а за рыбой вполне можно сигать прямо со скал, корморанам-переселенцам стало влом летать, они обленились, нагуляли жирок и со временем полностью утратили способность к полёту. Не тренированные годами крылья постепенно утратили былую силу, стали тонкими, как ножки программиста, а оперение стало жидким, с пролысинами. В сущности, никто из сегодняшних корморанов не помнит, что его предки были способны к полёту, но что интересно: после каждого ныряния, вскарабкавшись обратно на покрытую пятнами гуано родную скалу, он усаживается с важным видом на солнцепеке и расправляет для просушки свои никчемные крылышки, похожие на драное старушечье бельё…
– Так, что такое кашрут? – Лёша вернул мой беспокойный, не занятый регламентированной деятельностью мозг к интересующей его теме…
– Кашрут? Ну, это правила такие: что еврею можно есть, а что нельзя. Ну, к примеру, нельзя молочное с мясным смешивать – добавил я, широким жестом обводя все эти наши сыры вперемешку с колбасами, весь этот свальный грех…
– А, это я знаю… Не знал только, что у этого есть название…
– У всего в этом мире есть название!..
– И ты его соблюдаешь – этот, как его… кошак…
– Кашрут, блин!.. Я, Лёша, неправильный еврей. Я спокойный и дисциплинированный, меня даже в армии прапоры не особо загружали бессмысленной работой, и там – я упёрся взглядом в крышу палатки, по которой шуршал равномерный занудный снежок – об этом знают… А если серьёзно, – у меня врожденная идиосинкразия к обрядам и церемониям… К любым. И нет в мозгу того участка, который отвечает за веру, и без которого человек не в состоянии поверить ни в Бога, ни в Кашпировского, ни в зелёных человечков с Альфы Центавра…
– Расскажи ещё что-нибудь интересное про евреев…
– Ну, например, посуда тоже должна быть раздельной: отдельно для мясного, и отдельно для молочного…
– Охренеть!..
– Угу.
– А если ты съел мясное, когда можно будет есть молочное?
– Молодец – зришь в корень… Через шесть часов.
– А рыбу с молоком можно? – глаза у Лёши горели азартом, он заметно повеселел и забыл про свои пузыри. Работа у нас спорилась, и продукты шустро разлетались по четырём пёстрым кучкам: две для нас с Лёшей и две для Валеры с Сашей.
– Рыбу можно, рыба – не мясо…
– А в чем разница?..
Я посмотрел на Лёшу укоризненно:
– Лёша, ну откуда же я знаю… Да и вопрос бессмысленный. Я же говорил тебе: «заняты необъяснимой, иррациональной хернёй». И, кстати, не любая рыба вообще кашерна, а только та, что чешуёй покрыта. Скажем, сом – рыба не кашерная, в пищу не годящаяся, и угорь тоже… Потому, кстати, у нас такие сомы в ручьях на севере (да, НА СЕВЕРЕ. Что смешного?..) водятся – телёнка под воду утаскивают.
– А птица?..
– А вот птица – это мясо. Особенно курица… Но и птица не любая в пищу идёт. Там что-то с крыльями и с пальцами на ногах связано – точно не помню… Но страуса точно есть нельзя. Да и мясо не любое кашерно. Ну, там, свинина ясный пень. Но, вообще-то, есть четкие критерии, кого еврею можно кушать: только парнокопытных, которые с рогами. Конину нельзя, да и верблюда тоже – хоть и двупал, но копыт не имеет. Мо-зо-ле-но-гий!
– И что, многие у вас это соблюдают?
– Как тебе сказать… Со всеми заморочками, с раздельными мойками для мясного и молочного, с исследованием на предмет кашерности всего и вся, вплоть до одеколона – только ультраортодоксы, пожалуй… Такие, в черных шляпах и лапсердаках.
– А, видел… – Лёша кивнул понимающе и ухмыльнулся.
– Ну, а свинину, конечно, большинство народу не ест. У нас, кстати, полно кабанов диких на севере – расплодились, просто бедствие. Арабы, правда, охотятся.
– Так они ж тоже не едят?..
– Мусульмане не едят, но христиане-то едят. Мясо христианам продают.
– Арабам-христианам?
– Ну да. А ещё, в еврейских некашерных ресторанах свинина называется «белым мясом»… Эвфемизм такой – берегут чувства гастрономических меньшинств… Не свиноед презренный, а любитель «белого мяса». У меня самого, кстати, насчет свинины забавный случай был.
– Рассказывай!..
И тут я угостил Лёшу своей любимой историей.
Было это давно, – в те скудные, но обещавшие так много, а потому прекрасные времена, когда я только начал работать в своей «конторе». Всякий новоприбывший репатриант привозит с собой заветный сундучок штампов и расхожих представлений, и у меня он тоже имелся. Я был уверен, что все поголовно коренные израильтяне, кроме каких-то совсем уже асоциальных, нарочито эпатирующих типов, шарахаются от свинины, как монашка от фаллоимитатора. Работал я поначалу почти бесплатно, но инженером в хорошей вполне солидной фирме. Трудился, как пчелка: прилежно и в срок исполнял поручения и всячески демонстрировал начальству свой почти бессловесный пока ещё интеллект: глазами да понимающими кивками головы. В общем, дорожил местом, что называется. Первого моего начальника (а я уже троих пережил, в хорошем, конечно, смысле) звали Моше Цадик, что в легкомысленном переводе на русский звучит, как Мишка Праведник… Маленький худой мужичок за шестьдесят, с козлиной бородкой, глазами дерзкого умницы и точными, молодыми движениями бывшего каратиста. Я редко видел его серьёзно кушающим, обычно он приносил с собой на работу пару гронок отборного винограда, – тем и питался, и кроме этого факта мне не было известно ничего о его кулинарных пристрастиях. Решил он как-то раз взять меня с собой на объект в воспитательно-образовательных целях, а так же, чтобы оторвать от чертежей и спецификаций и прикоснуть к живому и дышащему (всякой дрянью, замечу в скобках) производству, которое я, вообще-то, терпеть не могу, но с радостью соглашаюсь. Проведя полдня среди воняющих химикалиями загадочных автоклавов и автоклавок, вдоволь поблуждав в техногенных джунглях, где с высоких полипропиленовых стволов свисали разноцветные лианы проводов и кабелей, а человекообразные операторы, почёсываясь, ходили на водопой к кофейному автомату, мы отправились в обратный путь. По дороге Моше расспрашивал меня о жизни простого человека в советском государстве, а я рассказывал хоть и честно, но так, чтобы мои соотечественники, а с ними и я сам, не выглядели совсем уж безнадёжными папуасами. Вели, мол, жизнь скромную, но просвещенную: на завтрак – Достоевский, на обед – Толстой, а на ужин – Чехов, поскольку тяжелое на ночь не полезно. Хоть и вещал я о высоком, но к этому моменту уже вполне низменно хотел жрать. На подъезде к Хадере Моше надолго задумался, затем спросил меня мягко, без нажима, но и без извинительных интонаций излишне деликатного человека, которым он не являлся:
– А скажи, вы в России ели свинину?.. ТЫ ел свинину?.. – добавил он, заточив вопрос и направив его смертоносным остриём в грудь беззащитного подчинённого ему создания…
Бли-и-н!.. Что говорить, как ответить?.. Вот ведь козёл, – какое ему дело?.. Что хочу, то и ем – свободный гражданин свободной страны… Уволит? Репрессирует?.. Минута прошла, надо отвечать…
– Смотри – говорю я медленно и раздумчиво, изо всех сил стараясь не соскользнуть в оправдывающийся тон – там, в России, никто не соблюдал кашрут. Я ел там всё, в том числе и свинину, – я, вообще, человек не верующий. Не вижу причин, почему я должен был бы менять свои привычки… (Какой я, всё-таки, молодец: герой, свиной диссидент, блестящим будущим своим рискую, но головы не склоняю перед религиозным мракобесием!..)
Моше на секунду оторвался от дороги и зыркнул на меня посветлевшим серым глазом:
– Прекрасно! Я знаю тут, под Хадерой, небольшой ресторанчик, где готовят замечательный «белый» стейк! Ты уже голоден?..
Второй выход
Мало рано проснуться, и даже встать рано – это ещё тоже, в сущности, не означает раннего выхода… Несмотря на наши благие намерения, которые выразились в установленном на 5:15 будильнике, Лёша долго не мог преодолеть притяжение «постели», а я, хоть и преодолел его вовремя, но потратил полчаса на войну с «молнией» в нижнем отделении рюкзака, который, кстати, произведен одним из спонсоров нашей экспедиции. Тут я попадаю в некоторое затруднение, которое прямо-таки не знаю, как и разрешить… С одной стороны, как человек пишущий и уважающий свой труд, я должен – просто обязан – быть предельно откровенен с читателем, и, к тому же, написание данного опуса не было оговорено никакими договорами и соглашениями, ни устными, ни письменными, являясь, таким образом, моим личным частным предприятием. С другой стороны, катить бочки на спонсора, кажется мне не совсем этичным, а потому я постараюсь быть предельно сдержанным в выражении своих чувств, и просто в выражениях…
Мой принцип с этого момента: о спонсорах, как о мёртвых: «ничего или только хорошее!»
Чертова «молния», по правде говоря, изрядно вывела меня из равновесия. Что я только не перепробовал!.. Я даже сбегал в столовую за сливочным маслом, но смазка не помогла, нижнее отделение рюкзака так и осталось закрытым на две трети, и мне пришлось запихивать свой спальник без чехла через оставшееся отверстие. Только ходьба и морозный утренний воздух – эти два лекаря ран душевных – успокоили меня и примирили с моей жизнью и с её спонсорами…
Погода сегодня бодрит: вдоль ледника задувает живительный ветерок, а хорошо выспавшееся небо выгнулось высоким, упругим куполом: мощная, плотная синева, лишь местами армированная алюминиевыми волокнами перистых облаков. Солнце, застрявшее в сплетении этих волокон, выглядит, как косматая спросонья путана.
На самом краю морены, там, где мы останавливаемся, чтобы «переобуться», прежде чем вступать в священные владения Горы, нас догнал человек, которого, как объяснил мне потом Валера, зовут Володя Заболоцкий: красивое сочетание, которое легко западает в память и так уютно там обустраивается, что уже в следующую минуту ты сомневаешься, а не слышал ли ты об этом человеке и раньше.
Он живо поздоровался с Сашей, приветливо кивнул нам с Лёшей и стал трепаться с Валерой, как со старым знакомым, каковым для него и являлся… Человек этот прожил в горах так долго, что полностью лишился свойственной горожанам защитной скорлупы, – растворился в горах, как сахар-рафинад в стакане солнечного чая… У него напрочь отсутствовал возраст, не прочитывался социальный статус, и он был абсолютно лишен церемоний и межличностных барьеров. Серьёзный и простодушный, он подступал, впивался пытливым глазом и решительно проходил в вашу душу, – удобно там располагался, не стесняя хозяина. Говорил он живо и не совсем правильно, жестикулировал, заглядывал в глаза собеседнику: вопросительно и немного требовательно, как бы ища поддержки и разделения чувств. Фенимор Куперовский персонаж: Следопыт и Зверобой не американских прерий, но тянь-шаньских гор…
До первой перильной верёвки мы поднялись за час, – довольно быстро, учитывая тяжелые рюкзаки. Пройдя первую верёвку, я обнаружил в месте её закрепления маленькую светловолосую иностранку – обессиленную и отчаявшуюся, барахтающуюся, как муха в паутине. Она загнала свой жумар в узел на перильной верёвке, и теперь никак не могла отстегнуться. Её подруга стояла рядом, беспомощно хлопая ресницами, но похвально не бросая напарницу на произвол судьбы… С моим приходом пойманная девушка снова беспорядочно забилась, как муха с приближением паука, затем жалобно замурлыкала: «Сори, сори…», но о помощи не попросила. Я успокоил её благожелательным словом, затем деловито, со второй попытки, открыл жумар и выпустил бабочку на свободу, сорвав пышный букет растроганных «Сэнк ю!». Как это, всё же, приятно, задёшево проявить лучшие мужские качества перед таким вот милым и беспомощным созданием… Поскольку обогнать это создание на перильных верёвках не было никакой возможности по причине тяжести рюкзака, глубины снега и крутизны склона, мне пришлось тащиться у него в кильватере до самого лагеря, и при каждой остановке меня одаривали то виноватым «сори», то благодарным «сэнк ю»…
На подходе к лагерю давящими волнами накатила головная боль – навязчивый спутник высоты и недостаточной акклиматизации. Перед самым лагерем нас ждало последнее препятствие: короткая крутая ледовая стенка, изгрызенная десятками ледорубов и кошек. Губчатый лёд крошился, как сахар, и мне пришлось вылезать, держась руками за верёвку. Выбравшись наверх, я долго не мог восстановить дыхание.
Оглядываю лагерь, – плотную шеренгу палаток, истоптанный грязный снег и тоненький ручеёк, кое-где показывающий из-под снега свою блестящую змеиную спинку.
Многое вспоминается, но есть и новое: подход к лагерю пересекает широкая ледниковая трещина с подтаявшим и сильно просевшим снежным мостом. Снова пристёгиваюсь к перилам и двумя быстрыми опасливыми шагами перемахиваю на ту сторону.
Зайдя с двух сторон и заглядывая нам в лица своими бесстыжими видеокамерами, Валера с Сашей снимают, как мы с Лёшей устанавливаем палатку. Помню, что, превозмогая нарастающую головную боль, я старался придать своему лицу живое и деловитое выражение, но теперь, рассматривая эту сцену на экране, я должен признать, что мне удалась лишь вторая часть этой задачи…
Поскольку нам не удалось найти две свободные площадки по соседству, ребята установили свою полубочку ниже по склону, через несколько палаток от нас с Лёшей. Отчасти поэтому, отчасти потому что на нас давит высота, и тело сопротивляется любому дополнительному движению, мы готовим обед раздельно – каждый в своей палатке. Собрав волю в кулак, иду за водой. Небо затянуло тучами, ледник прихвачен скорым на расправу на этой высоте морозом, и полузадушенный ручей больше не журчит. Пытаюсь наковырять воды в нескольких местах, но только в небольшой лунке перед операторской палаткой мне удаётся пристроить крышечку от термоса, и я наполняю котелок стылой полярной шугой. Пока в котелке варится гречка, Лёша задумчиво перебирает пакетики с копченным мясом. «С чего начнем?..» – поднимает он на меня свои расширенные от проведенного в полярной ночи детства выразительные черные (нет – чОрные…) очи. «Мне всё равно…» – говорю я, сглотнув слюну, что несомненно было принято Лёшей за признак нестерпимого голода, хотя я всего лишь подавил рвотный позыв.
Расковыряв гречневую кашу и пожевав немного мяса, мы выбросили остаток на каменистый склон – подальше от палатки, на прокорм прожорливым скальным воронам.
Снаружи доносятся голоса – это Володя Заболоцкий обнаружил Красимиру и исполняет вокруг неё взволнованный брачный танец.
«Боже мой, какая красивая женщина!» – восклицает он возбуждённо и немного торопливо – «Вы такая красавица в наших горах – просто чудо! Просто чудо!.. Я даже готов поцеловать вас!.. Честное слово…»
Мы с Лёшей изумлённо переглядываемся: «ДАЖЕ готов поцеловать!». Я давлюсь смехом, Лёша вытирает глаза тыльной стороной руки и сморкается в туалетную бумагу…
Я слышу, как Красимира – вполне сложившаяся, красноречивая и уверенная в себе женщина, – что-то невнятно отрицает смущённым голосом, который, тем не менее, приобрёл характерный глубокий грудной тембр…
«У тебя нет напарника?.. Заболел напарник?!.. Так возьми меня!.. Не нужен напарник – с тобой буду я!..» – Володя наступал и окружал, отрезал женщине пути к отступлению. – «Я гид, я свободный сейчас… Только спущусь вот вниз, и завтра к тебе вернусь!.. Ах, какая красивая женщина!» – и, как бы в сторону уже, но в полный голос: «На такой можно даже жениться!..»
Это было безумно смешно и трогательно одновременно… Невероятно, но эти откровенные приставания не были запятнаны пошлостью, словно она, эта городская по происхождению плесень, напрочь была выжжена в этом человеке солнечным ультрафиолетом, вытравлена морозом и пронизывающими ветрами. По сути, это были самые целомудренные приставания из всех «грубых приставаний», какие я когда бы то ни было наблюдал… Что бы он не произносил, – это было всего лишь непосредственным обращением Адама к Еве, требованием, древним, как род человеческий, а потому правомерным, могучим и действенным. Он был настойчив, но не прилипчив. В его голосе, в его интонациях не было ничего елейного, масляного, скабрезного: он был прям, прост и возвышен. В этой чуть сбивчивой от волнения речи слышались и хрипловатый «горла перехват», и то самое «сердца мужеского сжатье»… Какая невинная и мужественная простота, какое суровое и пронзительное простодушие!.. И какая безвозвратная потеря, не видеть Красимириного лица в эту минуту!.. Мы с Лёшей, не произнося ни слова, вновь закатываемся беззвучным смехом…
После обеда, Лёша с Валерой отправились в «верхний первый лагерь» – это такие «выселки», расположенные на сто метров выше по гребню. Четыре года назад моя палатка стояла именно там, но в этот раз мы решили стать ниже, не в последнюю очередь потому, что нижний лагерь намного оживлённее верхнего, и в нём гораздо больше возможностей для интересных съёмок и интервью.
Я остался лежать в палатке наедине со своей головной болью, разраставшейся в мозгу, как сорное колючее растение, на которое нет управы: пустило отростки в лобные доли, оплело и сдавило затылок, вонзило неумолимые шипы в глазное яблоко. Когда Лёша вернулся, я понял, что мне всё же удалось уснуть, поскольку его приход меня разбудил…
– Валера зовёт нас в гости на сало с луком.
– У нас есть сало?..
– Володя Заболоцкий оставил.
– Ладно, идём.
В полубочке сумрачно, всё окрашено в зеленоватые тона, землистые лица товарищей находятся в полной гармонии с моим самоощущением.
На полиэтиленовом пакете любовно выложены плоские пластинки сала и ломти ядрёного лилового лука.
Несмотря на мертвенную бледность ликов, души моих друзей пожирает жаркий деятельный огонь. Они обсуждают отснятое и планируют, что бы ещё такого-эдакого можно было отснять. С нарастающей тревогой я наблюдаю, как наша беседа заворачивает в нежелательное для меня русло.
– У меня есть одна давняя идея – говорит Валера, обращаясь, прежде всего, к Саше Ковалю – Было бы неплохо снять идущего по гребню человека, – Лёшу или Яна, – не сверху или снизу, а сбоку – это всегда хорошо смотрится на экране.
– Ты имеешь в виду гребешок ниже лагеря?
– Да.
– Он узкий…
– Идея такая: идти за человеком и снимать его камерой, вынесенной на какой-то, как бы, штанге…
– На штативе?..
– Возможно, на штативе…
– Может не хватить длины, но можно попробовать… – они всё больше возбуждаются, и я тревожно перевожу взгляд с одного на другого…
– Давайте попробуем!.. – говорит Валера, делая явственное движение в сторону выхода из палатки.
– Завтра на спуске можно будет попробовать… – говорю я, но с таким же успехом я мог бы попытаться завернуть в сторону разогнавшуюся лавину.
– Почему же завтра? Прямо сейчас!.. – говорит Валера, искренне не понимая, как можно откладывать в долгий ящик такую замечательную задумку…
Все смотрят на Лёшу: Валера с Сашей ждут решения, а я – приговора…
– Конечно! Попробуем прямо сейчас – говорит Лёша, и перед моим мысленным взором возникает Колизей, арена, шершавая от многократно пролитой и высохшей человеческой крови, распростёртый гладиатор с маской острой горной болезни на лице, два надменных победителя, занесших над его головой тяжелые, как булава Геракла видеокамеры, и деловитый молодой император, дающий им условный знак большим пальцем: ДОБИТЬ!..
«Боги, где же вы, боги…» – беззвучно шепчет гладиатор, вознося к небу затуманенные головной болью, слезящиеся глаза…
Лёша выглядывает наружу и сокрушенно качает головой. Чёрная туча подоспела в последнюю минуту, и с неба повалил мягкий, пушистый, как ресницы Снегурочки, спасительный снег. Пена небесного огнетушителя обволокла всё вокруг, гася страсти человеческие и творческие порывы неуёмных кинематографистов. «Спасибо…» – прошептал гладиатор и прикрыл рот ладонью, пряча улыбку мимолётную, невольную…








