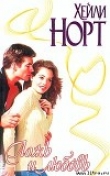Текст книги "Осмос"
Автор книги: Ян Кеффелек
Жанр:
Контркультура
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
– Отправляйся в свою комнату!
– Но почему? Я пить хочу!
– И если тебе так смешно, можешь там смеяться сколько тебе влезет, стены в доме толстые…
Пьер покорно поплелся наверх, ничего не понимая.
Через час отец позвал его вниз, он по-прежнему стоял посреди кухни, с полотенцем, обмотанным вокруг шеи, взгляд его был устремлен не на Пьера, а на кран.
– Ты изволил смеяться на теннисном корте, помнишь?
– Да ведь мы оба смеялись…
– Ты так думаешь? Я вот все спрашиваю себя, когда же я слышал, чтобы ты так смеялся.
Марк стоял неподвижно, не поворачивая головы, и цедил слова сквозь зубы, почти не разжимая губ.
– Ну так будь так любезен, помоги мне припомнить. Давай-ка посмейся, как смеялся на корте.
Пьер с трудом сглотнул слюну.
– Ты хочешь, чтобы я засмеялся?
– Именно этого я и хочу…
– Но я хочу пить, у меня пересохло в горле, и если я не попью…
– Попьешь, попьешь… но потом…
– Я не смогу…
– Смейся, тебе говорят!
Пьер прокашлялся и попытался отделаться робким «хи-хи», издаваемым обычно человеком, которому вроде бы нужно посмеяться, но который в смехе не находит никакого удовольствия и не видит ничего смешного в том, над чем он должен смеяться по принуждению. Но встретившись взглядом со взглядом отца, Пьер отшатнулся, словно этот взгляд обжигал, нет, не просто обжигал, а испепелял.
– Не пытайся меня провести, дурачок! Ты у меня будешь смеяться и смеяться так, как ты и твоя шлюха-мать смеялись накануне ее ухода из дому! Тогда вы надо мной славно поиздевались, вы насмехались надо мной, вы там задумывали какую-то махинацию у меня за спиной, вы слушали там свою дурацкую музыку… Так что она тебе такое смешное рассказывала? Что вас так развеселило?
– Ничего, ничего она не рассказывала, ничто нас не веселило, – пролепетал Пьер, чувствуя, как у него трясутся колени.
– Да нет, вы от души веселились, вы гоготали, ржали… а теперь я советую тебе смеяться так, как надо…
Видя, как его сын попытался выдавить из себя жалкие смешки, Марк сам захохотал, но смех его был горьким, в нем звучало отчаяние. Он придвинулся к Пьеру и гаркнул ему в лицо:
– Ха! Ха! Ха! Ты слышишь этот смех, Пьер? Хорошо слышишь? Я больше не хочу его слышать никогда! Он меня убил! Отныне ты можешь смеяться так, как тебе хочется и нравится, но только не таким смехом! Сохрани его при себе для своей матери, а если не можешь, то вообще больше не смейся! А теперь иди, пей!
За ужином возбуждение от выпитого рома сняло напряжение. Семь красных и пять синих свечей истаяли на зеленой глазури, покрывавшей бриошь, окруженную по краю бордюром из английского крема. На глазури шоколадным кремом было выведено трогательное послание: «Долгих лет жизни любимейшему сыну».
На третьем куске и на третьем стаканчике то ли рома с водой, то ли воды с ромом у Пьера закружилась голова, на висках выступил пот, щеки запылали огнем, и он засмеялся каким-то полубезумным смехом, то задыхаясь, то издавая такие звуки, словно его тошнило и выворачивало наизнанку, а затем вновь хохотал, буквально заходился смехом, кусая себе губы, преодолевая боль и слезы, не понимая, что с ним происходит, и одновременно умирая со страху.
А напротив него сидел его отец, аккуратно причесанный, гладко выбритый, чистый, и, снисходительно улыбаясь, ждал, когда он успокоится.
– Да, на тебя сейчас приятно смотреть, малыш. Быть может, я немножко перебрал, то есть слишком щедро пропитал бриошь водкой, но я об этом не жалею.
Смех Пьера, словно достигший в этот момент высшей точки, начал ослабевать и вскоре стих.
– Прости, – прошептал Пьер и тяжело вздохнул. По его щекам ручьем текли слезы, он не знал, куда деваться, что сделать. Он низко склонился над столом так, что его губы коснулись края наполненного до краев стакана, и он отхлебнул из него, не отрывая рук от поверхности стола.
– Да нет, сынок, тебе не за что извиняться, это я был не прав, а ты… ну что же, ты вообще парень очень чувствительный. Ну а мне ты сегодня просто попал под горячую руку. Не знаю, что на меня нашло. Это все под воздействием алкоголя, когда я выпью, я всегда думаю о ней…
– Не думай о ней больше, – попросил Пьер.
Его голос звучал почти умоляюще. Эта просьба-мольба была обращена не столько к Марку, сколько к самому себе. Ведь они неоднократно уже говорили друг другу, что забыли о ней, что они о ней забывают, что они о ней забудут. Они же вычеркнули ее из их жизни, они же дали зарок! А она все возвращалась и возвращалась! Она была как мифическая сирена с манящим голосом, ее саму словно притягивал свет, и она появлялась на поверхности налитого в стакан рома. Она появлялась опять и опять! Она не хотела исчезать из их жизни! Она не соглашалась с тем, что ее изгнали и забыли!
– Вкусная штука…
– Да нет, это просто сивуха от нерадивого плательщика, но привередничать не стоит, – сказал Марк и долил себе в стакан то, что он назвал «сивухой», а потом поднял его и провозгласил:
– За нее!
– Ну уж нет! И слышать не хочу! – воскликнул Пьер.
Он не знал, что говорит. Голос его дрожал и прерывался, словно в закрытой комнате билась случайно залетевшая и погибающая бабочка.
– Ну, потише, сынок, прояви немного уважения. Ведь она родила тебя.
– Ты тоже.
– Ну, моя роль была столь незначительна…
Марк потянулся через стол и коснулся стакана Пьера своим стаканом.
– За твою дорогую мамочку, – сказал он насмешливо. – Чин-чин!
– За эту грязную шлюху! – ответил Пьер.
Его отец резко откинулся назад от изумления. Можно сказать, что он был поражен этим ругательством, сорвавшимся с уст сына, в самое сердце. Он тут же потребовал, чтобы Пьер взял свои слова назад.
– Повторяй за мной: «Прости меня, моя дорогая и любимая мама!»
– У тебя что, не все дома? С чего это я буду извиняться? С какой радости? Что я ей сделал плохого, что она меня бросила?
– Что ты сделал… Ты нам испортил жизнь.
– Я? Вам? – переспросил Пьер с исказившимся от недоумения лицом. Он тщетно пытался поймать взгляд отца.
– Ну, не знаю… Я просто пытаюсь поставить себя на ее место. Нельзя сказать, что она одна кругом виновата…
– Нет, но ведь ты сказал, что я испортил вам жизнь… Я испортил? Это что же, я отправился черт знает куда, чтобы сделать себе ребенка?
Марк попросил Пьера чуть сбавить тон.
– Я сказал это просто так… Ну, для того, чтобы ты забыл ее, чтобы ты меньше страдал. Ты что же думаешь, что мне приятно видеть, как ты постоянно дуешься? Видел бы ты, какая у тебя при этом сердитая и грустная физиономия! Нет, поверь, ничего в этом забавного нет. А что до детей, то, поверь мне, у нее их наверняка много…
Пьер низко опустил голову, бормоча себе под нос ругательства, и внезапно словно наяву увидел ее… Она очень переменилась… Состарилась… волосы вот-вот совсем поседеют, а вокруг рта залягут глубокие старческие морщинки… Она смотрела на него, да, именно на него… таким грустным взглядом… смотрела уже шесть лет…
Бормотание Марка стало более отчетливым, и Пьер разобрал окончание фразы:
– …Но подожди… стоит ей только вернуться… и ты поползешь к ней на коленях, ты будешь цепляться за ее подол, а меня ты и знать не захочешь, все будет как прежде! Ты вновь превратишься в маленького глупого щенка, который бегает хвостом за своей мамашей!
Хватаясь за край стола, Пьер с трудом встал. Он был очень бледен, пожалуй, он впервые был по-настоящему пьян, голова у него не просто кружилась, а шла кругом.
– Я хочу, чтобы ноги ее у нас в доме больше не было! Если она когда-нибудь вернется, то тогда… тогда я уйду из дому! Вот!
Отец расхохотался и попросил ею повторить эту невероятную глупость, потому что, по его словам, существуют вещи, о которых в его присутствии нельзя вот так запросто трепать языком, а надо думать, о чем говоришь, и потом уж отвечать за сказанное.
– Твоя мать однажды уже нанесла мне такой жуткий удар, болван! Второго такого предательства я не вынесу. А я не раз задавался вопросом, не состоите ли вы с ней в сговоре, не заодно ли вы оба? Ну так убирайся отсюда! Сматывайся! Дверь рядом, и она не заперта! Последуй ее примеру, продажная тварь! Подонок! Сволочь!
Он схватил свечи, почти плававшие в растаявшем креме, и, сломав их одну за другой, бросил на тарелку смертельно-бледного сына.
– Ну как ты думаешь, что это такое? Так знай, такова моя жизнь с того момента, как ты появился на свет!
В следующем году Пьер стал хуже учиться, он стал менее активным на уроках, бегал уже не так быстро, как прежде, и учительница гимнастики часто упрекала его в том, что он просто ленится и в конце пробега у него совершенно ровное дыхание. В ответ он осмелился сказать какую-то дерзость, нечто вроде: «А что вы имеете против ровного дыхания?» За это он был наказан: на два дня отстранен от занятий, то есть на два дня исключен из школы. Однажды в день соревнований, вернее, уже ближе к вечеру, он поцеловал девочку на школьном стадионе под липами. Она была одета в спортивные шортики, у нее ноги были голые гораздо выше колен. Губы у нее были влажные, язык – нежный, но она то ли так испугалась поцелуя, то ли так продрогла на ветру, что вся покрылась гусиной кожей, и пупырышки оказались такими крупными, что Пьер, обнимавший ее, призадумался, уж не больна ли она ветрянкой. Он подождал ее после окончания соревнований у раздевалки и пошел провожать до дому. Он сказал ей, что она похожа на цветок, и от такого комплимента она опять покрылась гусиной кожей. Он был уверен, что она в него влюблена, что у него теперь есть подружка. Но через день она наговорила ему кучу обидных вещей. Что это он себе вообразил? Да этот поцелуй ровным счетом ничего не значит, это ведь так, ерунда, пустяк, она позволила ему поцеловать себя, чтобы сделать ему приятное, чтобы отметить его переход в следующий класс… это был прощальный поцелуй перед каникулами, так что нечего ему особенно радоваться и не из-за чего задаваться… Вот так-то! А вообще-то девчонка она была классная: серьезно занималась хореографией, и поэтому у нее были красивые стройные ноги с изящными лодыжками и маленькие крепкие грудки. Он с превеликим трудом заставил себя забыть о ней. Когда занятия в школе возобновились, она пожалела о разрыве с Пьером, но слишком поздно: он уже любил Лору. Подрастая, Пьер начал замечать, что он не был стопроцентным лумьольцем, таким, какими были его приятели. Даже его лучшие друзья порой как бы объединялись в единое целое, а его отторгали. Например, из разговоров он узнавал, что они славно повеселились накануне вечером на чьем-либо дне рождения, а его на эту вечеринку не пригласили. Ребята ходили купаться, в кино, на рыбалку, в походы, и все без него. В оправдание он слышал: «Да мы тебя не звали, потому что тебя туда все равно бы не пустили… Они не допускают в стены своего заведения тех, у кого только вид на жительство…» Примерно то же самое происходило и в «Арамисе», небольшом уютном кафе при коллеже, располагавшемся под сенью старых платанов. Это было всем известное «логово» маменькиных и папенькиных сынков. Там решались вопросы о том, куда веселая компания отправится «отрываться» на уик-энд, там била ключом «светская жизнь». Пьер не имел возможности звать к себе гостей и достойно принимать их, а соответственно, и его никто к себе не звал. Иногда он слышал у себя за спиной пересуды, слышал о себе и об отце очень странные вещи. Говорили, что эти Лупьены – люди особые, своеобразные, немного чокнутые, держатся они, мол, всегда особняком… так, чудаковатые чужаки-одиночки. И так оно и было на самом деле. Пьер и Марк были в Лумьоле кем-то вроде эмигрантов, французов, оказавшихся эмигрантами во Франции. Они появились в Лумьоле внезапно, словно гонимые ветром листья, но вот откуда дул этот ветер? Если Пьер не хотел влипнуть в какую-нибудь неприятную историю, он должен был помалкивать, демонстрировать «свою благонадежность» и преданность друзьям, должен был им подсказывать на уроках, решать за них задачи и в дни, когда в городке происходили решающие футбольные матчи, он должен был бить без промаха и забивать голы. В кафе ему приходилось платить за напитки, а желающих промочить горло за его счет было немало. А что? Ведь его отец сам обирал всяких жуликов и прохвостов, он сам наживался за их счет, он возвращал компании вроде бы украденные у них деньги, ну и сам кое-что с этого имел; так что сыну оставалось только раскошеливаться.
На свое тринадцатилетие Пьер получил на ужин роскошное блюдо: фондю по-бургундски – и до отвала наелся мягчайших, нежнейших кусочков мяса, которые надо было обмакивать в кипящее масло. «С днем рожденья, малыш!» И они ели, ели, ели… у них даже глаза покраснели и зачесались от едковатого дыма, поднимавшегося от кастрюльки с маслом. Время от времени Марк бросал кусок мяса своему псу, бродившему вокруг стола и ловившему подачку на лету. Время от времени Марк подливал в бокал сына красного вина. Аппетит у них у обоих был отменный… тем паче что говорили они мало. Иногда они искоса и исподлобья посматривали друг на друга. С этими днями рождения приходилось держать ухо востро, вместе с днями рождения в дом проникали подозрения.
– Ну так что, мой маленький мечтатель?
– Ну так что, папочка?
– Да, так что, мой маленький рассеянный дружок? Пируем? Наслаждаемся? Получаем удовольствие?
– Я – как ты, папочка. Знаешь, это так вкусно, что я хотел бы иметь два желудка. А еще мне бы хотелось, чтобы твоя псина перестала жрать мое мясо.
На десерт у них были пирожные с кофейным кремом под названием «Мокко» и ароматный кофе. Марк достал бутылку старого рома и рюмочки для ликера. Каждый выпил по три рюмки. Пьер выпил бы еще и четвертую, чтобы только этот чудесный вечер продолжался и продолжался… чтобы она была здесь всю ночь… ведь она так ласково смотрит на меня… она никому не мешает, никого не беспокоит… никто и не знает, что она тут… никто, кроме меня… Но только молчок! Никому ни слова!
– Ну ладно, давай еще по капельке.
Завтра у него в ногах, наверное, будет такая тяжесть, словно они налиты свинцом. Вероятно, он будет «плавать» на математике, наделает кучу ошибок и получит низшую оценку на уроке французского, ему напишут в дневнике предупреждение за дерзкое поведение, в результате он, возможно, разозлится и пошлет всех своих преподавателей к чертям собачьим и ему будет на все и на всех начхать.
– Вот видишь, папа, мы о ней не говорили.
– О ком?
– Нет, мы о ней совсем не говорили, – задумчиво протянул Пьер.
Он знал, очень хорошо знал, что он хотел сейчас сказать… нечто доброе, ласковое… «Знаешь, папа, нам с тобой совсем не плохо вдвоем. Мы с тобой уже преодолели немало трудностей. В конце концов в жизни из любой, даже самой трудной ситуации можно найти выход… в конце концов мы с тобой во всем разберемся и из всех неприятностей выпутаемся, как во всем разбираются и из всего выпутываются другие для того, чтобы найти у жизни и привлекательные стороны, которых у нее нет… И все произойдет именно так благодаря тебе…»
На поверхности вина дрожали и переливались блики. В последнюю секунду Пьер, еле ворочая языком, процедил сквозь зубы какие-то клейкие слова, не желавшие слетать с губ:
– На сей раз я действительно поверил в то, что она и в самом деле умерла… А ты?
Не услышав никакого ответа, он повторил вопрос.
– Да, – коротко бросил Марк, внезапно резко вставая из-за стола, и вслед за этим «да» он рявкнул, что это чертово горячее масло ужасно воняет.
Марк как-то странно повел себя. Он схватил кастрюльку, в которой разогревалось масло, и отнес ее на кухню, где тотчас же устремился к раковине, чтобы ополоснуть лицо холодной водой. Мокрой холодной ладонью он провел по затылку и так и застыл над раковиной, склонившись под краном, с одной рукой за головой. Он чувствовал себя совершенно разбитым, но в то же время ощущал невероятное облегчение. Как это ужасно! Как плохо! Как отвратительно! Но… он оживал, он воскресал, он возрождался для новой жизни! И все это было так странно, что свихнуться можно! Ну надо же! Теперь у него в доме есть сообщник! И не кто-нибудь, а сын Нелли! Славный малыш Пьеро! Да, на сей раз она была против него бессильна! Ну ничего она не могла ему противопоставить, ничего не могла сделать, ничегошеньки! На сей раз она и вправду умерла! Ну да, она была забыта! Забыта! Какой подарок ты мне сделал, малыш!
X
Два дня спустя, сидя за рулем своего любимого джипа, Марк уже не был так уверен в том, что «на сей раз она и вправду умерла, что она забыта». Он готов был лопнуть от ярости и буквально умирал от страха. Вот ведь гадкий мальчишка! Марк гнал машину как сумасшедший; он делал все, чтобы не наброситься на Пьера и не прибить его, не задушить, а потому он обгонял и обгонял машины, выезжал на встречную полосу, прорывался между грузовиками, чуть ли не шел на таран… стремясь догнать юную цветочницу, смеявшуюся ему прямо в лицо, издевавшуюся над ним…
– Куда мы едем?
– Заткнись!
«Что я такого сделал?» – думал Пьер, судорожно вцепившийся в край сиденья. От страха он так вспотел, что был мокрый как мышь. Они вот-вот врежутся во встречную машину и разобьются насмерть! Но что же случилось? Сегодня утром отец отвез его в коллеж, а вечером… вечером почему-то в первый раз заехал за ним и ждал после уроков… последним был урок гимнастики… и вот теперь они несутся вдоль берега реки Див, несутся как сумасшедшие, то и дело чудом избегая лобового столкновения с огромными грузовиками, внезапно словно выныривающими из густого тумана; они несутся так, словно уходят от погони, спасаются бегством… но от кого и от чего?
– Мне плохо… меня тошнит…
Марк опустил стекла, и в машину с воем и посвистом ворвался ледяной порыв ветра. Пьер дрожал не то от холода, не то от страха. Он был еще в тренировочном костюме, смертельно усталый после тренировки по баскетболу. Так в чем же дело? Боже милостивый! Наконец Пьер осмелился бросить взгляд на зеркало, в котором отражалось лицо отца, но увидев, что лицо это искажено такой отвратительной и свирепой гримасой, что еще раз посмотреть не решился. Было шесть часов вечера, смеркалось. Они уже проехали по мосту над плотиной и теперь пересекали широкую безлюдную равнину. Если Марк задумал преодолеть перевал, то ничего у него не выйдет, потому что начал падать снег, а снегоуборочная машина пройдет только завтра утром.
– Проезд закрыт! – закричал Пьер с облегчением, увидев впереди щит с надписью «Опасность!» и оранжевую ленту, натянутую поперек дороги между двумя деревьями. В последний момент Марк избежал столкновения со щитом и разорвал ленту; один из ее концов прилепился к ветровому стеклу и затрепетал на ветру.
– Ты не включишь фары?
– Не лезь не в свое дело!
Когда машина вынырнула из небольшого леска, Пьер увидел, что небо на западе окрашено в красноватый цвет, и отблески заката ложатся на заснеженные склоны холмов, от чего на этих склонах что-то то и дело вспыхивало и гасло… Марк даже был вынужден опустить щиток, чтобы этот блеск не слепил его, но он, пожалуй, поторопился, потому что снег повалил густо-густо, и холмы скрылись за белой пеленой. Пьер, почти вдавленный в сиденье страхом, успел из своей «ниши» рассмотреть, что они находятся совсем рядом с краем обрыва так называемого «Большого провала» или «Большого ущелья», а внизу виднеются очертания словно полузатопленной в снежном мареве электростанции. Что они тут делают, почему они заехали сюда на этом своем старом драндулете? Его подташнивало от усталости и от потрясения, от страха перед отцом и от страха перед лицом вполне вероятной гибели в этой колымаге, несущейся по бесконечным петлям серпантина горной дороги, все время вихлявшей из стороны в сторону, то скользившей на обледеневшем асфальте, то шедшей юзом, то буксовавшей. Впереди не было видно ничего, кроме белой пыли и смазанных контуров скал на поворотах.
– Еще далеко?
– А ты как думаешь?
– Я думаю… я думаю, что ты угробишь свой джип…
– Это тебя я угроблю!
Марк резко крутанул руль, и машина внезапно развернулась в обратную сторону и остановилась на краю какого-то поля, где там и сям виднелись голые черные кусты. Скорее, то было не поле, а склон холма… Марк потянул ручной тормоз, быстро, в мгновение ока натянул перчатки и посмотрел на сына, сидевшего рядом. У Пьера от острого приступа страха свело желудок. Он слышал, как тяжело и шумно дышит отец, то через нос, то через рот, в полумраке он видел, как поблескивают его глаза, внимательно наблюдающие за ним. В томительном молчании прошло несколько секунд…
– Ну ты, маленький подонок, где мы находимся?
– Не… не знаю.
– Советую тебе ответить на вопрос!
– Да ведь ничего не видно…
Затянутой в перчатку рукой Марк протер лобовое стекло, издавшее звук, похожий на кошачье мяуканье.
– Ну так где мы? – спросил он, хватая мальчика за ухо и заставляя его поднять голову и ткнуться носом в стекло, за которым были только темень и белая пелена из снежных хлопьев.
– Мы… мы… здесь…
– Балда!
Марк включил «дворники» и фары, лучи света пробили брешь в белом мареве.
– Ну так как? Теперь ты знаешь, где мы находимся?
– Я здесь никогда не бывал…
– Вылезай!
Пьер уже так замерз в машине, что ничего не почувствовал, когда оказался почти что по колено в снегу. Лучи света от фар с трудом пробивали мрак и таяли в тумане и мгле. Пьер натянул на голову капюшон. Хлопнула дверца автомобиля. Пьер потянулся, чтобы отодрать от ветрового стекла кусочек прилипшей к нему оранжевой полиэтиленовой пленки и снять такой же кусок, намотавшийся на антенну, но отец схватил его за рукав и потащил в сторону занесенного снегом крутого склона. Он шагал размашисто, огромными шагами, а Пьер, то и дело спотыкаясь и падая, волей-неволей следовал за ним, умоляя не спешить, не идти так быстро. Он видел, что склон впереди круто уходит вниз и теряется в серебристой мгле, видел, как этот склон превращается там впереди в бездну, откуда тянет ледяным дыханием смерти.
– Нет! – завопил пришедший в ужас Пьер. – Нет!
Он рухнул на колени прямо в снег, но отец остался глух к крикам сына и продолжал продвигаться вперед, таща полураздетого мальчика по снегу волоком.
– Где мы находимся? Отвечай!
– Около ущелья, – еле выговорил сквозь всхлипы Пьер, цеплявшийся за обледеневшую траву.
– Ты здесь уже был?
– Да…
– Встань! Встань на ноги!
Он с трудом поднялся и стоял, ощущая в ногах противную дрожь, стоял лицом к пропасти глубиной не менее пятисот метров, о которой имелись упоминания во всех путеводителях и рекламных буклетах для туристов, где эту пропасть называли самой эффектной, самой глубокой во всей Европе. Боковым зрением он видел рядом с собой силуэт отца.
– Зачем ты сюда приходил? Что тебе здесь было нужно?
– Ты сам меня сюда привел.
– А почему и зачем я тебя сюда приводил?
– Не знаю… я забыл…
– Забыл? Да? А что ты об этом скажешь?
Раздался легкий шорох, в снег ударил лучик света от карманного фонарика, и в пятне света на снегу он узнал свою упавшую на землю черновую тетрадку.
– Подними!
Тетрадь валялась метрах в трех от Пьера. В круге света плясали снежинки, а дальше… за пределами этого круга царила тьма, так что нельзя было разглядеть, где начинается обрыв, вот почему Пьер не двинулся с места.
– Подними! – заорал отец, толкая Пьера в спину, и он упал на четвереньки. Безумно напуганный сознанием чрезвычайной близости края пропасти, Пьер пополз к тетрадке на коленях.
– Читай!
Пьер так трясся от страха, что с превеликим трудом мог переворачивать страницы; снежинки падали на тетрадь и таяли прямо на расплывавшихся под ними словах, к тому же мысли его были заняты не чтением, а тем, что его скрюченные от холода пальцы ног упираются в ботинки и что от малейшего движения он может заскользить вниз по склону, туда, в пропасть. Он не знал, что он должен прочесть… ах да, вероятно, вот это… черновик сочинения, на одном из листков которого отец наверху нацарапал: «Мерзавец! Дрянь! Подонок!» Глядя на листок сквозь застилавшие глаза слезы, он попытался слово за словом расшифровать, что же там было написано… Это была плохо «сляпанная», нелепая история, описание неких воспоминаний, и все это было написано по заданию преподавательницы по французскому языку и представляло собой очередной вариант истории, превратившейся в его навязчивую идею, потому что он постоянно ее «жевал и пережевывал», потому что он ее рассказывал сам себе постоянно, тысячи и тысячи раз, которую он «прокручивал» в уме всегда и везде: на уроках в коллеже, во время игры в теннис, когда катался на велосипеде, когда спал и вообще всякий раз, когда был один или чувствовал себя одиноким и ему в голову лезли, как и любому человеку, всякие мысли, но только ему в отличие от других с особым упорством приходила на ум одна и та же мысль. Итак, на просьбу преподавательницы описать свои самые яркие детские воспоминания он описал то, что произвело на него самое сильное впечатление. Он вспомнил то время, когда его мама была с ними, он вспомнил и о том, каково было его удивление в тот день, когда она вдруг исчезла; он помнил этот день поминутно, посекундно, потому что она ведь только что была в доме, была, была, а потом вдруг исчезла… так же неожиданно, резко, как гаснет свет, если щелкнуть выключателем. В то утро ему пришлось одеваться самому и не все у него получалось сразу; что-то не натягивалось, что-то не застегивалось. Он был растерян, сбит с толку, чувствовал себя брошенным, и у него на языке вертелся всего лишь один вопрос, который он все повторял и повторял как попугай. Его отец сердился, нервничал, терял терпение и говорил ему: «Да, Пьер», «Ты знаешь это лучше, чем я», «Конечно, нет, ведь она терпеть не может и боится попугаев», «Попробуй только, скажи это еще раз, и я тоже уйду из дому». Но Пьер упрямо стоял на своем, потому что… потому что было нечто такое, что было сильнее его, и он опять и опять спрашивал: «А она вернется?» В тот день они отправились ужинать к Жоржу; его отец сказал: «Для меня это достаточно тяжелый удар, но для малыша это не просто неприятность, как для меня, для него это настоящее несчастье». Он гладил Пьера по голове, ерошил ему волосы, и это было так непривычно, так приятно, что действовало на малыша как дурман, как вино. Ему было очень грустно, но одновременно он ощущал прилив какого-то чувства гордости из-за того, что удостоился такого внимания и такой ласки. За десертом все выпили без особой на то причины. Жорж предложил отправиться «нанести визит» дочкам старьевщиков, но отец Пьера заявил, что ему осточертели эти жалкие и ничтожные девки, что вообще он измотан до последней степени, и они вдвоем покинули заведение Жоржа. На улице он сказал Пьеру, что знает, где найти Нелли, вот только надо им туда поспеть вовремя, до наступления ночи. Почему-то Пьер запомнил, что в небе было много птиц, они все кружили и кружили над полями. Всякий раз, когда пробивался солнечный луч, Марк говорил, что это Нелли посылает им хорошую погоду. Они поехали куда-то в сторону холмов и гор, они забрались на такую высоту, что даже вынуждены были остановиться из-за того, что на дороге образовалась ледяная корка. Место было очень пустынное, какое-то дикое… Отец велел Пьеру идти и искать маму. Когда он вышел из машины, то ужасно струсил при виде огромной, бездонной пропасти, зиявшей впереди. Над пропастью медленно кружили и парили птицы. Он вернулся к джипу, чтобы рассказать обо всем увиденном отцу, но стекло было поднято, а постучать он не осмелился. Пьер повернул назад и прошел немного в направлении, в котором шел первоначально. Именно тогда он и нашел свою мать, как ему показалось, но к машине возвращаться не стал, а крикнул: «Она здесь!», и его отец бросился к нему со всех ног, схватил его за плечи и стал трясти, издавая при этом какие-то странные звуки: он не то рыдал, не то ругался, не то просто грозно ревел, не то выл. Пьер не мог отвести взгляд от рюкзачка его мамы, болтавшегося на ветке куста на самом краю обрыва. «Давай, ползи туда, – сказал ему наконец отец. – Я для этого слишком тяжел», и Пьер кое-как добрался до куста, старясь не смотреть вниз. Он подбадривал себя тем, что представлял себе, что она находится в рюкзачке, что она сидит там, тихая и молчаливая, как закрытая книга. Он благополучно дотянулся до рюкзачка, снял его с ветки и притащил отцу, но тот только посмеялся над ним и сказал, что это просто старье, которое следует выбросить на помойку, и эту дрянь не стоит даже и открывать.
– Несколько месяцев спустя я нашел рюкзачок под лестницей…
Не успел Пьер дочитать последние слова, как отец выхватил у него тетрадь из рук, и она полетела в пропасть. Свет погас…
– Кто еще это читал?
– Никто…
Пьер хотел повернуться, но одна тяжелая ладонь отца легла ему на затылок, другая заткнула ему рот.
– Ты что, не понимаешь, что означает, когда тебе говорят: «Молчи! Держи рот на замке!»? Не понимаешь?
Пьер не мог больше дышать. Он весь как-то обмяк, словно из него выпустили воздух, перед глазами стоял какой-то красноватый туман. Он машинально цеплялся за руку, душившую его. Перед глазами быстро-быстро мелькали снежинки… Но кошмар кончился. Руки, только что душившие его, разжались, похлопали его по плечам и спине… И вот уже отец прижал его к себе…
– Да ладно, не важно… теперь уже все равно, – сказал Марк немного усталым, невыразительным голосом. – Из-за такой ерунды ты, пожалуй, еще простудишься насмерть! Вот идиотизм!
Он накинул Пьеру на плечи свою куртку на меху, заставил надеть свои перчатки и повел его к машине, вокруг которой от света фар образовался круг, похожий на ореол; Марк продолжал прижимать Пьера к себе, как будто хотел согреть его жаром своего тела.
Прошло совсем немного времени, и они оказались у Жоржа. Они ужинали в атмосфере всеобщего веселья и оживления, обычно воцарявшейся в заведении в пятницу вечером вместе с пришедшими к Жоржу «важными городскими шишками». Марку по его заказу принесли двойную порцию виски, и он поставил стаканчик как раз посредине между своей тарелкой и тарелкой сына. Его взгляд блуждал по залу, на секунду-другую задерживаясь то на лице судьи, то на физиономии мэра, то на роже шефа местной полиции, то на лысине директора лицея имени Галилея, то на лицах врачей и достойных супруг этих важных персон. Он улыбался…
– Я их всех знаю, у всех у них денег полным-полно, и все они – мерзкие типы, дураки и негодяи, но они нам платят, они дают нам возможность прилично жить, так что будь с ними любезен и держись прямо. Давай проведем с тобой славный вечерок. Ну, что ты хочешь: бифштекс или мясо на вертеле?
– Бифштекс, – ответил Пьер так тихо, что его едва было слышно.
– А на закуску?
– То же, что и ты.
– На твоем месте я бы отведал креветок.