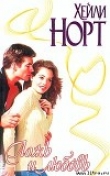Текст книги "Осмос"
Автор книги: Ян Кеффелек
Жанр:
Контркультура
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)
Пьер перешел в другую часть кухни. Поколебавшись всего лишь секунду, он принялся мыть пол, приговаривая, что мухи до смерти боятся испарений моющих средств, содержащих жавель. Он протер до блеска телефон, молчавший как рыба уже второй день. «Разве жизнь не прекрасна! Жизнь есть жизнь, она такая, какая она есть, вот и все». Наконец, чувствуя себя свободным и готовым приступить к работе по толкованию сентенции Фонтенеля и идей его единомышленников, Пьер поднялся наверх, в свою комнату. Ну и бардак! Нет, теперь уже эта берлога не выдерживала никакого сравнения с кухней… Было около половины второго ночи. На небе сияла полная, какая-то нереальная, фантастически огромная луна, и было почти так же светло, как днем. Река Див тихо плескалась среди зарослей тростника, и серебристые отблески на мелкой ряби были столь ярки, что свет их, казалось, доходил до звезд. Почтовый ящик Пьера в электронной почте был опять пуст. А он-то уже приготовился к тому, что на него обрушится поток оскорблений и просьб вперемешку со смертельными угрозами. Нет, ничего подобного! Господа захребетники решили оставить его в покое, как говорится, наплевать и забыть… Можно было подумать, что они все разом уже поставили крест на домашнем задании и «уволили» его, дали ему отставку. Он отправил несколько сообщений по адресам приятелей, но ответа не последовало. А ведь у него и так приятелей было немного… Они не сидели по домам, они где-то развлекались без него, скорее всего они о нем не вспомнят до завтрашнего вечера. Ну да, конечно, они дождутся последней минуты, а потом начнут хныкать.
Пьер чувствовал себя совершенно разбитым и грязным как трубочист; хоть он и валился с ног от усталости, он все же решил принять ванну. Зажурчала вода… Эмаль блестела как никогда после исчезновения его матери. Пьер еще не успел мысленно произнести это звенящее слово, как вдруг он увидел «ее» в прозрачной воде, все такой же, как прежде, с распущенными волосами, с нежной мягкой кожей, с книжкой в руках. Он очень осмелел, если решился смеяться и мыться в ванне рядом с ней. Он запретил себе смотреть на стену. А была ли там когда-нибудь ее тень? Или ее, этой тени, там никогда не было? Наконец он все же бросил взгляд на стену: там было пусто. Губы его сами собой стали напевать забытую мелодию колыбельной песенки, от которой у него заледенела кровь. Колыбель опустела, заброшена, забыта, вот свинство! Пьер на минуту прижался щекой к эмалированному боку ванны. Он припоминал, что «она» делала то же самое, и что он тогда тоже спрашивал себя, о чем «она» думает. «Ты знаешь, Пьеро, что бы я сделала, если бы…» Однажды он увидел, как по ее щекам поползли слезы. Но она, конечно, засмеялась и сказала сквозь смех: «Да это же вода, Пьеро, не волнуйся». Сидя в ванне, Пьер выпрямился, Он видел свои ноги. Сегодня воскресенье, и можно без опаски остричь ногти, а то уж больно они отросли и сделались кривыми, так что смотрят в разные стороны. Он дрожал от холода, зубы у него стучали. Можно остричь ногти… а можно, пожалуй, дать им еще отрасти… Пьеру было холодно, но в голове у него пылал костер, настоящее пекло, правда, без дыма и огня, и у него было ощущение, что в этом пекле беззвучно, без единого крика сгорают все слова. Он медленно-медленно сполз вниз, так что под водой оказалась и его голова. Вытянув руки вдоль тела и плотно прижав их к бокам, Пьер сделал выдох и изгнал из своих легких весь воздух. Фонтенель больше с ним не говорил. Истина никогда не представляла никакого интереса. Ну какой в ней толк?! Отсюда вывод: «Сжатые руки не стоят даже того, чтобы их отрубили, не стоят затраченных усилий на эту „операцию“, потому что они пусты, в них ничего нет!» Пьер как будто чего-то ждал, сам не зная чего. Его сердце выло, ревело и рычало в жерле клокочущего вулкана…
Взрыв смеха заставил Пьера выскочить из воды. Настало время сесть за стол… Вот только он забыл зачем. Он довольно долго простоял около стола, с трудом восстанавливая дыхание, согнувшись пополам и тупо глядя на разбросанные по полу скомканные листки. Он услышал, как кто-то шептал ему прямо в ухо… Он лежал в постели, и кто-то говорил ему: «Послушай, Пьеро, это очень важно». Кто-то повторял: «Ты знаешь, что бы я сделала, если бы…» Если бы… Если бы что? И при чем здесь Фонтенель? И что делать с этим проклятым Фонтенелем?
Прихватив с собой шариковую ручку и стопку бумаги, Пьер вновь залез в ванну и закрыл глаза. Шли минуты, время тянулось медленно и незаметно, и Пьера посетила новая идея, новая мысль, еще более приятная, чем прежняя… Так вот, он лежал в своей постели, но не один, потому что рядом с ним кто-то читал книгу. Он слышал, как по комнате порхал легкий ветерок и пытался переворачивать страницы; Пьер слышал шелест этих страниц. «Знаешь что, Пьеро?» Нет, не то… «Что с тобой, Пьеро?» Да, он лежал в своей постели, и его мать только что его поцеловала; у нее были мокрые волосы… Да, это было как раз накануне ее исчезновения, а он и не знал, что больше ее не увидит… Да, но как бы он мог узнать, что она уйдет или уедет без него? Как мог он знать? Он тогда делал вид, что спит, только притворялся спящим, а на самом деле все слышал. Она говорила: «Завтра нас здесь уже не будет, мы с тобой уже будем далеко-далеко, мы поедем в Испанию, к морю, но тсс! Смотри! Никому ни слова! Это секрет!» Пьер тогда открыл глаза, и они с матерью весело украдкой посмеялись, прыская в кулак, как два воришки… Улыбаясь этим воспоминаниям, Пьер протянул руку и, не открывая глаз, на ощупь попытался нашарить на стуле стопку бумаги… Он хотел написать слово «Испания», а слова вдруг понеслись перед его мысленным взором, как легкие дикие животные, косули или газели, которым ничего не стоит стать невидимыми, они неслись друг за другом длинной, нескончаемой вереницей, конец которой терялся где-то в песках пустыни. Их было так много, они были так прекрасны, так изящны, так доверчивы… Казалось, целая книга распадалась на отдельные слова, выпускала их со своих страниц, чтобы доверить ему какую-то забытую стародавнюю тайну. Пальцы Пьера разжались, ручка и бумага с тихим шорохом упали в воду. Весь покрытый еще не сошедшими синяками и незажившими царапинами, Пьер спал… Спал в Испании.
Если он не сдаст вовремя сочинение, то будет отчислен. Если он будет отчислен, то это значит, что он больше не увидит Лору, малышку Исмену, своих друзей-захребетников. Он, вероятно, уедет отсюда, покинет эту комнату, спустится по лестнице, повернется спиной ко всем образам и картинам, которые он любил, оставит их позади. Он больше не будет мыться в ванне, где когда-то плескалась его мать, он больше не сможет вырезать ее имя под столешницей, куда Марку даже в голову не пришло заглянуть. Он будет вынужден, будет обязан последовать за Марком туда, куда хотела увезти Пьера на мотоцикле его мать, увезти тайно, так, чтобы Марк об этом не узнал… она хотела уехать в ту страну без Марка, и сделать это так, чтобы Пьер не выдал их секрет… Если бы Пьер написал хорошее сочинение, Лора, наверное, сказала бы: «Вы не можете похитить его у нас, господин Лупьен, ведь он – гордость нашего учебного заведения, для нашего лицея – большая честь иметь такого умного и способного ученика». А если он не напишет сочинение и не сдаст его вовремя, его, вероятно, выставят на всеобщее обозрение посреди двора и все будут указывать на него пальцем, в том числе и Лора. Его отец придет с маленьким чемоданчиком и двумя билетами на рейсовый междугородний автобус. Наверное, он ему скажет: «Вот, это из-за тебя мне пришлось все распродать. Из-за тебя мы будем вынуждены жрать одни апельсины до конца жизни. Кстати, твоя мать ненавидела апельсины, она говорила, что они похожи на тебя».
В холодной воде Пьера опять начала бить дрожь, зубы у него опять застучали. Занимался рассвет. Колено Пьера коснулось намокшей, раскисшей пачки бумаги, всплывшей на поверхность, вздувшейся как намокший и оттого ставший ноздреватым кусок хлеба. Хороший подарок ко Дню Матерей! Надо бросить его в мешок для мусора, да не забыть швырнуть туда же плакатик, на котором в категорической форме выражен запрет на чтение в постели: так прямо и написано: «Не читай лежа!» На дне ванны валялась и истекала чернилами ручка, точно так как человек истекает кровью.
В почтовом ящике электронной почты по-прежнему пусто, все сообщения словно канули в небытие. Сочинение на нуле. Пьер – полный ноль, то есть – полное ничтожество. У него в комнате все было прибрано, все было чисто, буквально вылизано, но почему-то все здесь наводило уныние, ощущалась какая-то опустошенность, безысходная тоска. Пьер чуть раздвинул шторы и посмотрел в окно. Горизонт словно прочертил на холмах четкую розовую линию, как будто кто-то использовал для этой цели красный фломастер… Пьер почему-то не заметил никакой разницы между тем, как сад выглядел до «расстрела», и между тем, как он выглядел теперь. Пьер кое-как оделся: напялил на себя грязную футболку, подобранную с пола, и натянул первые попавшиеся под руку штаны. Он подошел к раковине, чтобы почистить зубы, и увидел отцовское ружье, которое он сам забыл около унитаза. Ружье было сложено пополам, и было видно, что в стволе остался один патрон. Да, можно было бы снести прямой наводкой увядшую головку одного цветка… или прострелить проклятую руку Фонтенеля… Пьер ощущал во всем теле какую-то непривычную легкость, его слегка пошатывало, в ушах шумело, словно в комнате жужжали то ли мухи, то ли шмели. Он посмотрел в зеркало и увидел отражение изнуренного болезнью подростка, явно выздоравливающего, но не спешащего почувствовать себя лучше и выздороветь окончательно. Волосы у него здорово отросли и падали на глаза… Он схватил ножницы и обстриг волосы так, что стал отчетливо виден шрам. Затем он кое-как побрился. Он очень понравился себе, ведь, на его взгляд, он стал с этими коротко остриженными волосами таким красавцем, без намека на юношескую щетину, с этим шрамом надо лбом в форме банановой кожуры. Эй, как дела, испанец?
Подержав в руках английскую бритву, Пьер взял в руку японскую ручку. Он взял наугад первую попавшуюся тетрадь, в которой оставалось достаточное количество неисписанных страниц, и написал: «Да плевать я хотел на Фонтенеля и не только на него одного!» Затем он тщательно все зачеркнул. Перед самоубийством у него оставалось еще часов десять… Холодные гильзы валялись под ногами, при малейшем движении они начинали кататься по полу и греметь. Человек с застывшими в серо-зеленых глазах вопросами вскоре должен вернуться. Пьер не хотел, чтобы его застали врасплох за сочинением, чтобы к нему начали приставать со всякими глупостями: «Покажи-ка, что ты там написал, дуралей, покажи-ка папе, что там наболтал твой поганый язык». Он набрасывал кое-какие заметки, зачеркивал их, вновь писал одни и те же фразы, клялся себе в том, что больше не будет начинать с новой страницы всякий раз, как зачеркивает фразу, давал обещание больше никогда ничего не зачеркивать, не разделять слова огромными интервалами…
Пьер вырвал из тетради последнюю страницу и пошел искать под матрацем свою особую тетрадь, ту самую, что представляла собой нечто вроде дневника. У него осталась всего одна ручка и всего тридцать восемь страниц для свободного излияния мыслей. А время шло, часовая стрелка вращалась, бежала по кругу так быстро, что могло показаться, будто она вот-вот проделает в часах дырку. «Господин…, драга, принадлежащая таможенному ведомству, подняла со дна пруда Бер обломки моторной яхты, принадлежавшей некой мадам Нелли Коллине…» Он зачеркнул все написанное. Таким образом он как бы самоустранялся… Он не хотел ничего знать. Истина… Правда… Последнее, что он хотел бы узнать в этой жизни, была та самая истинная правда или правдивая истина, которая не сваливается с небес на голову вместе с Фонтенелем и метеоритами, а действительно является самой настоящей правдой жизни, когда она состоит в том, что «она» уехала на мотоцикле в снегопад и оставила его одного в постели. Нет, не хотел он знать такую правду! Не хотел! Он истратил чуть ли не пол-литра чернил, чтобы утопить в них этот кошмар. В поисках вдохновения он схватил словарь цитат и «выудил» оттуда следующую сентенцию: «Насколько я могу припомнить, я ничего не помню». Ну и чушь! Просто блевать тянет! Ну, он-то, кстати, кое-что помнил… Он уже собрался было сломать от злости последнюю ручку, как вдруг какая-то фраза, словно чертик из табакерки, буквально выскочила из-под шарика и покатилась, покатилась, а за ней на бумагу цепочкой полезли другие фразы, и за час, а то и меньше он накатал без особого напряга семнадцать страниц, он «разжал ладонь» легко, как раскрывают створки устрицы, он рассуждал, анализировал, доказывал, приводил примеры для иллюстрации верности своих рассуждений, сделал соответствующие выводы и написал, вернее, почти написал заключение, но когда ему оставалось написать последние три слова, чернила в ручке иссякли. Даже за незавершенную работу ему должны были поставить 20 баллов, никак не меньше, ибо она того стоила. Он взял красную ручку и сам вывел: «20. Прекрасное сочинение».
На улице было темно. От плотины изредка доносилось мерное гудение динамо-машины, вырабатывающей ток, а больше никаких звуков с реки не долетало: ни смеха, ни криков, ни даже плеска воды. Было десять часов вечера, и Пьер перечитывал свое сочинение, чтобы набрать его на компьютере и вывести на принтер. В четверть одиннадцатого он покорился внутреннему голосу, призывавшему его убрать первую фразу, и сделал это. Вторая фраза потеряла всякий смысл, и он зачеркнул ее в половине одиннадцатого. Он пользовался толстым зеленым фломастером с закругленным кончиком. Третью фразу он вымарал автоматически, даже не удосужившись перечитать ее. Без десяти двенадцать от сочинения не осталось ровным счетом ничего, ни единого «предательского» словечка, которое могло бы выдать его с головой. Пьер почувствовал невероятное облегчение. Именно тогда он услышал, что внизу кто-то ходит.
XVIII
Пьер с трудом ковылял за Малышом по тропинке. Странное, изогнутое в виде радуги облако скрывало луну. Пьер плохо ориентировался в темноте, идти ему было тяжело, и он взмолился:
– Послушай, не так быстро!
Малыш остановился и подставил Пьеру плечо, чтобы он на него оперся и немного перевел дух. Стремясь преодолеть заикание, он, почти выпевая слова, сказал, что надо идти, что нельзя заставлять ребят ждать, что Ган может занервничать, перевозбудиться, и тогда он устроит дикий скандал и всем не поздоровится; так что надо идти, да, собственно, они уже пришли.
– Хорошо, хорошо, сейчас, – отозвался Пьер, полуослепший от острых приступов боли, – все в порядке, идем.
Пьеру было очень больно, боль причиняла ему страдания, но страх, терзавший его в медпункте, вдруг исчез, улетучился. Еще совсем недавно он даже не представлял себе, что ему делать, а теперь знал, как следует вести себя. Он рассмотрел историю своей жизни внимательно, пристально, как всматривается в раскаленные угли колдун, склонившийся над ними и измельчающий их в поисках чего-то, что необходимо ему для его ремесла. Он осмелился посмотреть на свои обожженные пальцы. Он мысленно вернулся в тот дом, где постоянно жила тревога и где он иногда делал вид, что счастлив. Он вспоминал самого себя, эти ночи, эти шумные ссоры, эти вопли, а потом следы, оставленные шинами, когда машина резко затормозила, бутылочку шампуня, белые гвоздики, тающий снег, усталый голос, эти жалкие пироги в дни рождения, больше подходившие для поминок, эти стаканы рома и это хныканье, эту комедию, которую день за днем ломал перед ним этот мрачный, непонятный человек, которого он звал отцом. Где был теперь тот ребенок, что защищал тень своей матери и думал, что эта тень в свою очередь защищает его? Что с ним сталось? Что сталось с тем подростком, который вырезал на столешнице изображение груди Лоры и ласкал живот Исмены, гладкий и прекрасный, как слоновая кость. Где он? Где… Где… В тюрьме! И через несколько минут он превратится в настоящего подопытного кролика пенитенциарной системы, а на языке юных зеков – в «ковбоя», в юного преступника, мечтающего о том, чтобы за ним прилетел белый гидросамолет.
Идя след в след за Малышом, из-под стоптанных, разбитых башмаков которого во все стороны летел песок, Пьер думал о том, что для него настал час вырваться наконец из ловушки семейной тайны, из семейного капкана. Он ощущал на лице дуновение морского бриза, он видел, как впереди на пляже взвивались к небу языки пламени. Ему уже не терпелось поскорей добраться до того места, где пылал костер, вступить в освещенный круг и говорить, говорить, говорить, обращаясь к «ковбоям», собиравшимся там каждую ночь, чтобы вновь и вновь строить совершенно неосуществимые планы невозможного побега.
Ему предложили сесть, но он отказался. Не обращая внимания на огонь, на канистру с горючкой, на низко нахлобученную на голову Гана шляпу и злобно поблескивавшие из-под ее полей глаза, на воцарившееся при его появлении молчание, в котором ощущалась смутная угроза, Пьер обвел взглядом этих маленьких зверенышей, принадлежащих вроде бы к роду человеческому; они были готовы его слушать, высказывать ему одобрение криками или аплодисментами, или, напротив, освистать его, а потом поступить так, как поступали с побежденными гладиаторами древние римляне: опустить большие пальцы рук вниз, что означало смертный приговор, и потом завершить эту жуткую ночь дикарской пляской и глумлением над его обугленными останками. Пламя костра рождало настоящую фантасмагорию теней, в которой переплетались чьи-то воздетые вверх руки, блестели глаза и хищные оскалы искривленных усмешками ртов. Он на секунду задержал дыхание и в последний раз, подчиняясь движению сердца, вызванному не жалостью к себе, а скорее сожалением о загубленных детстве и юности, он еще раз увидел того Пьера, с которым сейчас должен был надолго, а может быть, навсегда, распрощаться.
– Привет, – сказал он, сосредоточивая все свое внимание на цепочке глаз, устремленных на него, и принялся рассказывать историю, которой суждено было стать легендой на острове Дезерта.
– Я убил человека, и, убивая его, я считал свои действия вполне оправданными. Вы первые, кому я говорю об этом, и я знаю, что многие люди дорою бы заплатили за то, чтобы оказаться сейчас на вашем месте: адвокаты, легавые, они все считали, что сидят в первых рядах. Они с нетерпением ожидали начала «представления»; они мне угрожали: «Признавайся, а не то схлопочешь такое! Мало не покажется! Ну подожди, вот только окажешься перед судьей, уж он-то тебе задаст!»
Судье по делам несовершеннолетних преступников предстояло потерпеть сокрушительный провал, пытаясь установить точный ход событий и заставить двигаться в правильном направлении обезумевшую стрелку часов тех субботы и воскресенья, о которых Пьер, казалось, ничего не помнил. Она неизменно должна была наталкиваться на мягкий взгляд ласковых карих глаз, на глуховатый голос, звучавший еще тише от того, что его обладатель, казалось, чувствовал и осознавал, какая беда на него свалилась. И вот этим тихим голосом обвиняемый без рисовки, без бахвальства отвечал: «Я шучу»… «Я пошутил», повторяя эти ответы на разные лады, как птица без конца выводит свою мелодию, чтобы остаться птицей… Да, госпоже судье предстояло столкнуться с горем мальчишки, «выдрессированным» таить в себе все, вплоть до того, что он еле-еле произносил свое имя. Ей предстояло столкнуться с горем, которое невозможно выплакать со слезами, да и не было слез.
Повинуясь голосу совести, судья тщательнейшим образом изучила дело Пьера и рассматривала его в суде также по совести. Следует заметить, что вообще-то она предпочла бы, чтобы это дело досталось кому-нибудь другому, а ее бы сия чаша миновала… Она выслушала множество свидетелей… Детский психиатр рассказал ей про нейрулу, особый период развития плода во чреве матери, когда у человеческого зародыша начинает формироваться нервная система. Многие преподаватели и вообще люди, знавшие Пьера, отмечали у него одну особенность: склонность, причем явную, оставлять без ответа заданные ему вопросы. Эта черта характера фигурировала уже в его дневниках и табелях в начальной школе. Свидетели проходили перед судьей бесконечной чередой. Однажды после полудня судья выслушала сбивчивые показания растерянной ученицы пятого класса с испуганными глазами. Девочка пришла специально сказать, что Пьер был очень милый и славный парень. Каждое утро судья получала записку, которую она передавала в лабораторию по криминалистике и судебной психиатрии. В этих записках Пьер на изысканном французском языке высокопарным слогом выражал свое странное, нелепое желание увидеть своего отца и объясниться в его присутствии, потому что скрывать ему нечего. Он также выражал удивление по поводу того, что в который уже раз вынужден требовать, чтобы ему вернули его тетрадь, которая была ему очень нужна для того, чтобы он мог закончить сочинение.
Следователи и психиатры многого ожидали от исчерканных и скомканных листков, найденных в комнате Пьера и конфискованных в качестве вещественных доказательств. Они не сомневались, что сумеют прочесть слова, оставшиеся невидимыми под слоем субстанции, оставленным зеленым фломастером. Но из лаборатории эти листки вернулись нерасшифрованными, потому что, как оказалось, расшифровывать было нечего. В результате химической реакции зеленые чернила разложились, но под ними ничего не оказалось, кроме одной-единственной фразы Фонтенеля… на бумаге не осталось никаких следов… там никто ничего не писал… Стол Пьера отправили на экспертизу, и психологи увидели во всех рисунках, вырезанных на столешнице, множество символов, являвшихся, по их мнению, отображением детских и юношеских страхов. Изучив столешницу, ученые сделали множество выводов и заключений, порой противоречивших друг другу. Прошел год.
Начались открытые слушания по данному делу. Зал судебных заседаний был переполнен. Свидетели приносили присягу и клялись говорить только правду. Участь Пьера была решена. Он раскрывал рот только для того, чтобы в очередной раз «пошутить». Не моргнув глазом, он выслушал приговор: восемнадцать лет изоляции от общества. Потом на глазах у всех что-то считал на пальцах. Когда его выводили из зала, он улыбнулся Лоре.
Лора Мейер, едва успев увидеть, как за Пьером захлопнулась зарешеченная дверца полицейского фургона, загорелась желанием открыть эту дверцу. Она боролась…
Годы спустя она все еще ждала у подножия невидимой стены, возведенной чиновниками, стены, за которой находился недосягаемый для Лоры, невидимый Пьер, утративший за этой стеной представление о времени.
Именно Лора привела Пьера в полицейский участок, чтобы он сдался добровольно. В понедельник вечером, не увидев Пьера в лицее, Лора забеспокоилась. У нее появилось дурное предчувствие, сродни тем кошмарным видениям, что терзали ее по ночам, заставляли ее просыпаться с чувством, что надо действовать, и действовать немедленно. Она заехала домой, переоделась и отправилась к дому Лупьенов. Привычные «декорации» нисколько не изменились, неподвижный автомобиль стоял под тутовым деревом, среди благоухавших лип виднелся дом, на втором этаже горел свет, как всегда, словно он горел целую вечность.
Было два часа ночи. Сладкий аромат липового цвета накатывал на Лору волнами, через определенные промежутки времени, словно дышало какое-то живое существо. Стояла прекрасная летняя ночь, теплая и светлая. Лора свернула с дороги и перелезла через низкий заборчик, не дойдя до калитки; подошла к дому. Дверь была открыта, при лунном свете можно было различить тень, отбрасываемую кухонной раковиной, стол, покрытый светлой клеенкой, лестницу, ведущую наверх, окно. Не колеблясь она вошла в дом, потому что какое-то интуитивное чувство панического страха буквально влекло ее к свету, освещавшему лестничные ступени, она поднялась наверх по витой лестнице, по которой до нее поднимались три человека. Лора оказалась в комнате-мансарде, там было пусто, но у нее возникло ощущение, что обитатели покинули это жилище слишком поспешно. Золотая звезда, оставшаяся после давно прошедшего Рождества, болталась на кончике веревки, спускавшейся с потолочной балки; свет красной лампы озарял кучу мусора на полу, где вперемешку валялись скомканные листки бумаги, кукурузные хлопья, сломанные шариковые ручки, книги, стреляные гильзы от ружейных патронов, небрежно брошенная одежда. Свежий ночной воздух, видимо, проникал в комнату через открытое окно, и у Лоры вдруг защекотало в носу. Ей почему-то стало страшно, хотя видимых причин для страха вроде бы не было… на ватных, подгибающихся ногах Лора дошла до письменного стола и прочла свое имя, начертанное на обложке толстой тетради. Двумя пальцами она подняла то, что осталось от фотографии Нелли, а именно серебристую рамочку, прислоненную к стене и изрешеченную пулями рядом с таким же изрешеченным моментальным снимком. Лора изо всех сил пыталась рассуждать трезво: нет, ей здесь делать нечего, Пьер и Марк отправились на прогулку, они скоро вернутся. Либо она быстренько унесет отсюда ноги, либо это ночное приключение закончится для нее приводом в полицейский участок и заключением в камеру за незаконное вторжение в частное владение. Но она никак не могла уйти. Ее сердце бешено билось, когда она смотрела на стреляные гильзы. Всякий раз, когда Лора делала шаг к двери, перед ее взором возникало видение: прилежный ученик что-то старательно пишет, сидя за столом, вдруг за его спиной появляется его отец и убивает беднягу выстрелом в спину… Она смотрела на чернильные пятна на столе, и они в ее глазах упорно обретали красный оттенок. Лора сама себя уговаривала, что все ужасы ей только кажутся, ведь если то, что ей померещилось, было бы правдой, то в комнате повсюду была бы кровь…
Лора отвернулась от стола и еще раз осмотрела погруженную в темноту комнату. Вообще-то это место было ей почти знакомо, как если бы она здесь уже не раз бывала. Нелли часто рассказывала ей о том, как она проводила здесь ночи, а внизу сидел или лежал на диване мужчина, испытывая острое желание и чувство неудовлетворенности, он воображал себя телохранителем и сторожем Нелли, он постоянно поднимался к ней наверх, чтобы узнать, все ли у нее в порядке и не нуждаются ли они в чем – она и ее маленькое тело… Глаза Лоры постепенно привыкали к полумраку, и она узнала очертания старой ванны… И вот тут волосы на голове у нее встали дыбом, потому что она была не одна: она различила чей-то неподвижный силуэт. Этот кто-то, казалось, наблюдал за ней.
– О-о-о! – простонала Лора и, без лишних размышлений, повинуясь лишь инстинкту, бросилась к стене. Дрожащими руками шаря по обоям и по кафелю, она в конце концов нашла выключатель около умывальника. Раздался сухой щелчок, и разом зажглись три лампочки… В ванне сидел совершенно одетый Пьер, коротко остриженный, с чопорно поджатыми губами, с каким-то странным цветом лица: желтовато-сероватым, напоминавшим цвет восковой свечи. Безжизненным немигающим взором он смотрел куда-то в бесконечность. На дне ванны под водой лежало ружье. Лора уже подумала было, что Пьер мертв, но вдруг его пальцы, сжимавшие ручку и прижимавшие ее к груди, слабо зашевелились.
– Пьер! Пьер! Пьер!
Лора многократно назвала мальчика по имени, но он, казалось, ее не слышал. Она положила ему руку на локоть, и от этого прикосновения у него кожа сразу же покрылась пупырышками.
– Сколько времени ты просидел в ванне, наполненной водой? И где твой отец?
Пьер крутил в руках ручку, стараясь не намочить ее. Внезапно губы его разжались, и он выдохнул:
– Я не дописал сочинение…
– Где твой отец?
– …но я сейчас его обязательно закончу. Мне потребуется час, не больше. Надо только проявить сообразительность.
– Где он? – закричала Лора, хватая Пьера за плечи и с силой встряхивая его.
Пьер нахмурил брови.
– Это его самого надо спросить, а мне надо работать.
Ответ несколько успокоил Лору. Она помогла «утопленнику» вылезти из воды. Теперь она была очень рада тому, что какой-то внутренний голос внушил ей отправиться в этот дом. Она решила, что дождется Марка, сколько бы ни пришлось ждать. Она напишет подробный рапорт, и на сей раз ему уже не выкрутиться, не уйти от ответственности…
А тем временем Пьер стоял выпрямившись во весь рост, но держался на ногах он несколько неуверенно, и на лице его блуждала немного встревоженная улыбка, выражавшая восторг, вроде той, что озаряет личико ребенка, впервые вставшего на ножки. Лора поддерживала его, он обнял ее за талию и медленно пошел к столу, увлекая ее за собой. Казалось, его охватило желание потанцевать… Он рухнул на табурет. Вода потоками стекала с одежды на пол.
– Где твой отец?
Пьер сделал какое-то движение, стульчик повернулся, сделав вместе с «седоком» полный оборот, и Пьер слабым, каким-то очень тихим голосом произнес:
– Молчок! Ни гу-гу!
Затем он повторил эти же слова другим голосом, явно подражая кому-то, и голос этот звучал столь зловеще и столь грозно, что Лора вздрогнула. Пьер открыл какую-то тетрадь. Он чувствовал, что взгляд Лоры устремлен на него, и от этого его пробирала дрожь и тряслись руки, из-за чего его почерк в последнее время стал таким неразборчивым, что читать его писанину было невозможно.
– Что у тебя с руками, Пьер? – всполошилась Лора. Пьер схватил ручку, взмахнул ею, как если бы это было холодное оружие, и, со всего размаху ударив ею по столу, сломал ее.
Да, у него дрожат руки, и он знает об этом лучше, чем кто-либо. Кстати, Марк ему об этом уже говорил вчера вечером, когда вернулся из Испании или еще откуда-то. Он тогда сказал: «У тебя трясутся руки, Пьер». Пьер ему ответил:
– Это все, что ты можешь мне сказать?
Если бы Пьер чувствовал себя немного лучше, он бы, несомненно, заметил, что его отец тоже не в лучшей форме. Его бы удивило, что он не услышал вопроса по поводу стреляных гильз.
– Ты написал сочинение?
– Два дня назад. Я его уже отнес в лицей. Директриса хочет его опубликовать в нашей лицейской газете. Когда ты его будешь читать, ты поймешь, почему она так решила.
Пьер не знал, какую ложь выдумать, чтобы привести отца в восторг. Теперь он был не один. Уик-энд закончился. Он мог забыть и про увядшие гвоздики, и про неприятные звуки, которые издавала ночная бабочка, бившаяся в окно и о стены комнаты.
– Не хочешь мне его показать?
– Я же сказал, что у меня его уже нет.
– А черновик?
– Я писал без черновика, сразу набело. Тема была вообще-то дурацкая… Начинаешь писать, и уже не знаешь, как остановиться…