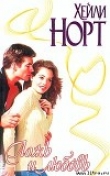Текст книги "Осмос"
Автор книги: Ян Кеффелек
Жанр:
Контркультура
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
Марк всегда так говорил: «на твоем месте» и «если я был бы не я, а ты», «мы с тобой – два сапога пара». Таким образом он хотел подчеркнуть, что их многое связывает, а сейчас он так сказал потому, что хотел быть любезным и обходительным, потому что хотел во что бы то ни стало доставить удовольствие сыну, у которого голова от всего пережитого за этот день шла кругом и который желал только одного: немного снять напряжение и успокоиться. И Марк быстро (и явно нервничая) просматривал меню; он произносил вслух названия разнообразных соблазнительных блюд: фуа гра, приготовленная по старинному семейному рецепту, равиоли с лососем и т. д.
– Знаешь, я сам что-то колеблюсь… не знаю, что и взять: то ли равиоли, то ли креветок…
Уста его говорили одно, а выражение глаз свидетельствовало о том, что занимают его мысли совсем иные заботы, нежели трудности в выборе закуски. Смущенно и встревоженно следил он за недавно избегнувшим гибели (или считавшим себя таковым) мальчиком, пока еще смертельно-бледным и почему-то очень медленно возвращавшимся к жизни.
– Нет, все-таки креветки! – провозгласил Марк, с шумом захлопывая книжку меню. – Мы начнем с атаки на этих красоток, и ты перестанешь пялиться на меня как дикарь, только что вышедший из джунглей.
Марк потер руки, положил их на стол и с отсутствующим видом уставился в свою пустую тарелку, у него пропала всякая охота поддерживать разговор. Нет, больше он не будет разбиваться в лепешку перед этим малолетним олухом. Пусть скажет спасибо, что ему дают хорошенько заправиться, что его собираются вкусно и до отвала накормить, и это после того, что он сделал! Однажды, в один прекрасный день он ему все выскажет, внесет, так сказать, ясность в этот вопрос, и тогда этот кретин, быть может, поймет, что уже слишком поздно искать примирения за сытным семейным ужином. А ведь сейчас, при такой-то обжираловке было бы самое время…
Им принесли целое блюдо креветок, но Пьер к ним даже не притронулся. Он смотрел, как его отец ест в полном молчании. Он понимал, что наступило всего лишь временное затишье, не более того. Он не особенно доверял выдержке Марка, он не верил, что тот не сорвется. Уши у него горели огнем, в животе тоже ощущалось какое-то противное жжение, все кости ныли, а мышцы одеревенели настолько, что если бы ему вдруг отрезали ухо, то он, вероятно, даже не почувствовал бы боли и из раны не закапала бы кровь. Нет, скорее всего он не продержится до десерта. Все это было для него уже слишком, чересчур… Это было во сто крат хуже, чем можно было себе вообразить! А ведь Марк знал всего лишь часть истины, причем малую часть! Никакой отец не поверит в то, что его сын настолько мерзок и гнусен, что его сын – такая отъявленная сволочь, что может предать его играючи, как бы по наивности, простодушно, вроде бы руководствуясь наилучшими чувствами. Да, его предупреждали, но он все же хочет проверить… да, на собственном опыте проверить, правда ли, не является ли преувеличением утверждение, что огонь обжигает, а вода убивает, заполняя легкие, и что он, сын, обладает определенной властью и может причинить зло, может разрушить, погубить свою семью несколькими неосторожными словами. Да, сейчас он во всем признается…
– Папа…
– Я не знал, что побитые собаки лают, – сказал Марк, на секунду отвлекаясь от креветок и с аппетитом продолжая высасывать хвостик одной из «этих красоток».
Он не ел, а «вкушал» этих милых ракообразных, он смаковал и наслаждался. Он тщательно очищал крупных «особей», а мелких клал целиком в рот и старательно их пережевывал. Его салфетка, казалось, словно пропиталась кровью. Он вроде бы совершенно забыл о сыне, но внезапно их взгляды встретились. Марк, застигнутый врасплох, как был, с креветкой во рту, перестал жевать и залился яркой краской… нет, он не просто покраснел, а прямо-таки побагровел.
– Нет, ну и рожа у тебя! Посмотрел бы ты на себя в зеркало! У меня впечатление, что я сижу за столом с диким зверем… с волком! Пойди в туалет и причешись!
И Марк через стол протянул Пьеру свою расческу.
Через две минуты Пьер вернулся и вновь сел за стол. Его отец покончил с креветками и посматривал в зал, улыбаясь всем и каждому. Любопытная вещь, эти воспоминания. Они меняются в зависимости от того, чьи это воспоминания… «У меня они есть, у тебя их нет, или есть, но такие ложные, такие поддельные, потому что с ними так долго жульничали и мухлевали, что их и воспоминаниями-то нельзя назвать. Это все пустая болтовня, никчемный треп! Это ущелье… что ты о нем знаешь? Ничего! Ровным счетом ничего! Мог бы ты под присягой поклясться, что я тебя туда возил? Нет! Даже этого сделать ты не можешь! А я… я могу тебе кое-что порассказать. Ты еще не родился, а оно уже нагоняло на меня страх!»
Когда они, то есть он, Марк, и Нелли обосновались в Лумьоле, они изъездили все окрестности на мотоцикле, проехали по всем долинам, по всем перевалам. Тому, кто не занимался этим специально, трудно было себе даже представить, сколько глубоких оврагов, ущелий и пропастей было в этом крае. И самым своеобразным было так называемое «Большое ущелье». Собственно, это было не ущелье в прямом смысле этого слова, это был рукотворный песчаный карьер: просто один из холмов лишили северного склона, так как долгое время там брали песок для производства цемента, шедшего на строительство электростанции. И вот образовался огромный, зияющий провал, который уже невозможно было засыпать; ему суждено было существовать вечно. Вообще-то это место было объявлено опасной зоной. «Представим себе на минуточку, что было бы, если бы она свалилась в этот каменный, а вернее, песчаный мешок…» Страх этот мучил его на протяжении долгих месяцев, вплоть до того момента, когда она соизволила дать о себе знать, объявиться, так сказать. И даже после этого он ни разу не заснул спокойным сном, нет, ему всегда снилось одно и то же: как она летит в пропасть вместе со своим мотоциклом. «Да, сынок, я всегда видел одну и ту же картину: как она, словно в замедленной съемке, летит вниз, так медленно, что у меня создавалось впечатление, будто бы я мог поймать ее на лету, как ловит в объятия ребенка отец, подбросивший его к небесам, ведь это доставляет малышу такое удовольствие… И вот мне казалось, что я могу поймать ее в свои объятия… Она смотрит на меня, она мне что-то говорит, я ей что-то говорю, но почему-то ничего не слышу… И вдруг она превращается в черную точку, затем эта точка исчезает, и вот уже я один… один на всем белом свете…» Он моргнул, и Пьер увидел, что глаза Марка подозрительно блестят, словно он вот-вот заплачет, но все же слезы из его глаз не полились. Марк добавил:
– Совсем один… или почти совсем один…
Вдруг Марк вновь помрачнел, лицо его обрело почти угрожающее выражение, бледные губы дрогнули и задрожали мелкой дрожью.
– Так вот, я опять и опять задаюсь вопросом, что на тебя нашло, что ты написал про нас такое? А?
– Шел снег, ну вот я и вспомнил…
– Поговорим об этом позже…
К ним приближалась официантка, толкавшая перед собой небольшую тележку. Она только что облила бифштексы горящим спиртом. Это зрелище, запах слегка подгоревшего мяса, вид сметаны, приобретшей светло-коричневый оттенок прямо на открытом огне в маленькой медной кастрюльке, вообще вид этого жирного обильного угощения, – все это поразило, умилило Пьера и в то же время вызвало легкую тошноту, так что он едва-едва прикоснулся к мясу, только поковырял вилкой бифштекс. Он рассеянно слушал, как отец что-то ему говорил про их будущее житье-бытье, и приходил в недоумение от услышанного. Почему, зачем им надо переезжать в другой город? А Марк утверждал, что с Лумьолем покончено, что этот городишко – уже пройденный этап его жизни. Он знал всех жителей городка, знал каждый дом, знал, что покупали одни его жители и продавали другие, знал, кто кому должен, кто брал в кредит и кто одалживал, кто сколько платил налогов, кто сколько задолжал и кто насколько опоздал с платежом. Он знал всю предысторию любого предмета, имевшего хоть какую-то ценность и представлявшего интерес в смысле купли-продажи, участок ли это земли, дом, машина или предмет обстановки. Ему было известно, кто из этих дураков был действительно богат, а кто из них при всем своем бахвальстве был транжиром и мотом. По словам Марка выходило, что они уже достаточно пожили в Лумьоле, пожили неплохо, но теперь можно было без особых сожалений сменить обстановку. На свете нет ничего, кроме денег и притягательной силы наживы, а также жажды наживы.
– Да, так вот, малыш, сейчас как раз подходящий момент «сделать отсюда ноги». Видишь ли, я считаю, что мы с тобой заслуживаем лучшего, чем эта глухомань, которую я называю гнилым болотом.
Он внимательно посмотрел на сына.
– К тому же, если мы переедем, твоя мать не сможет никогда к нам заявиться, чтобы изводить нас, не сможет досадить ни тебе, ни мне. Ведь ты этого хочешь, не так ли?
Он не стал ждать ответа и похлопал Пьера по руке.
– Вот только кое-что меня раздражает, – сказал Марк, продолжая похлопывать Пьера по руке. – Я вынужден говорить тихо, потому что вокруг люди, здесь целая толпа отъявленных негодяев, на которых мне в общем-то наплевать, и я послал бы их к черту, но орать здесь не стоит. Ты меня слушаешь? Ты меня слышишь? Так вот, в гробу я видел этот пятничный ужин! Я приперся сюда ради тебя! А ты не прекратил выкидывать свои штучки, не прекратил привередничать, считать ворон и ротозейничать! Ты ничего не ел, ты ничего не сказал, я так и не услышал от тебя извинений, ни единого слова! И по какому праву ты сейчас делаешь такие круглые глаза? Что ты там обмозговываешь в своей маленькой дурацкой башке? А? Что ты себе думаешь, скажи же наконец!
Пьер не дышал… Лицо его отца превратилось в застывшую маску.
– Скажи же, – повторил Марк, – наберись храбрости и скажи. Не останавливайся на достигнутом, не довольствуйся тем, что ты написал в своей тетради всякий вздор, чтобы нагнать на меня страху!
Когда Марк произнес последнее слово этой тирады, Пьер наконец вдруг окончательно понял, что так обеспокоило его отца. Все дело было в том, что в темно-карих глазах Марка, горевших тревожным огнем, отражались его собственные глаза, горевшие точно таким же огнем, и у Пьера возникло ощущение, что Марк прочел в его глазах одну коротенькую-коротенькую фразу, на которую он должен был непременно в конце концов наткнуться в одной из тетрадок, куда Пьер записывал свои воспоминания и впечатления, фразу, состоявшую всего из нескольких слов, но… способную отправить его за решетку: «Это ты ее убил».
Среди ночи Пьер проснулся. Все теперь было неясно, непрочно, зыбко… Во сне он сбросил с себя одеяло, ноги у него свесились с кровати. «Я, наверное, заболел», – подумал он, ощупывая побаливавшее горло. Он снова увидел, как его тетрадь куда-то летит во мрак, в облако тумана и вдруг возвращается, чтобы обрушиться на него, как бумеранг. Воспоминания… да уж, у него были такие воспоминания, каких не было ни у кого из его сверстников… В его воспоминаниях в тугой узел были завязаны самые несовместимые вещи: шепот, раскаленные угли и горящие глаза; ногти, покрытые лаком, и грязные ногти на мужских руках, падавшие на пол после прикосновения к ним ножниц; улыбки, такие широкие, что можно было пересчитать во рту зубы; маленькие острые бородки и небритые подбородки, трясущиеся от смеха перед тем, как раздастся звук пощечины; крики, треск, хруст; пропасть, в которую он едва не свалился…
– Папа, – позвал он, не дождался ответа и встал с кровати. Тут-то он и обнаружил, что лежал, как был, в мокрой одежде. Он спустился по лестнице вниз и не нашел, как ожидал, отца распростертым на диване. На кухне горел свет, на столе, на самом видном месте лежала записка: «Лучшее, что я могу сделать, так это отправиться в Париж на поиски твоей матери. Я буду там завтра вечером и позвоню тебе. Постарайся не наделать глупостей. Папа».
В мгновение ока Пьер оказался около стенного шкафа под лестницей. Нет, рюкзачка там не было… Он вздрогнул, услышав какой-то шум. Неплотно закрытая дверь поскрипывала и вдруг отворилась, вероятно, под напором ветра. В дверном проеме он увидел, что ночь довольно светлая. Он пошел по направлению к реке. Безоблачное небо, голубоватый, призрачный свет луны и звезд, Лумьоль, возвышающийся на холме… Городок сейчас выглядел так, как будто смотришь на него со дна ущелья… Пьер рухнул на прибрежный песок.
XI
Каждый день, придя в коллеж, Пьер подкарауливал ее. Она редко приходила вовремя. Она входила в дверь, он шел за ней следом. Вот сегодня у нее новый плащ серебристо-серого цвета. Она увидела, что дверь закрывается, и побежала, каблучки ее туфель застучали по тротуару; волосы у нее были забраны в пучок, но, видимо, плохо закреплены шпильками, и они выбивались из пучка и трепетали на ветру. На следующий день на ней была пестрая, словно сшитая из разноцветных клочков юбка, черные колготки, пиджак из темно-коричневой шерсти с большим отложным воротником; губы у нее были накрашены ярко-алой помадой. Несомненно, у нее была намечена встреча или должно было состояться какое-то собрание. А на следующий день на ней были светло-бежевые полусапожки. «В ней, наверное, метр семьдесят, разумеется, если она босиком, без туфель, примерно с меня ростом, – думал Пьер, – но выглядит она довольно высокой. Она не любит шляпки, шапочки и береты и не носит их. Волосы у нее тонкие, легкие, не длинные и не короткие, до плеч; ее не назовешь ни блондинкой, ни шатенкой, а так, нечто среднее… пожалуй, можно сказать, что волосы у нее светло-русые, они у нее слегка вьются и напоминают морские волны с ажурной пеной на гребнях… Я знаю о ней немало, я издалека узнаю ее по походке, могу узнать в темноте по звуку шагов. По ночам я вижу ее во сне и могу смотреть на нее в свое удовольствие. Чаще всего она лежит неподвижно на песке или на траве. Она принадлежит мне, она – моя. Сегодня я прождал ее понапрасну. Я ждал, ждал, ждал… Солнце било мне в глаза и слепило меня, а ее все не было и не было. Все утро я проторчал у коллежа. Люди шли мимо и, наверное, думали, почему я не на уроках и не следует ли им сообщить обо мне как о прогульщике. Я сел на скамейку, потом улегся на нее. Мне было холодно, я продрог. Внезапно в голову мне пришла одна идея, и я дал нечто вроде обета: поговорить с ней, пока живительный сок не дойдет до ветвей платанов и на них появятся листья. Итак, у меня в запасе четыре-пять месяцев. А если я этого не сделаю, то должен буду забыть о ней. Я вошел в кафе „Галилей“, но ее там не было. В нишах-ячейках целовались парочки. У меня в кармане еще завалялись десять франков. Я заказал порцию рома, а официант подал мне стакан молока. Я сказал, что пошутил. Да, а сегодня на ней было длинное бежевое пальто с очень к нему подходившим, хорошо подобранным кожаным поясом, светло-голубые джинсы, из-под которых выглядывали черные полусапожки. Она шла быстрым шагом, приложив одну руку к груди, она казалась чем-то озабоченной, взволнованной. Я приблизился к ней, чтобы сказать, что я ждал ее, но она меня не заметила, даже не обратила на меня внимания, словно вообще не видела. Она прошла мимо меня, я повернул обратно и пошел за ней, вошел в коллеж, но там потерял ее из виду. А сегодня утром красная легковая машина остановилась почти рядом со мной, она не вышла из машины сразу же, а продолжала в ней сидеть. Зазвенел звонок в коллеже, и вот только тогда она выскочила из авто и побежала через площадь. На ней была юбка из ткани цвета хаки, простая куртка и футболка. Сердце мое сильно билось. Какой-то тип вылез из этой колымаги и побежал за ней, вопя на бегу: „Лора, ты забыла сумку!“ Итак, ее зовут Лора. Сегодня утром она жевала жевательную резинку. Она опаздывала, но почему-то не особенно торопилась. Быть может, это я опоздал на урок? Быть может, у нас не совпадает расписание? Она шла и смотрела на платаны. На некоторых уже кое-где набухли почки, но до листьев еще далеко, что же касается моего обета, то он по-прежнему остается в силе. По правде сказать, мне никак не удается назвать ее Лорой. Для меня это слишком фамильярно, что ли. Ведь назвать ее так означало бы, что мы с ней близко знакомы. Нет, чтобы обратиться к ней вот так запросто, мне сначала нужно было бы ее поцеловать, чтобы мои губы ощутили вкус ее губ. Сегодня она ела апельсин вместе с кожурой, что за странная идея! Я тоже попробовал, но мне не понравилось: это и невкусно и непрактично, потому что пальцы становятся липкими. Испания занимает третье место среди стран – производителей апельсинов, после Израиля и Мальты. Сегодня утром она вышла из кафе „Галилей“ и столкнулась нос к носу с моей училкой французского по прозвищу Длинноносая, они пошли рядом, болтая, как две закадычные подружки. Так вместе они и вошли в здание лицея. Рядом с ней моя училка выглядела нескладной толстой кубышкой. Сегодня утром я побежал за ней, я хотел с ней заговорить, хотел ей сказать: „Лора“, хотел, чтобы ее глаза заглянули в мои, чтобы ее рот оставался закрытым или открылся бы только для того, чтобы произнести: „Да“, но я пронесся мимо нее вихрем, на всей скорости, ворвался в коллеж, расталкивая учеников, и побежал наверх, чтобы спрятаться в одном из классов. Сегодня утром у нее была желто-синяя спортивная сумка. Она выше ростом, чем моя училка гимнастики, и она гораздо красивее. Лора… Лора… Лора… Нет, никак мне не удается назвать тебя Лорой. Давай сначала поцелуемся. Я никогда не видел ее рук, потому что она либо ходит, засунув руки в карманы, либо носит перчатки, либо я нахожусь очень далеко, чтобы их хорошенько разглядеть. Я так боюсь, что она может быть замужем. Если она замужем… я ее… я ее… убью. На мой взгляд, ей года двадцать четыре. Мне-то тринадцать… что тут скажешь… дурацкий возраст… невозможно предугадать, кем ты станешь. Сейчас ты просто еще никто. Нет, я ее не убью… Я заканчиваю эту тетрадь. Я не хочу видеть ее руки. Сегодня она была в легком летнем платье и в туфлях на босу ногу. Я никогда прежде не видел нежную кожу Лоры. Это зрелище так тронуло меня, что мне стало очень грустно. И почему она ходит с голыми ногами? Ведь еще совсем не жарко, еще ведь только апрель. WXD310 – это номер машины, на которой Лора приезжает каждый четверг в лицей. Лора WXD310. А я… я – Пьер WXD645. Лора WXD645. Согласен, господин мэр… Согласна, господин мэр…»
Пьер опустил руку и пошарил под кроватью, чтобы выудить оттуда свою тетрадь. Каждый вечер у него было «свидание» с ней. У него на лбу была укреплена лампочка, как у шахтеров, державшаяся на двух регулируемых резинках. Он писал гелевой ручкой. Она нравилась ему потому, что писала тонко и четко, не царапая бумагу, как писала бы дорогая перьевая ручка. Обычно он перечитывал то, что написал накануне, ставил дату и записывал свои «замечания» относительно Лоры, оценивая ее по многим параметрам. «Высокая, гибкая, стройная, у нее такой вид, будто она всегда улыбается, даже когда она не улыбается вовсе; волосы у нее золотистые, кожа бледно-розовая, матовая; она идет, слегка покачиваясь на высоких каблуках, она всегда выглядит свежей и ослепительно-чистой, словно только что после купания, она прекрасна всегда, летом и зимой. Я закрываю ей глаза, я их вновь открываю; они у нее очень светлые, прозрачные, а ресницы – черные-черные. Кожа у нее ровная, гладкая, без единой морщинки, вся она так и дышит здоровьем и свежестью, кровь хорошо ее греет. Я целую ее и говорю ей: „Лора“. Это слово она любит больше всех других слов на свете, и я тоже. Вот и точка соприкосновения… Я знаю наперечет весь ее гардероб: одно платье, четыре куртки, два плаща, бежевое пальто, очень красивое, пригнанное точно по фигуре, с шикарным поясом, а второе под леопарда (на мой взгляд, просто жуткое), шесть пиджаков, четыре блузки, две пары перчаток (красные кожаные и красные шерстяные), не меньше пяти юбок, шесть-семь свитеров, два из них с отложным воротником, как у мужской рубашки (они мне не нравятся), а два белых с круглыми воротниками по типу водолазок мне очень нравятся, несколько пар джинсов и умопомрачительные облегающие брюки, терзающие мне сердце, а также еще одни черные брюки, но только обычные, нормальные, как у всех. Она носит полусапожки, туфли-мокасины, и никогда я не видел ее в кроссовках. Никогда не носит никаких головных уборов, ничего, кроме развевающихся по ветру волос. Иногда она красит губы. Характер… она благородна, непостоянна, ее можно назвать бунтовщицей, она вспыльчива, иногда бывает злой, по ее мнению, она всегда права… она странная, немного странная, порой робкая, а еще, пожалуй, она не слишком хитра. Так что я, наверное, умен за двоих. Ее расписание: три дня в неделю она появляется в лицее имени Галилея. В правом крыле коллеж, в левом – лицей, и общий внутренний двор. А что же во вторник, среду, субботу и воскресенье? Красная машина?»
Так он проводил долгие часы без сна с тетрадью на коленях и зажженной лампочкой на лбу. Он был одновременно самим собой, Пьером, и ею, Лорой, он встречал ее на улице, приглашал к себе домой: «Приходи, когда захочешь, я живу на третьем этаже, у нас там в подъезде установлен домофон. До завтра, Лора». И даже при написании всего этого вымысла он краснел. По субботам он садился на велосипед и устремлялся к так называемому «городку преподавателей», к кварталу, где жили учителя. Вообще-то квартал как квартал, ничего особенного: застекленные двери, тюлевые занавески на окнах, балконы в цветах, дети, играющие во дворах, силуэты за занавесками и голоса… эти голоса на разные лады повторяли то, что он никогда не слышал: «Иди домой». Ему казалось, что это ему говорили: «Домой, домой», и он возвращался к себе, ощущая, что его провожают взгляды сотен и сотен глаз, заметивших, как он ошивался под аркадами в кафе на улице Жана Жореса.
Время тянулось так медленно, а ему ведь так не терпелось, чтобы скорее наступил понедельник, чтобы вновь ее увидеть и пойти за ней следом. Он не знал, что она делает в лицее, чем занимается. Она всегда поднималась по широкой деревянной лестнице с натертыми мастикой ступенями; он знал, что эта лестница ведет на этаж, где располагались кабинеты дирекции лицея, учительская, в общем, администрация; она проходила мимо мраморной скульптуры, изображавшей Галилея, и исчезала. А что может делать в лицее женщина, кроме как быть либо директрисой, либо преподавательницей? Быть может, она занималась ведением лицейского хозяйства? Работала в столовой? В медпункте? Была классной надзирательницей? Работала в бухгалтерии? Ох, нет, ему бы не хотелось, чтобы она была бухгалтером, ведь от цифр у нее могли бы заболеть глаза, счетоводство – это так вредно для здоровья… Цифры были бы ей так же вредны, как сахар для Тотена. Пьер колебался в выборе специальности для Лоры, не зная, на какой же профессии остановиться, чтобы она на своем рабочем месте не могла бы вдруг забеременеть или встретить кого-то, кто уговорил бы ее уехать в другой город. Он сам бы, наверное, отправился с ней в Испанию, чтобы там целовать и обнимать ее, чтобы шептать ее имя, почти прикасаясь губами к ее губам, так, чтобы только и оставалось, как слегка прикусить ее губы зубами и не выпускать. Уголки губ Лоры – это горизонт, за которым скрывается царство райского блаженства. Об Испании он знал почти все от Марка и из энциклопедического словаря: там всегда стоит жара, там часто бывают эпидемии и землетрясения, там растут оливы и сахарный тростник, там делают вино, там добывают марганец, а еще он знал об Андалузии и андалузках, о корридах и быках, о Великой Армаде, о Франко, о тяжелой ситуации в стране басков, об анчоусах, об апельсинах, о синей-синей воде омывающих берега Испании морей и еще много-много всего. Он представлял себя богачом, миллионером, купающимся вместе с Лорой, совершенно нагой. Вокруг пупка у нее были не то веснушки, не то родинки, и маленькая болячка, уже совсем засохшая, от которой он ее избавлял, слегка поддев кончиком перочинного ножичка. Под сенью пальм он смотрел на ее груди, они, казалось, становились все больше, все круглей. Он был их стражем, их хранителем. Лора, Лора, Лора… От всех этих видений его пробирала дрожь от головы до пят, нет, вернее, до кончиков ногтей на ногах. Он засыпал, приняв окончательное и бесповоротное решение: «Завтра я с ней поговорю». И он снова и снова откладывал сей смелый по степени безумия и наглости шаг. Кончилась зима, и птицы оккупировали старые каштаны. В марте он записал в дневнике: «Пришла весна. Вскоре вся площадь Галилея зазеленеет, на ветвях деревьев среди листвы рассядутся дубоносы, а я так и не исполнил свой обет. И я буду совершенно конченым, ни на что не годным человеком, в тринадцать лет! Нет, я поговорю с ней завтра, ЗАВТРА, я сам себе предъявляю ультиматум! Итак, я подхожу к ней и говорю: „Вы, наверное, заметили, что весна в этом году поздняя. А все это из-за одного обета, который вас касается напрямую, но не путайтесь, здесь нет ничего страшного, все поправимо. Да, с сегодняшнего дня будет ярко светить солнце, да вот, кстати, оно показалось из-за облака, ведь Пасха на носу. Колокольный звон доносится к нам из Рима, солнце вместе с теплом приходит к нам прямо из Испании, а вы… вы откуда к нам явились?“»
Он собрался было уже совсем забыть про свой обет в тот день, когда его преподавательница по французскому дала им в качестве домашнего задания написать сочинение на тему: «Мои первые и самые яркие детские воспоминания». Его рука, державшая ручку, волей-неволей привела его к маленькому рюкзачку, висевшему на кусте и раскачивавшемуся под порывами ветра. Он пристрастился к самому процессу записывания мыслей и потому простодушно доверил листу бумаги свою тайну, а его отец ему этого не простил.
Отказываясь от мысли поговорить с Лорой, он записал таким мелким и корявым почерком, что прочесть было почти невозможно: «Я мог свалиться вниз. А если бы снег подо мной провалился? Мы оба потеряли голову, оба спятили. К счастью, я легко отделался… В следующий раз, когда мне приспичит поведать о каких-то воспоминаниях, я куплю топор, эта штука будет понадежнее, чем ручка, я смогу сначала написать, а потом уничтожить все написанное. В действительности между Лорой и мной все кончено, ведь она заслуживает кого-нибудь получше, чем такая мокрая курица, как я». Все три дня пасхальных праздников он провалялся в постели, телефон буквально разрывался у него под подушкой. «Ну и пусть себе звонит!» – думал он. Как только он открывал глаза, у него перед глазами начинало рябить, словно шел снег. В воскресенье вечером голод заставил его вылезти из постели. В одном из шкафчиков на кухне он нашел курицу… из шоколада, в натуральную величину. Он ее съел.
Во вторник днем классный надзиратель передал ему вызов в отдел социальной помощи. Пьеру Лупьену предлагали явиться туда к пяти часам вечера. «Пьер Лупьен – это я. Написано, что срочно. Чего они от него хотят? Разлучить с отцом? Итак, неприятности начинаются… Вот бред! Вот идиотизм! А все из-за ерунды, из-за этого дурацкого сочинения! А ведь он написал его наспех, чтобы выручить самого тупого, самого бездарного ученика в классе!» Он оставил в агентстве десятки сообщений для Марка, но тот был недосягаем. Весь день Пьер думал о «встрече». Если там будут легавые, он станет отбиваться руками и ногами. Нет, он вырвется и прыгнет с крыши. Нет, лучше он возьмет членов комиссии по социальной помощи в заложники! Он не даст себя запугать!
В половине шестого, после того как он довольно долгое время прятался в туалете, Пьер крался вдоль стены, пробираясь к выходу из здания. Однако, как он ни вжимался в стену, его заметили: преподавательница гимнастики дружески помахала ему рукой. Он огляделся. В холле легавых не было. Но это ничего не значило, они могли поджидать его снаружи или даже у него дома. На протяжении нескольких дней он ощущал, что за ним следят. На него как-то странно поглядывали, как будто у него на плече сидела обезьянка-уистити. В половине седьмого он поднимался по широкой, величественной деревянной лестнице, которая вела к кабинетам администрации. Он прошел мимо мраморного Галилея, склонившегося над земным шаром. Пьер едва волочил ноги. Вот так он шел-шел, да и повернул назад, побрел вниз, потом опять стал подниматься по лестнице. В коридоре он тоже несколько раз порывался ретироваться. Ну вот он и дошел до последней двери. Увидит ли он когда-нибудь вновь своего отца? В любом случае надо держать язык за зубами! Молчок! Ни слова! Он опять огляделся: пыльный фикус тянул ветви к потолку. Итак, он у цели. На выкрашенной коричневой краской двери виднелись золотистые буквы, из которых складывались слова: «социальная помощница 8.30–16.00», а еще ниже был прикреплен желтыми кнопками небольшой прямоугольный кусочек картона, на котором черным фломастером было написано: «Лора Мейер».
В то утро, во вторник, Лора Мейер была в отвратительном расположении духа, она явилась в лицей только для того, чтобы подать заявление об уходе. Последний уик-энд она провела в Париже, у родителей. Это был кошмар и ужас! Ее так называемая мать хотела развестись. В ее-то возрасте! Она никак не хотела держаться в определенных рамках. «Ты – чудовище!» – слышала Лора с раннего детства. «Ты – чудовищная эгоистка, чудовищная гордячка, ты неблагодарна до ужаса!» А отец Лоры «завершал дело» матери весело, как бы вставая на ее защиту, но на самом деле своей трусостью буквально убивая Лору: «Лора всегда выпутается из любого затруднительного положения за счет своей внешности». И она выпутывалась… Она нашла выход из положения в том, что поселилась в Лумьоле, подальше от них, но, как оказалось, недостаточно далеко. Она завидовала тем семьям, в которых возраст не делит поколения на враждующие стороны, живущие в густой атмосфере взаимной ненависти, она завидовала тем семьям, в которых, в соответствии с пословицей, в тесноте, да не в обиде. Она смутно припоминала тот период ее жизни, когда была маленькой, у них был садик, окруженный белым заборчиком, в саду росли цветы, а от бриошей так приятно пахло корицей. Тогда она мечтала поскорее выйти замуж за соседского мальчишку. И вот теперь, в свои тридцать два года она была одинока, и до тех пор, пока они живы, она никого не сможет полюбить. Да, она – чудовище, она – чудовищное воплощение одиночества. И чудовище собирается все это бросить, послать к чертям собачьим!
Лора перевернула страницу календаря. Вторник, двадцать пятое апреля, день Святого Марка. Никаких свиданий… Тем лучше. Бледно-голубая записка с коротким вопросом: «Что вы об этом думаете?» Она нахмурила брови и вспомнила про то сочинение, которое лежало у нее в сумке уже три дня. Ей передала его ее приятельница, преподавательница французского, непременно желавшая знать ее мнение по поводу того, что бы могло значить содержание этой ученической работы. Положив ноги на стол, она быстро пробежала глазами сочинение на тему: «Мои первые и самые яркие детские воспоминания». Какая, однако, старомодная и, можно даже сказать, возмутительная тема! Это же посягательство на частную жизнь несовершеннолетнего! Нарушение права на неприкосновенность личности! В святая святых, в школе, подростков насильно заставляют извлекать из глубин своей памяти какие-то картины и образы, чтобы оценить, что собой представляет этот «потаенный сад». А потому нет ничего удивительного в том, что ребята толпой устремляются в естественнонаучные секции, и их и кнутом не загонишь в гуманитарные. Она на секунду представила себе, в какое бешенство пришел бы любой преподаватель французского, вздумавший прочитать ее сочинение о первых самых ярких воспоминаниях: о ее первом лифчике, о первой менструации, о первой ночи с парнем, о первой ночи с двумя парнями, близнецами, о первой ночи с тремя парнями в прачечной родильного дома, где было жутко жарко; ей тогда было восемнадцать… а наверху женщины рожали и орали благим матом. Да, так что же с этим сочинением? Читалось оно легко… «Мой первый день без мамы, я первый раз сам, без посторонней помощи надел штанишки, и надел их задом наперед… снежный ком… обрыв… повисший над обрывом на кусте рюкзачок, это я его нашел…» «Что же это такое? Подросток, растравивший свои детские раны, испытывает боль и думает, что он один на всем белом свете… Но что же я должна по этому поводу думать? Пожалуй, парнишке следовало бы дать самому себе хороший щелчок по носу, чтобы прийти в чувство и переносить свои боли и обиды терпеливо, с достоинством». Она отодвинула сочинение на угол стола и, сидя все так же, с задранными на стол ногами, схватила трубку телефона.