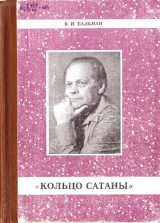
Текст книги "Кольцо Сатаны. (часть 1) За горами - за морями"
Автор книги: Вячеслав Пальман
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)
КОЛЬЦО САТАНЫ
Роман
ЗА ГОРАМИ – ЗА МОРЯМИ
Часть первая
От издателя
«Милосердие и сострадание – буржуазные предрассудки, отрыжка абстрактного гуманизма.
А ненависть – форма любви на переходном этапе от капитализма к коммунизму».
Из газет 30-х годов
Уважаемый читатель!
Уж, коль ты прочел эту первую строчку, то уверен, что с интересом прочитаешь и всю книгу. Прочитаешь потому, что должен, обязан знать историю своей Родины (особенно это касается тех, кто родился и жил на Колыме – в краю суровом и холодном, но тем не менее родном и милом)…
Вячеслав Иванович Пальман знаком многим читателям, особенно ко– лымчанам, по таким произведениям, как «За линией Габерландта», «Кратер Эршота», «Песни черного дрозда». Да, мы с интересом читаем книги, зачастую не зная биографии автора. Да и нужно ли нам знать о его жизни? Может быть, и не надо, может быть…
В руках у тебя, читатель, уникальная книга «Кольцо Сатаны». И в этом ты убедишься сам, начав ее читать. Тебя обязательно заинтересует тот факт, что в краю, где всего два месяца лето, а в апреле и сентябре морозы доходят до 30 градусов, выращивают капусту, помидоры, огурцы и другие овощи. Правда, сегодня – на много меньше, чем, к примеру, в 50-70-е годы. Как начиналось освоение вечной мерзлоты? Прочтешь – узнаешь.
Почему автор так назвал свое произведение? Мы не узнаем никогда, ибо В. И. Пальман ушел из жизни в 1995 году, так и не увидев опубликованным свой главный творческий труд. Но хотел увидеть, и был согласен на публикацию хотя бы отдельных глав в различных московских изданиях и в Магадане. Но жизнь, и не только жизнь, распорядилась иначе…
«Папа рассылал части и главы романа по разным издательствам и журналам, – так пишет в письме дочь Вячеслава Ивановича Татьяна Вячеславовна Кружкова, ныне живущая в Москве. – Когда-то папа отсылал книгу и в Магадан. Рукопись вернули с замечаниями и предложениями, но у папы уже не было сил работать над ней. Я предлагала издателям распоряжаться рукописью на их усмотрение, но ответа так и не получила…»
Жаль, конечно, очень жаль, что магаданские литераторы не сочли нужным «повозиться» с рукописью. В книге ведь речь идет о Колыме: совхозах «Дукча», «Эльген», «Сусуман», поселках Дебин, Спорное, Оротукан, Ола, Тауй и других…
И вот теперь Татьяна Вячеславовна, по просьбе Ягоднинского общества «Поиск незаконно репрессированных», прислала рукопись отца в Ягодное и разрешила распоряжаться ею так, как мы сочтем нужным.
«Кольцо Сатаны» состоит из двух частей: первая «За горами, за долами» повествует о колымских лагерях 30-40-х годов, вторая – «Гонимые» рассказывает о жизни автора на Колыме после освобождения, и опять же о лагерях. Сейчас, читатель, ты держишь первую часть книги. Вторая тоже попадет к тебе в руки, если ты, конечно, прочтешь первую.
И все-таки почему «Кольцо Сатаны»? Колымчане это поймут без труда, прочитав выдержку из романа. Поймут и те, кто откроет атлас СССР (или России) и найдет поселок Ягодное (Дебина на многих картах нет – маленький поселок, – но на Колыме он всем известен, ибо знаменит тем, что расположен на берегу реки Колымы, через которую в 30-е годы заключенными был построен уникальный мост протяженностью более 300 метров. Этот поселок в те годы еще называли и Левым Берегом).
«…Если поставить на карту Северо-Востока страны ножку циркуля между поселками Дебин и Ягодный и обвести круг диаметром в тысячу – тысячу двести километров, то внутри этого страшного кольца размером едва ли не с Западную Европу окажутся все „дальстроевские“ прииски, шахты, рудники, стройки, автобазы, лесозаготовки, сотен пять или шесть, если не больше, лагерей, лагерных пунктов, инвалидных „командировок“, тюрем, секретных каторжных территорий, закрытых воинских зон, не считая охранников НКВД, которые мельтешили всюду, как тараканы в избе. Общее число людей в этом адовом кольце надо было считать на сотни и сотни тысяч.
Это гнездовья, где живых людей превращали в трупы. Именно здесь с 1932 по 1953 годы лубянский Сатана творил свое чудовищное дело – в дальней дали от людских дорог и все замечающих глаз. До сих пор никто не знает ни имен погибших, ни точного числа их. Велико это число. Страшная тяжесть свершившегося и поныне давит чуть-ли не каждую семью, где поминают без вести пропавших…»
Думаю, что комментарии излишни.
В заключение хочу сказать, что герой романа Сергей Морозов – Вячеслав Иванович Пальман. Что он за человек, как жил и работал на Колыме, читатель узнает из этой книги. И не только о нем, но и о десятках судеб таких же, как он – незаконно репрессированных в годы сталинского террора и добросовестно осваивавших необъятные просторы Колымы. Не только работавших, но и друживших по-настоящему, несмотря на каторгу, любивших необъяснимой чистой любовью, веривших в светлое будущее Родины…
Добавлю, что В. И. Пальман был реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР 17 июня 1958 года (справка о реабилитации № 4н-2719/58).
Книга «Кольцо Сатаны» вышла в свет в том виде, в котором была тайно написана автором еще в 70-80-е годы, без каких-либо изменений и дополнений со стороны издателя.
И. Паникаров,
председатель Ягоднинского общества «Поиск незаконно репрессированных», Магаданская обл.
К ВЕЛИКОМУ ИЛИ ТИХОМУ
Не голос памяти правдивой, таит беспамятность беду…
А.Твардовский
Дни были долгие, чаще светлые и теплые, только иногда облачные, с дождями. Менялись пейзажи. Чем ближе к Красноярску, тем меньше широких степей, больше лесов. Нередко возникали холмы, горушки, все реже деревни и города. Красиво и вольно смотрелась впервые увиденная Сибирь. И возникала щемящая тоска: все дальше от родных краев, от привычной и родной России. Если бы ехали по своей воле, без колючей проволоки перед глазами, без замков на двери, без ночных стуков снизу, чтобы проверить, нет ли пропила в полу для побега…
Эшелон двигался быстро, но зато и останавливался часто, где– нибудь на заросшем травой запасном пути. Пропускал товарные и пассажирские поезда. Транссибирская железная дорога в те годы еще далеко не везде была двухпутной, хотя на ней уже работала сотня тысяч заключенных, строившая эти самые вторые пути. Из своего зарешеченного окошка Сергей видел немало работяг с лопатами и кирками, карьеры, откуда тянулись бесконечные тачки со щебнем, видел в стороне бараки и ограды в колючей проволоке. Подобные пейзажи в иной день не исчезали из поля зрения ни на час. Наверное, каторжная Сибирь еще не видела такого многолюдства.
Их везли дальше.
Необычной приметой Сибирского пути были и следы частых крушений. Под откосом валялись то разбитые вагоны, то откатившиеся в черноте пожара цистерны, то паровоз, упершийся грудью в плотную массу сосен со следами пожара.
– К Иркутску подходим, – сказал сосед, железнодорожник Иван Алексеевич. – Бывал тут не раз. Вечная пробка. И нам постоять придется. Пиши письма своим.
Правдой и неправдой заключенные добывали бумагу, карандаши: на остановках, когда не дрожала рука, писали родным и близким, особым манером складывали листки в виде треугольничка, тут же адрес и слезную записку неизвестному человеку, которому выпадет судьба усмотреть белый треугольник. К этому неизвестному человеку обращались с просьбой запечатать письмо в конверт, надписать адрес. И опустить – можно и доплатным – в почтовый ящик.
С правой стороны каждого вагона, в полу, была дыра, ее закрывали круглой крышкой: уборная. Письма бросали в эту дыру непременно на подходе к станции или после отправки со станции. В таких местах людей ходит больше.
Святое и доброе дело сотворили те тысячи людей, что подняли на Великом Сибирском пути белые треугольники с хлебной коркой и не убоялись запечатать и надписать адреса. Сколько матерей и жен с благодарностью и слезами перекрестились, получив весточку от своих кормильцев! Жив их отец, муж или брат. Жив!.. И крепла надежда на встречу, на благополучный конец всеобщей российской трагедии.
…Вагон вихлялся, мимо проплывали товарные составы, шире расходились пути, их поезд забирал правее, перешел на второй путь и остановился почти у самого красноватого здания вокзала. На третьем пути уже стоял такой же состав с заключенными, из окна в окно начались расспросы, переговоры, крики охранников «молчать!», но кто их слушал! Другой сосед Сергея, бывший подполковник Виктор Павлович спрашивал: нет ли военных, и военные находились, передавали одну и ту же весть о Ярославском политизоляторе, о «Бутырках» и «Крестах». И все хотели узнать, куда их везут.
– Не знаем! – кричал Виктор Павлович. – А вас?
– Есть слух, во Владивосток. Оттуда на Колыму…
Это слово впервые прозвучало в вагоне и уже не уходило из памяти. О Колыме ходили легенды, будто там заключенные роют золото и ходят вольно, что кормят их «от пуза», поскольку без хорошей еды и спирта работать на Севере невозможно. Теперь и в Сергеевом вагоне заговорили об этой неизвестной Колыме. Вспоминали Джека Лондона и его Клондайк.
Составы все стояли. Какие-то поезда грохотали по четвертому, дальнему пути, под вагонами лазали конвоиры со своими молотками, бегали составители с флажками и свистели. И только перед ними путь оставался свободным. Там по перрону уже расходились пассажиры, носильщики с вещами, было как-то непривычно пустынно и торжественно. Пропускали скорый. –
Когда паровоз прокатился мимо окна, Иван Алексеевич посмотрел на синие и густо-красные длинные вагоны. Сказал:
– Транссибирский экспресс…
Спальный вагон остановился против окна, в которое смотрел Морозов. Верхние фрамуги спального были открыты, в коридор из купе выходили хорошо одетые пассажиры и, сбиваясь у окон, оживленно переговаривались. Слышалась нерусская речь. Возникли два японца с фотоаппаратами в руках. Сергей не успел отпрянуть назад, как щелкнули и раз, и второй.
Иван Алексеевич оттеснил Сергея:
– Знаешь, попадет твое фото в газеты и пойдет гулять по миру. Вот они, русские, за колючей проволокой… Нам с тобой одной беды хватает.
Экспресс стоял минут пятнадцать. Много фотоаппаратов нацелилось на окна эшелона, на конвоиров с винтовками, речь в международном оживилась. Наконец вагоны мягко тронулись, и транссибирский отбыл на восток.
Заспешили разносить селедку, кипяток. У приоткрытой двери возник знакомый хлюст, ловко задвинул сложенные газеты между казенными хлебами и, приняв трояк, успел перебросить еще две пачки папирос «Пушка». В этих хлопотах не заметили, как с третьего пути ушел их братский состав. За ним тронулся товарняк с четвертого пути. Их состав продержали в Иркутске часа два, Морозову хорошо запомнился и вокзал, и перрон, и край площади за вокзалом. В голове вертелась старинная песня «Славное море, священный Байкал!», было в его душе и что-то торжественное, и щемящее чувство неизвестности, и мысль о том, что до рязанской земли отсюда почти пять тысяч верст…
Сергей спустился со своих нар вниз, взял у Виктора Павловича, выбранного старостой, свою пайку, селедку, поставил рядом остывающую кружку. Рядом с Морозовым сидел другой сосед по пересылке – отец Борис. Спросил тихонько:
– Говорят, где-то здесь знаменитый Байкал. Не видел сверху?
– Будем проезжать. Так, Иван Алексеевич?
– Да, теперь скоро. Там по берегу семьдесят тоннелей и акведуков. Поляки строили в давно минувшие годы. Их привозили сюда таким же манером, как и нас. Но те хоть после восстания…
– Нет мира на земле, – вздохнул отец Борис. – Насилие, отверженное милосердие самого Спасителя дико празднует победу.
Промолчали. Отец Борис опять сказал:
– У меня дома двое вот таких, как ты, юноша, с матушкой остались.
– Учатся?
– Работают. Не пришлось им при таком отце поучиться. Из шестого класса изгнали. Лесорубами стали. У нас много лесов. Дубовые, красоты истинной. Не эти, колючие, что здесь.
И показал за окно, где проплывали верхушки сосен.
Опять кто-то заговорил о Колыме. Все время молчавший подавленный партработник Николай Иванович вдруг громко, чтобы все слышали, сказал:
– Перед моим арестом в «Правде» была статья Берзина, начальника Дальстроя. Это тот Берзин, что командовал артиллерийским дивизионом в Кремле. Охранял Владимира Ильича. Латыш, боевой командир. Интересно пишет о Колыме, запомнилось. За пять лет, с тридцать первого там добыли золота в четыре раза больше, чем за все годы работы Севзолота. Дороги построили, город Магадан возводят, совхозы создают, чтобы свежие овощи… В статье мне запомнились слова о том, что «ни одна человеческая жизнь не была принесена в жертву за эти годы на Колыме». Сказано со значением. И еще: «люди, нашедшие на Колыме свой новый родной край, любят его и не думают о возвращении». Вот, примерно, так. Статья запомнилась.
– А чего думать о возвращении, если за плечами десятка и полета уже прожито? – отозвался Виктор Павлович. – Конечно, пока не отбудешь и все выдержишь, разве тогда… Или досрочно. Вот наш молодой друг Морозов может думать о возвращении. У него меньше трех лет осталось, так, Сережа?
– Боюсь вперед заглядывать, – сказал Сергей. – Сколько не хвали Колыму, а там все-таки не рай, если приходится везти заключенных из всех краев России.
– И все-таки хочется верить, что Берзин друг Владимира Ильича…
Николай Иванович как-то сразу оборвал свою мысль и задумался. Он понимал, что все связанное с Лениным сегодня подвергается остракизму; почти все близкие к Ленину люди погибли или на пути к гибели. За ними стали исчезать и те люди, которые помогали Сталину уничтожать ленинцев-большевиков. Впервые эта мысль возникла у него, партийного функционера, когда узнал об аресте старого, уважаемого коммуниста в районе. Тогда он пригласил к себе начальника райотдела НКВД и в резких выражениях сказал о своем возмущении арестом члена бюро горкома без обсуждения его поступков на бюро. На это начальник НКВД с какой-то нехорошей усмешкой заметил:
– Арестовываю, кого прикажут, будь он хоть трижды старым большевиком. Времена меняются, уважаемый Николай Иванович.
Спустя всего три дня после этого разговора московские сотрудники НКВД уже рылись в его доме, а потом допрашивали, о чем он, Верховский, разговаривал с Крупской, когда был в Москве, и при каких обстоятельствах оказался в гостях у личного секретаря Рыкова, у человека, с которым вместе учился в Промакадемии. Уже арестованный, Верховский крепко-накрепко уверовал, что проводится борьба если не с самим Лениным, то со всяким человеком, оставшимся верным идеалам вождя большевиков. Явился, окреп новый вождь, – и да исчезнут все, кто связан со старым…
Страшные «дела» усилились едва ли не сразу после таинственной смерти Михаила Васильевича Фрунзе – народного комиссара по военным делам молодой Советской республики. Спустя два года после этой смерти вышла книга Бориса Пильняка с названием «Повесть о непогашенной луне», в которой – пусть и вскользь, туманно, но проглядывалась фигура настоящего убийцы Фрунзе, соперника в борьбе за неограниченную власть. Автор книги исчез.
Так что же теперь? Второй раунд все той же борьбы? Или уже третий, если вспомнить об убийстве Кирова, которому Владимир Ильич считал возможным вверить пост Генсека партии? И почему Николай Бухарин, «любимец всей партии», как говорил Ленин, вдруг объявляется шпионом, изменником, «реставратором власти помещиков и капиталистов»?
Есть о чем поразмышлять Верховскому, коммунисту с 1917 года, чернорабочему партии, который прошел путь от мастера заводского цеха до секретаря горкома в Тамбовской области. Он побывал и на высоких постах, и в деревне. И об этом не раз вспоминая, гнал от себя такие думы, гордился всем, что достигнуто в стране, верил, что Сталин ведет страну по ленинскому курсу. До начала коллективизации не испытывал ни малейшего сомнения в происходящем. Даже разгром деревни и голод в стране он посчитал делом врагов партии. И лишь позже, сопоставляя события и факты, фразу и деятельность человека, спокойно принимавшего звание «вождя всех времен и народов», ловил себя на мысли, что происходит переворот, если не сказать контрреволюция. Гибли лучшие кадры партии, самоубийство Орджоникидзе тому свежий пример. Страдают миллионы людей, которых приучают жить в бесконечных лишениях. Возрастает прослойка руководителей, живущих в роскоши, – правящий класс уже без Ленина в голове, с Лениным только на стягах и в Мавзолее…
Он, партийный деятель, ужасался этим своим мыслям, боялся их, как боялся и потерять веру в светлое будущее. Выступал перед рабочими и колхозниками, убеждал в правильности курса, по которому идет партия. Но слово «Сталин» как будто забывал, язык не поворачивался. И по этой, едва заметной детали, Николая Ивановича взяли на заметку. Но арестовали не за это. Сперва были обнаружены какие-то упущения в работе, а после ареста следователи начали требовать признания в преступных связях с уже арестованными «врагами народа», на допросах его дважды избили до потери сознания, он пытался повеситься – успели вынуть из петли, и один из следователей совсем дружески выговаривал ему: «Ну, зачем же вы так? Из-за каких-то пустяков…»
Сидел долго. Суда над ним не было. Зато ежедневно приносили бумагу и ручку-самописку: «Вдруг вы сочтете возможным признаться, тогда напишите, и мы вас выпустим на радость семье и близким».
Николай Иванович понимал, что это ловушка для простаков. На бумаге он не написал ни одного слова, а через два месяца за ним пришли, повели к начальнику тюрьмы и тот, не глядя, положил перед ним постановление Особого совещания НКВД, где были такие, уже не поразившие его слова: «За контрреволюционную троцкистскую деятельность – восемь лет исправительно-трудового лагеря».
Он расписался, спросил:
– И это – суд?
– Это больше, чем суд, – недовольно буркнул начальник тюрьмы. – Вы поймете, когда будете в лагере.
Осужденный понял раньше. Даже сегодня жене его и детям неизвестно, где он, что с ним, жив или нет? Из тюрьмы сразу на этап, и где-то впереди уже маячит золотая, лучезарная – если верить Берзину – Колыма, «откуда люди не думают возвращаться».
Вот такие грустные мысли.
Николай Иванович сидел на нарах, свесив ноги. Его интеллигентное, давно небритое лицо уже сделалось прозрачно-белым, взгляд остановился, было в нем что-то трагическое, потерянное – такое далекое, что возвратиться из этой дали, казалось, уже невозможно. Мысли о семье были безрадостны. Конечно, выселили из дома. И осталось одно прибежище – квартира его матери. Или сестры, она живет недалеко от города Фрунзе. Послать бы письмо, посоветовать…
И тут он встретил взгляд Виктора Павловича:
– На вас лица нет. Переживания?
– Сижу и думаю, как известить своих? Представляю их тревоги, состояние.
– Известите, как это сделали все вокруг вас.
– Не верю, что получится…
– Не получится, если ничего не делать.
Командир вытащил из свертка карандаш и бумагу:
– Пишите не торопясь, при такой тряске трудновато, лучше печатными буквами. Или на остановке. Для верности – два письма. Опустим вот в тот ящик.
И показал на круглое отверстие в полу. Не очень чистое отверстие, но ветром обдуваемое и потому сухое.
– Берите два конверта, отведите душу. Чего страдать и ничего не делать? Мы все отправили, один вы не решаетесь.
Иван Алексеевич закричал от окна:
– Вот он Байкал, друзья!
Полезли на нары, по очереди смотрели на широкую водную гладь. При въезде в тоннели жмурились от острой темноты. Летний Байкал – голубоватый, безмятежный – ласкался к невысокому берегу, в нем отражались скалы и лес на береговых уступах. Он уходил куда-то в дальние дали. Сила и мощь, неоглядная сибирская краса. Смотреть на озеро сквозь колючую проволоку казалось святотатством, столь же страшным, как вход в разрушенный и заколоченный досками храм.
В молчании уступали друг другу место возле двух окошек, со вздохом сползали вниз и уже более отчетливо понимали, как ужасна несвобода, как унизительна для человека отделенность от всего мира. Лишение свободы рядом с природной красой казалось унизительным, рождало контраст, от которого сжималось сердце.
Поезд нырял из тоннеля в тоннель, картины менялись, все ближе подходил восточный берег со скалами и зеленой одеждой хвойного леса.
Николай Иванович побывал у окна, затем сел и написал свое первое письмо в никуда. Закончив, он посмотрел на командира. Тот деловито пришил к треугольничку корку хлеба, проверил, есть ли адрес. Вскинул голову:
– Сережа, как будет поселок, крикни нам.
– Вот поселок, шесть домиков!
– Бросайте! – скомандовал Черемных.
Николай Иванович, присев на корточки, что-то прошептал и опустил письмо. Ветер подхватил его. Вдруг он почувствовал желание перекреститься, но устыдился и только вздохнул. Отец Борис улыбчиво глядел на него с ближних нар:
– Доброе дело благословенно. Дойдет ваше письмо!
– Да'будет так! – отозвался Черемных.
На другой день они уже ехали через пустынные холмы Читинской области с редкими лесами, большими открытыми пространствами. Над ними бежали облака, тень от которых то и дело накрывала эту многострадальную, неприветливую землю. Керченск и Шилка всплывали в памяти. Очень боялись: вдруг высадят здесь, на одном из полустанков без деревьев, без укрытия, на волю всех ветров.
Стало холодно, в окна дуло, их попробовали занавесить чем придется, хотя бы с одной стороны. Но дуло и с пола, в рассохшиеся стены. Жались один к другому, страдая и от постоянного грохота, и от стука молотков на остановках. Жизнь вдруг стала не просто унылой, но и страшной в таком состоянии, когда ты не распоряжаешься собой, лишен всякой возможности улучшить положение. Фантастическим казалось то время, когда можно было одеться, как удобней, идти, куда хочешь, искать обстановку, наиболее пригодную для тебя. Мир сузился до размеров товарного вагона, и чтобы с тобой не случилось, из этого мира ты выйдешь не раньше, чем дозволено начальством.
Разговоры не вязались. Все замкнулись, и только отец Борис еще старался поддержать своих спутников то добрым словом, то тихой молитвой, то осенением, крестным знамением украдкой. Добротой и кротостью светились его глаза на побледневшем лице с ввалившимися щеками.
Как назло, состав подолгу стоял, пропуская другие поезда. И почти все время, вблизи и вдали, они видели ярко освещенные в темноте лагерные зоны, а днем возле пути – бригады молчаливых работяг, строящих вторые пути. В прохладные дни августа проехали долгую каторжную Читинскую область, справа по ходу стали возникать поблескивающие водные пространства, гадали-думали – что это такое?
Иван Алексеевич коротко сказал:
– Амур-батюшка. Китайская граница местами посредине реки.
Еще через день они выехали на берег великой реки и долго ехали по самому урезу, задумчиво поглядывая на тот дальний берег в тумане. Там тоже страдают люди, там война. И вообще, есть ли на земле счастливые страны и народы? Такие, где можно спокойно жить и работать? Конечно, есть. И мы могли, если бы… Россия, что произошло с тобой, коль заточаешь ты под замки и за прово-'
локу бесчисленный человеческий род, ничем не провинившийся перед обществом, перед природой и сотоварищами-предками, открывшими для нас вот эти обширные земли?
В Хабаровске-товарном простояли очень долго. Прицепляли несколько таких же зарешеченных вагонов; из ближних вызывали по фамилиям, усаживали на землю плотными группами таких же бедолаг в грязной, домашней одежде, подводили к вагонам других. Вот тогда весь вагон убедился: да, этот состав предназначен для Колымы. Идет последняя сортировка, выводят безнадежно больных, пополняют состав другими заключенными.
Связной блатарь передал Виктору Павловичу вместе с обедом три газеты и три пачки папирос. О новостях скучали, газет не удавалось получить больше двух недель. И как только состав тронулся, как проехали по удивительно долгому мосту через Амур, все сбились в кучи возле трех читающих – с надеждой на какую-нибудь добрую весть, на перемены. Ведь будет же конец той опричнине, что охватила страну несколько лет назад?..
Но страницы по-прежнему пахли неутихающей яростью и разоблачениями, со всех полос веяло подозрительностью. Статья Берия, вдруг вынырнувшего из неизвестности и ставшего уже первым секретарем ЦК КП(б) Грузии, состояла из призывов к бдительности. Продолжалось разоблачение «врагов народа» на Украине, где «кто-то занимается рассылкой на места полупровалившихся врагов». Снова статья JT. Берия о великой роли Сталина, еще в конце минувшего века руководившего сплочением революционного крыла социал-демократии Кавказа. И снова о Сталине, который вместе с Ладо Кецховели создал еще в 1901 году подпольную типографию в Баку и пролетарскую газету «Брдзола». Эта великая личность всюду успевала и все вершила.
В другой газете – разоблачение «врагов народа» в ЦК ВЛКСМ. И в двух номерах подряд «о подрывной деятельности фашистских разведок» – с продолжением, которое в вагон не попало. Здесь же Указы о награждении чекистов – одиночками, вроде некоего С. А. Гоглидзе, группами – членов Верховного суда, прокуроров Вышинского, Роговского, Матулевича, Розовского, Рычкова… Статья о «врагах народа» в Узбекистане, награждение следователя Шейнина. «Враги народа» во Владивостоке, к которому подъезжал их поезд. И еще о грузинском шпионском центре, разоблаченном теми же самыми Берия и Гоглидзе.
Нет мира над страной. К чему все это приведет?
«Правда» писала о небывалой жаре в Москве, «до 30,6 градуса», Молотов яростно громил вредителей Наркомтяжпрома.
Разоблачали Бруно Ясенского, Киршона, шпиона Белла Илеша. В Испании шли тяжелые бои у Мадрида, а Вышинский вдруг выступил с речью на Сессии ЦИК СССР и говорил о правах граждан СССР!
В вагоне никто не смеялся. Уж очень энергичный перехлест. Заключенным просто страшно, мороз по коже. Ведь этот «прокурор», пославший на смерть лучших военачальников страны, тоже получил свой орден Ленина «за успешную работу по укреплению революционной законности и органов прокуратуры!» Не до смеха…
Шелестели в руках газетные листы. Заглядывали через плечо, читали, не веря глазам своим. И сидели потом в глубоком молчании. Нет комментариев. Не слышно громко высказанного личного мнения. Читали и вздыхали. Вот статья о летчике Леваневском, он полетел по чкаловскому маршруту в Америку и пропал где-то на Аляске. Ищут, но вряд ли… Это печально, это обсуждают. А колеса стучат и стучат, везут все дальше от родных краев, все ближе к тому неизвестному, что впереди.
Обнаружили, что повернули на юг, солнце светит наискосок, во второй половине дня оно освещает за проволокой лицо Сергея. У него уже заметны светлые усики, по щекам и подбородку русые мягкие волосы, коротко остриженная голова слегка потемнела отросшим волосом. Он бледен, под глазами заметны мешки: сидячий образ жизни, без воздуха, с тяжелыми мыслями на душе. Тоска все чаще наваливается на него. Жизнь исковеркана, самые радостные годы – в тюрьме. Судьба? А что она сделает с ним дальше?.. Что там с мамой, с девушками, одна из которых могла стать самым близким человеком? До них отсюда семь тысяч километров. И все больше накручивается.
Виктор Павлович лежал рядом, не спал. То хмурил брови, то вздыхал. Поднявшись, огладил заросшее лицо, посветлел.
– Все любуешься? – спросил Сергея. – Страна велика и обильна, но… – И, помолчав, спросил: – Споем, дружище?
Не дождавшись ответа от смущенного Морозова, негромко, хорошо так начал:
– Глухой неведомой тайгою, в сибирской дальней стороне…
– Бежал бродяга с Сахали-ииина, – подхватил Сергей и улыбнулся.
Запел и отец Борис, за ним Иван Алексеевич очень хорошим тенором. Верховский прокашлялся, извинительная улыбка появилась на его лице, начал тихонько подтягивать. И скрылась за песней опостылевшая тоска, не осталось места для гнетущих дум. Песняне казалась старой, напротив, была очень созвучной их положению.
Иван Алексеевич вдруг начал другую:
Вечерний звон, вечерний звон! Как много дум наводит он. О юных днях в краю родном, Где я любил, где отчий дом, И как я с ним, навек простясь, Там слышал звон в последний раз!
Подпевали все, отец Борис особенно усердно, он вел песню, зная слова. Когда кончился куплет, он же и сказал:
– Теперь сначала, братие. Кто не знает этих добрых слов, запоминайте. Душа человека раскрывается в песне.
Потом завели «Песню узника» полузабытого Федора Глинки:
Не слышно шума городского, На черной башне тишина…
Она казалась совсем родной. С особенным нажимом, душевно прозвучал куплет:
Откуда ж придет избавленье, Откуда ждать бедам конец? Но есть на свете утешенье И на святой Руси Отец!
Отец Борис вытирал слезы. Песню повторили.
– Декабристами навеяно, – сказал он после. – Такая вот история.
На остановке лязгнул запор, отодвинулась дверь. Возникла голова конвойного. Он оглядел всех, приказал:
– Петь не дозволено, ясно? – И перед тем, как задвинуть дверь, задумчиво добавил: – Отпелись вы, мужики. Вот так-то.
– А если про товарища Сталина? – спросил кто-то с нар.
Конвоир растерянно помедлил, осерчал и рявкнул:
– Не разговаривать!
И задвинул тяжелую дверь.
Через сутки арестантский состав миновал по каким-то обходным путям Владивосток. Почти весь светлый и теплый день неспешно шел уже берегом Японского моря, изворачиваясь у причудливых больших заливов Петра Великого, и к вечеру остановился на покатом к морю склоне с рыжеватой сухой травой и редкими деревьями – ни дать, ни взять африканская саванна, которую Сергей когда-то видел на картинке. Это был конечный арестантский пункт на восточном берегу великой Евразии. Вроде бы дальше уже некуда.
Великий или Тихий океан – вот он, рядом.
|








