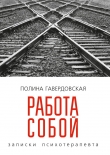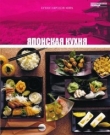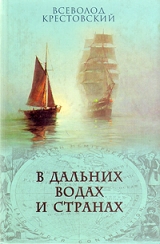
Текст книги "В дальних водах и странах. т. 2"
Автор книги: Всеволод Крестовский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 37 страниц)
Магазины эти находятся в центральных кварталах их тут несколько, но все они не велики, особенно в сравнении с токийскими магазинами фирмы Мицсуйя. Нас привезли к одному из них, на углу двух улиц. Раздвижные рамы и ставни обеих передних стен его были убраны и потому вся его внутренность, как на ладони открылась перед нами еще с улицы. Это магазин со всем японский, так сказать, старосветский, без малейшей примеси какой бы то ни было европейщины в своей обстановке. Сам хозяин и все приказчики ходят в киримонах, а мальчишки-бойи [69] и совсем нагишом, по причине жаркого времени, – одно только длинное полотенце (фундуши), приличия ради, перетягивало их бедра. Вдоль обеих задних стен, от пола до потолка, тянулись клетки деревянных полок, наполненные свертками разных материй. Нас встретили очень любезно и пригласили садиться, то есть опуститься на пол, покрытый безукоризненно чистыми циновками. Тотчас же явились неизбежный табакобон с кизеру [70] и угощение чаем, причем сам хозяин, опустившись перед нами, для большего удобства, на колени, любезно заявил через переводчика, что он весь к нашим услугам и благодарит за честь, оказанную его магазину. Вслед затем, по мановению его бровей, двое расторопных банто (приказчики) быстро наложили вокруг его целую груду матерчатых свертков с разных полок, чтобы дать нам понятие об обширном и разнообразном выборе своих товаров. Каждый сверток был тщательно обернут сперва тонким клякс-папиром, а затем, снаружи, непромокаемою бумагой в роде пергамента. Столы и прилавки здесь еще не привились и потому торговцы раскладывают и развертывают товар перед покупателем прямо на полу. Делом этим занялись двое банто, а сам акиндо (купец, хозяин) только нахваливал и объяснял достоинства своих товаров, но все это очень умеренно, с чувством такта и собственного достоинства. Когда он замечал, что нам понравилась та или другая вещь, это доставляло ему видимое удовольствие и на лице его отражалось чувство удовлетворения.
Здесь продаются только японские материи и притом исключительно киотского производства. Киото издавна славится своими шелковыми изделиями, между которыми парчовые камки (сая), бархаты (биродо) и крепы (ро) занимают первое место. Говорят, будто прежнее время шелкоткацким и вышивальным делом не брезговали даже высшие придворные чины и представители самой родовитой киотской аристократии. Одни занимались им из любви к искусству, другие – по нужде, так как скромное содержание из ограниченных средств микадо не восполняло их семейных потребностей, и вот их-то вкусу и аристократической деятельности многие материи обязаны своим рисункам и подбором красок. Мода в Японии несравненно более устойчива, чем в Европе, а потому та или другая особенность какой-либо материи, или ее изящный узор, пришедшийся по вкусу потребителям, надолго переживают своего изобретателя, передаваясь в семьях ткачей из поколения в поколение. Из этого, однако, вовсе еще не следует, чтобы Япония довольствовалась исключительно старыми образцами, – нет, изобретательность и вкусы ее ткачей не ослабевают, но эта изобретательность не вытесняет с рынка и материй, сотканных по старинным рисункам, если эти последние действительно хороши и изящны. Благодаря устойчивости моды, здесь нередко богатые парадные киримоны последовательно переходят по наследству от бабушек ко внучкам и правнучкам, и эти правнучки щеголяют в них по большим праздникам совершенно так же, как некогда щеголяли их прабабушки, давно уже покоящиеся на семейном кладбище.
Производство тут исключительно ручное; станок самого простейшего устройства; но тем-то и замечательны эти изделия, что вся чистота и тонкость их выделки достигаются при помощи самых простых, самых бедных средств и почти первобытных приспособлений. В каждом куске такой материи вы видите творческую руку, чувствуете, так сказать, душу ее производителя, то есть именно то, чего, при всей роскоши, материальном богатстве, технических средств, так часто не хватает европейскому машинному производству, – потому что оно машинное.
Японские парчи составляют совершенно самостоятельную отрасль ткацкого производства; они не похожи ни на индийские, ни на русские изделия этого рода. Узор их менее шаблонен, иногда менее симметричен и правилен, чем наш и индийский, – мастер тут предоставляет более простора своей богатой, а иногда и очень сложной фантазии. Здесь мы нашли один сорт парчи, подобный которому видели до сего раза только в двух случаях: на столовой скатерти в полуевропейской приемной токийского императорского дворца и на парадной попоне верховой лошади микадо; но в точности описать ее роскошный и затейливый узор, с какими-то сложными кругами, травами и зигзагами, решительно нет возможности: это какое-то неуловимое, но очень приятное для глаза сочетание золота, серебра, пурпура, кобальта, фиолета и зелени в самых разнообразных оттенках и переливах. Второй сорт парчи представляет сочетание ткацкого искусства с вышивальным. Тут отчасти вытканы, а отчасти вышиты цветными шелками довольно крупные изображения священных драконов, летящих голубей, охорашивающихся петухов и фазанов, гривохвостых черепах, морских медуз или рыб, разных цветов, ветвей сосновых или сливовых и т. п. В рисунках этого рода шаблонная симметрия почти всегда отсутствует; мастер заботится тут лишь об общем художественном впечатлении своего рисунка и в особенности о тщательном выполнении отдельных предметных или животных изображений, которые могут и не повторяться в одном и том же куске материи, а ежели и повторяются, то почти всегда как-нибудь иначе, в другом положении, представляя собою те или другие варианты первоначального мотива, но никак не точное его воспроизведение. Такие материи, к числу которых относятся и некоторые сорта крепов, употребляются преимущественно на театральные костюмы для героических или фантастических пьес, и на парадные киримоны для самых шикарных куртизанок. Третьи сорта отчасти напоминают наш старинный одноцветный штоф, где узор выделяется лоснящимися контурами на матовом фоне, или наоборот. Такими узорами обыкновенно служат различные сочетания кружков, параллелограммов, ромбов, треугольников, квадратиков, или трав и цветов с разными фантастическими завитками, или же наконец подобия водяных струй и облаков. В этих сортах преобладают темные колера: черный, индиго, сепия и т. п., и вот, по такому-то фону разбросаны кое-где, но при соблюдении известной правильности и соразмерности, особые небольшие узоры, затканные серебром или золотом. Такие сорта полупарчевых материй особенно облюбили проживающие в Японии европейцы, употребляя их для обивки мягкой мебели в своих парадных гостиных, и действительно, лучшего употребления для подобных тканей нельзя было и придумать. Иногда золотая или серебряная бить, в разреженную перемежку с шелковыми прядками, проходит сплошь через весь кусок материи, как ее фон, или же в составе мелкого узора, и это уже низший сорт золототканных материй, употребляемый преимущественно на обтяжку домашних ширм и экранов, на оклейку книжных переплетов, футляров, бордюров на образах и картинах в свитках и т. п.
Перехожу ко креповым тканям (crépe de Japon). На мой взгляд, японские крепы, по добротности и мастерству выделки, не уступают китайским, хотя иные знатоки и считают их – не знаю почему – ниже последних. По виду, те и другие одинаковы и выделываются одинаковым же способом. Здесь они бывают двух сортов: набойчатые и ординарные. На первых, прежде окраски фона, набиваются какие-либо рисунки или узоры, тем же способом как и на ситцах, и к этим рисункам, местами, прибавляется иногда вышивка шелками или золотою битью, в особенности если это будут цветы, или птички, или яркие бабочки; вторые же не имеют рисунка и всегда получают однотонную окраску, в которой преобладают светлые цвета, от самых ярких, до самых бледных и притом необыкновенно нежного тона. Креп этого последнего сорта вывозится и в Европу, где, впрочем, он известен в продаже под именем китайского (crépe de Chine).
Наконец, нам были показаны японский атлас (шюсу и нумэ) и несколько сортов материй в роде европейского файя, рипса и фуляра. Тут окраска уже самая разнообразная, начиная от самых темных и кончая самыми светлыми цветами. Впрочем, преобладающими являются средние тона. На некоторых из материй этих сортов есть и рисунки, как набивные, так и затканные; сюжетами их обыкновенно служат японские человечки, жучки, бабочки, летящие гуси и т. п. Цены вообще очень умеренны: от 8-ми до 20-ти иен за кусок около 15-ти аршин. Материи, затканные золотом ценятся дороже, а именно от 20-ти до 60-ти иен; парчи же, сравнительно, очень ценны: есть куски до 200 иен и более; но принимая во внимание роскошь и замечательную искусность выделки высших сортов этого рода, нельзя не сказать, что даже и такие цены не особенно высоки, – они только соответственны затраченному труду и материалу.
После шелковых магазинов, посетили мы Кванкуба – постоянную выставку специально киотских изделий, которая в то же время служит и базаром, где все эти artiсles de Kyoto покупаются по цене самой сходной. Вход бесплатный. Кванкуба находится среди прекрасного городского сада, полного разных лавочек и яток, мелких ресторанчиков и чайных домов, беспритязательно ютящихся под сенью роскошно разросшихся японских кленов, гигантских криптомерий, камфарных, перечных и иных старорослых деревьев весьма значительной высоты и почтенного объема. С утра уже народу здесь пропасть; повсюду самое оживленное и веселое движение. Много красивых женщин, еще более прелестных детей. Все это снует по выставке и по аллеям сада, закусывает, пьет чай и с детски простодушным удовольствием любопытно рассматривает выставленные предметы, или толпится пред ходячими диорамами, фокусниками и рассказчиками народных сказок.
Выставка сгруппирована по отделам и помещается в нескольких деревянных бараках, соединенных проходными коридорами и галереями с главным павильоном. Я уже описывал подобные учреждения, говоря о Кванкуба в Токио и Киосинкване в Кообе; поэтому нет надобности повторять знакомое. Скажу только, что киотская выставка отличается преимущественно изящными изделиями, имеющими для Японии то же значение, как знаменитые articles de Paris для Европы. Превосходные cloisonnees (особенно черной эмали) на меди и фарфоре, дивные сальвокаты и вообще лаковые вещицы, всевозможные веера и зонтики, мозаика и точеные из кости фигурки, фарфоровые блюда и вазы, оксидированная бронза с инкрустациями, искусственные цветы, куклы и тысячи иных подобного рода безделушек и солидных objets de luxe, – все это заставляет посетителя жадно разбегаться глазами во все стороны и все это выразительно носит на себе печать киотского вкуса и киотской традиции, по которым сразу узнаёшь произведение древней столицы в числе однородных с ним изделий, вышедших из мастерских иных городов и провинций. Я не скажу, чтобы они были лучше или хуже других изделий, хотя бы токийских, но на них лежит яркая печать своеобразности. Так, например, в живописи здесь преобладает миниатюра, и это потому, что она была в большой моде при киотском дворе и всегда пользовалась особым поощрением со стороны императоров. На самом доступном по цене кипарисовом или пальмовом веере вы можете иногда любоваться здесь необыкновенно отчетливо исполненным рисунком, где, на пространстве каких-нибудь двух квадратных вершков, сгруппировано около сотни человеческих фигурок в полтора сантиметра величины, из коих каждая имеет свой характер и даже свое выражение лица. Киото издревне славится своими миниатюристами, работы которых, по замечанию Эме Эмбера, очень часто напоминают церковные служебники средних веков; в них такое же употребление пергамента или веленевой бумаги, то же изобилие позолоты по краям и та же роскошь красок. Изумительная миниатюрность и отчетливость работы проявляется и в мелких рельефно-чеканных изделиях из стали, бронзы, серебра и иных металлических сплавов и инкрустаций, какими украшаются запонки, черенки ножей, рукоятки и наконечники сабель и небольшие деревянные шкафчики, так называемые secretaires. О киотской традиции в искусстве я довольно подробно говорил уже раньше [71]; остается разве отметить стремление к символизму, которое составляет одну из особенностей киотского творчества вообще. Так, зеленые сосновые ветви служат условным выражением неувядаемой красоты, ветвь цветущей сливы – соответствует радостям весенней любви, дракон Дежа – эмблема могущества, гривохвостая черепаха Мооки – долговечности, священный журавль О-тсури – бессмертия, птица Фоо – вечного счастия и так далее. Подобные изображения и встречаются чаще всего на всевозможных киотских изделиях. Кроме того, следует еще отметить, что в деревянных и лаковых изделиях киотские мастера, по традиции, избегают резких контуров и остроугольных форм, стараясь всегда их срезывать или округлять. Мне кажется, что во всех этих особенностях, за исключением последней, сказывается традиционное влияние Китая, от которого древний Ниппон воспринял первые плоды своей «заморской» цивилизации; что же до стремления к округленности углов и конечностей, то тут, вероятнее всего, является не менее древнее влияние Кореи. На эту мысль меня наводит то обстоятельство, что на домашней утвари корейцев, на их постройках, плетнях и вообще на всех изделиях – насколько я успел познакомиться с ними в корейских поселениях нашего Южно-Уссурийского края – замечается то же самое избегание не только остроугольных форм, но даже прямых углов и стремление всегда как можно более сгладить и округлить их.
Следует еще сказать несколько слов о киотских инкрустированных бронзах. Эти металлические инкрустации отличаются совершенно оригинальными цветами, эффект которых необычайно усиливается на темном оксидированном фоне. Тут все дело в уменьи мастеров составлять различные сплавы, посредством прибавки к металлу большего или меньшого количества другого приплава. Так, например, сплав в известной пропорции меди и антимония получает превосходный фиолетовый цвет; затем специально японский металл шаку-до, весьма искусно приготовленный из меди, серебра, золота, свинца, железа и мышьяка имеет розово-пурпурный оттенок, а другой металл шибу-еши, при общем его серебристо-сером оттенке, отсвечивает всеми цветами радуги. Кажется, можно смело сказать, что японские бронзовые мастера – единственные в свете знатоки оттенков металлов в металлических сплавах при различной толщине последних. Они этим пользуются для вкрапления в сосуды и вазы инкрустаций и для приготовления очень редких и красивых рисунков на металлических зеркалах, где каждый цветок и листик, или каждая часть костюма изображенного лица отливает тем или другим оттенком, смотря по тому, какой металл и какой толщины был употреблен на изображение.
При осмотре киотской выставки, у меня утвердилось убеждение, первые проблески которого зародились во мне еще во время прогулок по токийской Кванкуба, – это именно то, что японцы и в деле промышленного производства, как в деле военной, морской и медицинской техники, стремятся усвоить себе от европейских учителей только их основания и приемы, дабы затем сказать им "farewell" [72] и, давши полный «Abschied» [73] с приличным вознаграждением за труды, идти в дальнейшей практике уже собственными силами, вполне самостоятельно и не только независимо от европейцев, но даже в некоторый подрыв их знаниям, производительности и сбыту. Япония стремится отпускать в Европу и Америку своих произведений как можно больше, а брать от этих стран как можно меньше, и это вполне похвально. Привыкнув находить в своей стране все предметы, необходимые для собственного потребления, японцы спрашивают у иностранных производителей только то, чего нельзя найти у себя дома; теперь же, не только в местах, открытых для иностранной торговли, но и внутри страны, как слышно, заведены и уже действуют бумаго– и шерстепрядильные мануфактуры на европейский лад, с паровыми машинами, ситцевые и суконные фабрики, образцы произведений коих уже находятся в постоянных столичных и провинциальных выставках. Мы видели в киотской Кванкуба несгораемые шкафы, стенные и карманные часы, стеариновые свечи, мыло, духи, папиросы, сигары, стеклянные изделия и хрусталь, стальные и ножевые изделия, двустволки и револьверы, даже так называемые «шведские» безопасные спички, вышедшие непосредственно из местных мастерских и сработанные исключительно японскими руками. И японцы не только не скрывают, но напротив, с гордостью заявляют, что все это делается ими для того, чтобы освободить свое отечество от коммерческого гнета Англии и вообще сделаться независимыми в торговом, как и во всех других отношениях, от Европы. Дай Бог! Не могу не пожелать им от всей души полного успеха в этом направлении, как не могу не желать его и для России… Недаром японцы говорят, что «будущность народа заключается в нем самом, как орел в скорлупе своего-де яйца». Мысль верная и красиво выраженная.
На выставке я приобрел несколько фарфоровых и костяных фигурок для своей коллекции ницков, да несколько деревянных вееров и женских зонтиков, разрисованных акварелью по шелковой материи, для подарка петербургским родным и знакомым, а также купил мимоходом маленький сборник стихотворений, из которых привожу некоторые на выдержку, в подлиннике, транскипируя его русскими буквами и сопровождая подстрочным переводом, чтобы дать читателю некоторое понятие о японской поэзии. Чаще всего небольшие японские стихотворения носят характер или пословицы, или каламбура, заключающегося в игре слов и понятий, вследствие чего многие из них почти не поддаются переводу, или же утрачивают в нем весь свой букет, так как главное достоинство их состоит в строго определенном количестве слогов и в блеске щегольской отделки изящного языка. Тем не менее, сделаем маленькую попытку. Вот, например, стихотворение поэта Кино-Цураюки, принадлежащего блестящему периоду древней литературы:
Хи
то
ва
и
за
Ко
ко
ромо ширазу
Хуруса
то
ва
Хо
на
зо му
ка
шино
Кани ни
во
и
ке
ру.
Это значит: «Когда, после долгого отсутствия, ты посетишь место своей родины, ты ощутишь там тот же самый запах цветов, который был знаком тебе еще в детстве, – лишь сердца земляков твоих не изменятся».
Должен заметить, что перевод мой не совсем буквален; но это потому, что для надлежащей передачи и пояснения сжатых выражений подлинника, русский язык требует гораздо большего количества слов.
Следующее стихотворение принадлежит знаменитой поэтессе Ононо-Комач, фрейлине киотского двора, о которой я уже упоминал однажды [74] Вот оно:
Ха
на
но и
ро
ва
Уцу
ри
ни
ке
ри на
Итазу
ра
ни
Вагами йо ни
ху
ру
Нага
ме
сеои
ма
ни!
«Если уж и цветы изменяются в продолжении своего цветения, то что же удивляться на себя и мне, любующейся ими!»
Следует заметить, что японские стихотворцы в своих произведениях чаще всего говорят о цветах, луне и снеге. Имя Ононо-Комач и до сих пор служит синонимом женской красоты и даровитости. Не смотря однако на свою необыкновенную красоту, она всю жизнь осталась девственницей. Существует легенда, будто один молодой повеса, даймио, влюбившийся в нее до безумия, долго добивался ее взаимности. Не веря его любви и считая ее в данном случае, не более как настойчивым побуждением фатовского тщеславия, Ононо-Комач сказала ему наконец, что согласна отдать свое сердце, если только он докажет постоянство и серьезность своего чувства на каком-нибудь испытании, которое представило бы значительные неудобства и затруднения для молодого человека, изнеженного воспитанием и образом жизни. В надежде, что не выдержав заданного искуса, даймио оставит свои домогательства, она назначила ему являться под ее окно в продолжение ста ночей сряду, оставаясь каждый раз на этом посту до рассвета. Даймио принял ее вызов, но так как время клонилось к зиме, то суровая красавица была уверена, что он не выдержит и одной ночи. Случилось однако же иначе. Девяносто восемь ночей отстоял молодой человек неотступно на указанном ему месте, и Ононо-Комач начала наконец убеждаться, что он действительно ее любит. На девяносто девятую ночь установился сильный мороз, сопровождавшийся жестокою вьюгой. Тем не менее, влюбленный даймио явился в урочное время на свой пост и в течении нескольких часов стоически переносил непогоду. Девушка наконец над ним сжалилась и чувствуя, что собственное ее сердце уже побеждено любовью, решилась прекратить в эту же ночь суровое испытание. Было за полночь, когда она отодвинула ставню своего окна и нежно позвала к себе будущего мужа. Тот не отвечал ни слова. Она повторила свой призыв, говоря, что довольно уже терпеть и ждать, что теперь она верит его любви и сама его любит и зовет согреться в своих объятиях. Опять никакого ответа, – верный своему слову даймио сидит неподвижно, подперев голову руками. Думая, что он заснул, она поспешно зажгла фонарь и вышла к нему на двор, чтобы разбудить и обрадовать его счастливым концом испытания. Она зовет его, она дотрагивается до его плеча, толкает его, – даймио падает навзничь. Девушка подносит фонарь к его лицу и с ужасом убеждается, что перед нею труп. Бедняга замерз от сильной стужи. Это так подействовало на Ононо-Комач, что она решилась никому не принадлежать более в своей жизни, а вскоре за тем целый ряд интриг и клевет заставил ее удалиться навсегда из придворной сферы.
Вот три образчика народных песен:
Иро ке
на
и тоте
Куни оену моно йо,
Мияре
ба
ра ни мо
Ха
на
га саку.
«Не унывай, что не встречаешь пока сочувствия в любимом человеке; взгляни, на стебле, полном шипов, все же расцветают розы».
Кои
се
зуба
Та
ма
но са
ка
зуки
Со
ко
то
на
ку
Мо
но
но а
ва
рева
Йомо сираджи.
«Не будь любви, не видели бы мы дна взаимной чаши, полной сладкой отравы».
Оки но тайсен
Икари де томе
ро
,
То
ме
те то
ма
рану
Кои но мичи.
«И среди буйных вод можно остановить корабль, бросив якорь;– нет средств остановить течение страстной любви».
* * *
После легкого завтрака в нашей гостинице "Мару-Яма", мы поспешили на железную дорогу, чтобы отправиться в город Оцу, расположенный внутри страны, в самом сердце Ниппона, на берегу классического японского озера Бивы, которое неоднократно было воспеваемо и лирическими, и эпическими поэтами, как за красоту своего местоположения, так и потому, что берега и окрестности его полны великих исторических воспоминаний.
От Исиба до Оцу, предельной нашей станции, считается пять миль. Поезд все время идет в виду озера, мимо цепи домиков полусельского, полугородского характера, которые иногда то скучатся вместе, в тесную группу, то раздадутся в стороны, открывая между собою правильные квадраты и параллелограммы чайных плантаций. Уход за кустиками чайного деревца в здешних местах тщателен, можно сказать, до скрупулезности; грядки вытянуты в струнку, заботливо разделаны, уравнены, выполоты, в меру орошены, и каждый кустик непременно подстрижен в форме грибка, либо шарика. Местные чайные плантации считаются лучшими в Японии; городок Уджи в особенности славится ими, как первоклассными во всех отношениях. В государственной летописи Великого Ниппона говорится, что первый опыт разведения чайного деревца, вывезенного из Китая, был сделан именно здесь, на берегу озера Биво; опыт удался, и с тех пор слава местных плантаций упрочилась на столько, что пальма первенства остается за ними и до наших дней. А ведь с того времени протекло, по крайней мере, двенадцать столетий!..
В настоящее время отпуск чая из Японии простирается ежегодно на сумму более 400,000 иен (слишком 22,000,000 франков) и главная масса его вывозится в Америку, где он особенно пришелся по вкусу потребителям.
Наконец мы прибыли в Оцу, иначе называемый Огоц, главный город провинции или губернии (кен) Сига (прежний: кен Ооми). Собственно говоря, я неправильно называю его главным городом, потому что в данной провинции таковым считается официально Гобессио, где и помещается местный административный центр со всеми его учреждениями; но дело в том, что самое то Гобессио есть не более как посад или предместье Огоца, прилегающее к нему с севера.
Город Оцу не велик, но он широко и привольно раскинулся со своими предместьями, садами и чайными плантациями, частию по склону горы Гиейсан, частию по прибрежной низменности. По переписи 1873 года, в нем считается без малого 18,000 жителей. Панорамой ему с северной и западной стороны служат горы, отошедшие несколько вдаль, и спускающиеся в котловину пологими скатами, которые мало-помалу переходят в низменную плоскость, образуя собою берега, далеко вдающиеся в озеро несколькими узкими и длинными мысами. С юга же и востока облегают город невысокие холмы, покрытые зарослями лавра, бамбука и клена, а за ними выглядывают вершины обнаженного хребта Сигаракидан, среди которого находится самая высокая из гор, окружающих Биву, – вулкан Ибуки-яма. (1,250 метров высоты), название которого значит "гора, извергающая желчь". Удивлеяный несколько таким необыкновенным названием, я попросил нашего переводчика объяснить, что оно собственно значит и почему именно желчь? Оказалось, что Ибуки-яма – это, в некотором роде, японский Ад, гнездилище всякого зла, мерзости и нечести. В древности вся Япония быда де убеждена, что в кратере Ибуки-ямы находится спуск в подземное царство огня и мрака, населенное демонами и «ползающими» презренными и злыми духами. Говорят, что далее, вдоль восточного берега Бивы, хребет Сигаракидан подходит к самому озеру и спускается в его воды отвесными скалистыми мысами, из коих одни венчаются суровыми пиками, другие же образуют своды естественных арок, но разглядеть все эти особенности сквозь серебристо-голубоватую воздушную дымку не представляется никакой возможности, даже и с помощью бинокля.
В прежние времена по озеру плавало множество каботажных судов, которые украшали его гладь своими белыми как чайки парусами; но с проникновением так называемых "лучей европейской цивилизации", какие-то местные предприниматели составили компанию на акциях, обзавелись тремя пароходишками и прибрали в свои руки весь каботаж самого большого озера Японии; с тех пор все прежние суда исчезли с его поверхности, и теперь даже рыбачьих челноков на ней почти незаметно. Озеро, покоящееся, как зеркало, под лучами солнца в широко раздвинутых берегах, просто поражает своею пустынностью, столь непривычною для глаза в Японии.
На северном берегу Бивы, начиная с окрестностей Гобессио и далее, жители занимаются преимущественно разведением шелковичных червей и выделкой лаковых вещиц, сбываемых за границу через Осаку и Хиого. Весь вывоз шелка (в виде коконов, сырца и, частию, тканей) из Японии в Европу и Америку простирается в настоящее время без малого до миллиона килограммов и из этого количества четвертая часть, как говорят, приходится на долю окрестностей Бивы. Так, например, в 1878 г. было вывезено 925,000 килограммов на сумму 22,046,600 франков; стало быть, из этого количества окрестности Бивы дали, приблизительно, 231,250 килограммов, представивших собою стоимость в 5,501,625 франков, которые составляют почти чистый доход жителей, принимая во внимание, что уход за шелковичным червем не требует почти никаких материальных издержек. Самый город Оцу, кроме чайных и шелковичных плантаций, составил себе известность еще и специальною выделкой так называемых сарабанов (особые японские счеты, в роде наших), которые если и не имеют сбыта за границу, за то пользуются широким распространием по всей Японии.
На взгорьях Гией-сана, подле нескольких синтоских миа, раскинулся среди роскошнейшего древнего сада обширный монастырь Миидера, принадлежащий монахам буддийского братства Тендэ. Но чтобы добраться туда, мало с немалым трудом преодолеть несколько крутых каменных лестниц. Еще недавно это был один из самых богатых монастырей Японии, получавший около 22,000 иен (более 120,000 франков) годового дохода; но говорят, что правительство наложило руку на львиную долю оброчных статей Миидера, посредством выкупа оных, а равно и на большую часть монастырских зданий, приспособив последние под разные нужды своей администрации и сократив ради этого до трех сот человек число монашествующей братии. Возникновение Миидера бонзы относят к IX столетию нашей эры, основывая это показание на свидетельствах не только своей монастырской хроники, но и государственной летописи. В прежнее время там жило до трех тысяч монахов, главное назначение коих состояло в том, чтобы денно и нощно читать молитвы в главном монастырском храме Кимон, бить в большой барабан и звонить в большой колокол, и все это ради отогнания от Киото, расположенного за горою Гией-сан, дурных веяний злых духов с вулкана Ибуки-ямы. В числе монастырских достопримечательностей они первым же делом и показывают этот огромный колокол, висящий на особо построенной для него высокой колокольне. Надписи, отлитые на нем, свидетельствуют, что он существует уже около шестнадцати столетий, Затем, рассказывают бонзы о том, как их предшественники-монахи в XVI веке вели в этом самом монастыре упорнейшую войну с известным покровителем св. Франциска Ксавье, диктатором империи Ода-Нобунагой.
Распростивишсь с бонзами, мы отправились в дженерикшах вдоль берегов озера, к знаменитой исторической сосне Карасаки.
Легенда повествует, что озеро Бива образовалось в 285 году нашей эры, в течении всего одной ночи и притом в один и тот же час, как выросла из земли гора Фузи (знаменитый вулкан Фузи-яма). Оно лежит в обширной котловине. Кряж невысоких гор, отделяющийся на севере от цепи Сиро-яма, облегает озеро двумя ветвями, в южном и юго-западном направлении, а с востока, как уже сказано, котловина обрамляется цепью Оигаракидана, и таким образом вокруг Бивы как бы смыкается кольцо гор и возвышенностей, из коих самые дальние, на северо-востоке, имеют очертания отдельно стоящих конусов.
Озеро носит название Бива по сходству его очертаний на плане с четырехструнною японскою гитарой, имеющей форму разрезанной пополам группы. Протяжение его в пшрину около сорока восьми, а в длину свыше ста миль. Берега, сравнительно с другими местностями южного Ниппона, населены не густо, хотя, по свидетельству японских источников, они и усеяны «восемнадцатью сотнями деревень»; но это количество населенных мест, вероятно, надо относить не к самым берегам, а разве ко всему кену Сига, где, по переписи 1873 года, считается 738,211 жителей, и частию к другим округам, прилегающим к Биве с севера и востока. Поверхность озера лежит на сто метров ниже уровня моря, а наибольшая глубина его доходит местами до 86 метров. Озеро, между прочим, замечательно и тем, что ныне это, кажется, единственное место в мире, где еще водятся саламандры – большие и довольно безобразные тупорылые ящерицы со склизкою кожей.