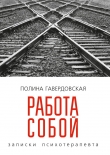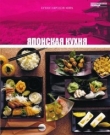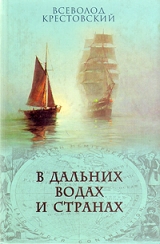
Текст книги "В дальних водах и странах. т. 2"
Автор книги: Всеволод Крестовский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 37 страниц)
Я приобрел себе здесь бронзовое пресс-папье с не менее своеобразным, но более приятным и веселым сюжетом. На раковине гигантской садовой улитки, выпустившей рожки, едет наивно улыбающийся вам китаец, как бы погоняя ее простертыми вперед руками; а сбоку, к вытянутой шее слизняка и сзади, к самой его ракушке присосались две такие же улитки, только обыкновенной величины. В общем вся группа исполнена движения и самого веселого, добродушного юмора. Таков вообще характер народного творческого гения японцев.
3-го января.
Сегодня, в час дня, барон О. Р. Штакельберг принимал у себя на "Африке" министра иностранных дел, господина Мнойе, с супругой и дочерью. После осмотра крейсера им был предложен в адмиральской каюте роскошный завтрак, причем присутствовали все лица штаба, командиры русских судов и свободные от службы офицеры крейсера.
В десять часов утра в Токио, близ станции железной дороги вспыхнул значительный пожар. Тут, говорят, работали паровые помпы, принадлежащие железнодорожному управлению, и так как по близости масса воды, то с помощью их и удалось прекратить в непродолжительном времени дальнейшее распространение пламени, жертвой коего сделалось лишь несколько десятков домов и складочных сараев.
4-го января.
Вместе с А. А. Струве, В. Н. Бухариным и А. С. Малендой отправились мы сегодня с утра в Сибайю, национальный японский театр, славящийся лучшей драматической сценой в столице. Представления в Сибайе обыкновенно начинаются около полудня и длятся часов до девяти вечера; но нынче по случаю новогодних празднеств, начало их отнесено к десяти часам утра, а конец нередко протягивается за полночь и так будет продолжаться в течение всего "благополучного месяца веселостей". Сибайя находится в пределах большого квартала Асакса-Окурамайя, близ знаменитого асакского храма и неподалеку от Иошивары, известного квартала куртизанок. Улица, ведущая к театру, была полна народу, так что наши джене-рикши не без труда могли пробираться шажком между гуляющими и стоящими группами. Снаружи Сибайя несколько напоминает наши большие и масленичные балаганы. Вдоль карнизов крыши и верхней галереи подвешаны ряды шарообразных пунцовых фонарей, которыми унизан также и карниз нижней галереи. Между галерейными колонками, на баллюстраде, стоят громадные фонари-тюльпаны, а при главном входе – большие, длинные цилиндрические фонари è изображением герба (трилистник внутри круга), специально присвоенного этому театру. Тот же самый герб красуется на флагах, развевающихся на очень высоких шестах над самым зданием и на кровельке особой четырехугольной вышки, венчающей крышу Сибайи; вышка тоже украшена фонарями и транспарантами, с цветными изображениями трилистника. Над карнизом крыши, во всю длину его, непрерывно тянется сплошной ряд транспарантных щитов, на которых намалеваны красками герои и наиболее важные сцены даваемых сегодня пьес. Кроме того, названия этих пьес, начертанные большими черными знаками, вывешены на длинных холстах, прикрепленных рядом тесемчатых петель к высоким мачтовым шестам, имеющим форму глаголей. Противоположная сторона улицы занята целым рядом театральных чайных домов и ресторанов, между которыми наибольшей популярностью пользуются рестораны "Восходящее Солнце" и "Фудзияма". Над ними выставлены и предметные изображения их названий, нарисованные красками на вывесках.
Мы подъехали к Сибайе как раз в тот момент, когда в антракте между двумя пьесами часть закостюмированной труппы, в сопровождении нескольких музыкантов с гонгами, дудками, флейтами и барабаном, совершала свой торжественный выход на балкон наружной галереи для наибольшего возбуждения любопытства в уличной толпе. Под звуки пронзительной музыки, актеры, смотря по своему амплуа, принимали грозно-трагические, сентиментальные или комические позы, размахивали саблями и веерами, сильно жестикулировали, кривлялись и буффонили, пока наконец один из них не обратился к публике с речью, дав предварительно музыкантам знак замолчать. Он высокопарным декламаторским тоном излагал перед уличными слушателями все достоинства и заманчивые прелести предстоящей пьесы, зазывая их в театр и советуя поскорее запасаться немногими еще остающимися местами. Кто-нибудь из толпы иногда прерывал его каким-либо вопросом или замечанием, на которые оратор тотчас же давал ответ, отличавшийся, вероятно, известным юмором, потому что публика тотчас после этого разражалась гогочущим смехом, и затем, как ни в чем не бывало, возвращался к высокопарному тону, продолжая свою прерванную декламацию. Эти актерские выходы совершенно напоминают подобные же появления на балконах наших балаганных комедиантов "под качелями" на Масленице и Святой неделе, с тою лишь разницей, что у нас речи традиционного "деда" с кудельной бородой, изобилующие народным юмором, не отличаются высокопарностью.
Вскоре удары большого зычного гонга с наружного балкона возвестили об окончании антракта всем удалившимся на это время в театральные рестораны зрителям, которые вскоре вслед за тем торопливо стали наполнять места во всех отделениях залы. Вместе с тем жонглеры и фокусники удалились с авансцены за занавес и шумная музыка смолкла. Коскеис, по требованию А. С. Маленды, принес нам афишу предстоящей пьесы. Между прочим, стоит сказать несколько слов и о здешних афишах. Они печатаются на тонкой желтоватой бумаге, вроде той пропускной, в какую у нас обертываются китайские чаи, и брошюруются в небольшие тетрадки, прошнурованные шелковою ниткой. На переднем (то есть по-нашему заднем) листке, служащим оберткой, находится в черном фоне, среди разных украшений, собственный герб Сибайя. На обороте следует название пьесы, отпечатанное вязью крупным жирным шрифтом; вокруг него более мелкими шрифтами, представляющими в общем красивую, пеструю вязь, обозначены характер пьесы, имя ее автора, время и место действия и прочее. Далее идут перечни действующих лиц и исполнителей, затем названия актов и картин, после чего на нескольких листках следует ряд картинок, изображающих лиц в наиболее важных сценах и моментах пьесы. А чтобы читатель не затруднялся догадками насчет значения этих изображений, в заголовке каждого из них обозначено, к какой именно сцене оно относится и, кроме того, на широком рукаве одежды каждого героя и героини помешены в белом кружке их имена и титулы. В конце помещаются разные относящиеся к театру сведения, цены местам, краткие извещения о следующих спектаклях, иногда особо лестные отзывы газет о каком-либо из предрекших исполнение даваемой пьесы, иногда какой-нибудь стихотворный мадригал по адресу благосклонного зрителя, шарада, загадка, анекдот и тому подобное, и наконец, несколько странных объявлений, преимущественно о чайных домах, ресторанах и вновь вышедших драматических и литературных произведениях. Таким образом, эти афиши составляют нечто вроде литературно-театрального листка, издаваемого артистами Сибайи под именем "Текие шимбун" (Театральные известия).
Но вот опять раздались резкие звуки трещоток, гонгов и удары об пол особых деревяшек, в виде кирпичей, – и сцена открылась. Занавес не поднимается здесь кверху, а отдергивается в сторону. Представление началось. Но, прежде чем говорить о пьесе, мне хотелось бы познакомить читателя с устройством японской сцены, ее декоративною частью и прочим. Посреди сцены, вровень с ее полом и почти во всю ее ширину, находится большое, круглое плато с встроенными в нем люками для провалов и извержения адского пламени. Досчатые сдвижные стенки делят плато, смотря по надобности, на два, на три и на четыре отделения, из которых в каждом прилажены особые декоративные приспособления, требуемые тем или другим действием пьесы. Так, например, в одном случае является угол комнаты, образуемый двумя стенами, составленными из ширм, с достодолжною обстановкой, в виде половых циновок, лакового шкафчика и некоторой утвари; в другом – лес из натуральных елок и бамбуков, прикрепленных к сдвижным стенкам; в третьем – сад с натуральными цветами и деревцами в фарфоровых вазах, искусственною скалой из ноздреватого известняка и горбатым деревянным мостиком и тому подобным. Плато свободно вращается на подпольном стержне, весь механизм которого помещается под сценическими подмостками, и таким образом перемена декораций, посредством поворота стержня на четверть или на полкруга, происходит очень быстро, в одну, две секунды. Понятно, что всеми необходимыми вещами декорации эти обставляются заблаговременно, до начала пьесы; поэтому и антракты в японском театре не часты, и случается, что какая-нибудь комедия в три-четыре акта идет вовсе без антрактов. Костюмерная часть, можно сказать, роскошная, в особенности в исторических костюмах, которые, как уверяют люди сведущие, вполне верны своему времени. Что же до современных или, так называемых, "городских" костюмов, то они таковы, какие носятся ныне в обыкновенном быту японцами и всегда строго соответствуют роли, то есть общественному положению изображаемого лица. Парики весьма разнообразны и сделаны очень хорошо, в особенности женские прически. Гримировка вообще хороша, хотя в кое-каких мужских, преимущественно трагических ролях, грешит некоторою утрировкою; в особенности заметно злоупотребление красною охрой и синькой (для оттенения пробриваемых мест темени, щек и подбородка), без чего, например, не обходятся роли палача и классических злодеев. Труппа состоит исключительно из мужчин, как и везде на Востоке, но состав ее весьма разнообразен и хорошо укомплектован. Женские роли исполняются преимущественно молодыми людьми, хотя мы видели в роли женщины средних лет одного актера-старика (к сожалению, забыл его имя), который играл ее превосходно, совершенно по-женски, доводя свою игру до такой полной иллюзии, что не знай мы условий японского театра, можно бы было пари подержать, что это женщина. Если же когда и появляются на японской сцене действительные женщины, то это только в качестве танцовщиц, когда нужно изобразить строго классические позы и танцы в не менее классическом балете. Актеры в Японии составляют как бы особую касту, пользующуюся большою популярностью и симпатиями публики, которая нередко в воздание за хорошую игру делает им денежные подарки и иные приношения, о чем всегда пропечатывается в "Текие шимбун" и выставляется даже в особых объявлениях на стенах театра с обозначением имен жертвователей; тем не менее, поступление в актеры из порядочного общества считается делом весьма зазорным, и на такого человека смотрят уже как на погибшего. Предрассудок этот был так велик, что еще несколько лет тому назад многие авторы драматических произведений считали нужным скрывать свои имена, чтобы не могли сказать, что они якшаются с актерами. Теперь, под давлением европейских идей, это все уже значительно изменилось.
Театральный оркестр состоит из самсинов, дудок, флейт, флажолетов29, большого и малого барабанов, гонга и трещоток, что в совокупности являет музыку для европейского уха совершенно невозможную. Уловить во всем этом какую-нибудь мелодию нечего и думать, и я скажу, что на мой слух китайская музыка куда мелодичнее! Там, когда прекращается порой шум и грохот и наступает очередь одних струнных инструментов, вы слышите своеобразную гамму и вполне различаете мотив; здесь же в редкие моменты затишья варварских «мусикийских орудий», мелодия флейт и самсинов обращается в какое-то полутонное завывание. Музыканты помещаются сбоку, с правой стороны под литерною ложей, и прикрыты от публики решеткой. Впереди их сидят двое капельмейстеров или хорагов. Впрочем, должен сознаться, что это название не совсем-то подходит к разнообразному роду их обязанностей, но как назвать их иначе, я, право, не знаю. Обязанности их состоят, во-первых, в том, чтобы возвещать публике выход на сцену наиболее важных действующих лиц. Для этого в их распоряжении имеются деревянные кирпичи с кожаною перемычкой для продевания руки, которыми они с силой ударяют от двух до трех раз об пол. Во-вторых, они же во время самой сценической игры поясняют иногда зрителям то, что не выражается игрой или подразумевается автором, как, например, время или место действия, обстоятельства, при каких оно происходит, или что в данный момент должно происходить вне сцены и тому подобное. Также если герой, произнеся монолог, удаляется с подмосток, они иногда выражают о нем вкратце какое-либо подходящее мнение или рассуждение, вроде, например: «Бедный рыцарь Кисоноске! Как он жестоко страдает!» или «Великодушная мать! Какой пример геройского самоотвержения являет нам она собою!» В этом случае роль их отчасти напоминает роль хора древнегреческих трагедий, но все эти их сценарные вставки произносятся ровным монотонным голосом, как бы читая по книге. В-третьих, они же должны обращать внимание зрителя на особо важные или выдающиеся места диалогов, монологов и немых сцен, указывая на них сдавленно-гортанными возгласами «О!», «Ого!», «Гэ-э!» и тому подобное. Но не могу не заметить, что на наш взгляд все это только мешает слушать и нарушает цельность впечатления. Наконец, они же подают музыкантам знак, когда начинать и когда прекращать музыку. Суфлерской будки нет, но суфлеры имеются, и нередко у каждого из крупных действующих лиц есть свой особый суфлер. Так, например, когда на сцену выступает какой-либо герой для произнесения длинного, но не совсем-то заученного монолога, позади его прокрадывается, согнувшись, и его суфлер, одетый непременно во все черное, имея на лице черный креповый вуаль. Этот вуаль и цвет одежды должны обозначать, что его, собственно, нет на сцене ни в качестве действующего лица, ни в смысле суфлера, а потому-де зритель не должен вовсе обращать на него внимания как на нечто несуществующее. Суфлер приседает на корточки несколько позади актера, повернувшись к публике спиной, что также обозначает его сценическое небытие, и, откинув несколько вуаль, следит по вынутой из рукава тетрадки за монологом героя, подсказывая ему только в том месте, где нужно. С окончанием своей обязанности он, точно так же согнувшись, поспешно убегает со сцены, пока вновь не окажется в нем надобность. Во время диалогов и сцен появляются таким же образом по двое и более суфлеров, что на непривычного зрителя производит несколько странное и отчасти комическое впечатление. Театральные коскеисы, имеющие надобность появляться зачем-либо на сцене во время самого представления, например, убрать что-нибудь или осветить актера, одеваются так же как суфлеры, с такими же вуалями на лице и всегда стараются справить свое дело как можно поспешнее и незаметнее для публики. Я сказал «осветить актера»: это тоже совершенно оригинальное обыкновение японского театра, находящееся в прямой зависимости от отсутствия рампы. Если нужно обратить внимание зрителя на какую-нибудь особенность костюма, прически и гримировки актера, на его позу или мимику, то к нему подбегают с обеих сторон два коскеиса с длинными палками, на конце которых перпендикулярно насажено по восковой свече. Появление свеч у лица, у головы, снизу или сбоку служит публике указателем, на что именно следует смотреть в данную минуту.
Драма, которой предстояло нам любоваться, называется "Жертва школьного учителя".
Как только занавес был отдернут, музыка сразу замолкла, и на открывшейся сцене перед нами предстала детская школа. Около десятка мальчуганов сидели за низенькими пюпитрами; одни упражнялись в письме, другие громко зубрили свои уроки. Между ними находился и один великовозрастный балбес, лентяй и лакомка, но зато великий мастер на всякие школьничества и проделки над своим почтенным учителем. Эта комическая личность между учениками. Следует ряд комических сцен, заключающихся в разных проделках, с одной стороны, и выговорах с угрозами, с другой. Учитель – человек семейный, у него молодая жена и сынок лет пяти-шести, которого оба они страстно любят. Жена уговаривает мужа не горячиться и простить неразумных школьников, а пока что отдохнуть, выкурить одну-другую кизеру, освежиться чаем. В это время вдали на левых мостках показывается средних лет дама-горожанка, ведущая за руку шестилетнего мальчика. Она входит в школу и объясняет, что желала бы сдать своего сына в ученье, но предварительно ей нужно-де переговорить с почтенным педагогом об условиях с глазу на глаз. Учитель объявляет школьникам рекреацию, с тем, чтоб они убирались пока вон, и удаляет жену с сыном из комнаты. Оставшись с ним наедине, дама объясняет ему, что она супруга дайнио – владетельного князя (позабыл имя, но, положим, пусть будет хоть Овари, – да простят мне японские историки и драматурги эту вольность!). Учитель принадлежит к числу подданных этого феодала, который к тому же оказал ему когда-то какое-то благодеяние. Княгиня Овари, явившаяся инкогнито в костюме простой горожанки, берет с него клятву, что он сохранит в тайне то, что она имеет сообщить ему. Учитель дает слово. Тогда она открывает ему, что ее семейству угрожает страшная опасность, что сегун (опять-таки не помню имени), с которым они находится в родстве, принадлежа к одной из ветвей того же рода Такун-гавы из Гозанке, благодаря ложным наветам врагов, заподозрил князя Овари в замыслах на присвоение себе сегунальной власти, чтоб укрепить ее за своим родом. Поэтому мстительный сегун, как узнала она из тайного, но самого верного источника, не рискуя действовать в открытую, решил себе получить каким бы то ни было путем голову их единственного сына и наследника и тем пресечь в корне их мнимые замыслы. Наемные убийцы уже готовы и только ждут случая, а между тем муж ее в отсутствии, в дальнем походе, и сын их таким образом беззащитен. Она умоляет учителя принять мальчика в число своих учеников под другим именем и скрыть его у себя, пока не пройдет вся эта страшная опасность; она убеждена, что, возвратившись, ее невинный муж сумеет оправдаться перед своим властным и подозрительным родственником: она уже отправила к нему с письмом надежных гонцов, но теперь прежде всего должно спасти жизнь сына и сделать это, не теряя ни минуты. Учитель почтительно и твердо объявляет княгине, что готов исполнить ее волю чего бы то ему ни стоило, и что за безопасность мальчика он ей ручается своею головой. Растроганная, умиленная и обрадованная мать не знает как благодарить его и передает ему сына. Ей тяжко и страшно разлучаться со своим ребенком, но благоразумие повелевает это; в ней происходит борьба нескольких чувств, а малютка меж тем не хочет расставаться с нею; надо его уговорить, успокоить и в то же время надо спешить отсюда, потому что, как знать! быть может, шпионы сегуна не дремлют, быть может, они уже следят за каждым ее шагом. Учитель ради безопасности выпроваживает ее другим ходом, и она удаляется, кидая последний взгляд на своего малютку, улыбаясь ему сквозь слезы и утешая, что скоро вернется. На этом первый акт кончается.
Плато мгновенно поворачивается на четверть круга, и перед нами цветочный сад загородного чайного дома. Второй акт посвящен деятельности шпионов сегуна, которые сбились с ног в своих усердных розысках исчезнувшего маленького князя и сошлись на совет в условленном месте загородного сада. Здесь опять проходят перед зрителем в живых и не лишенных юмора сценах несколько буржуазных и сельских типов мужчин и женщин, которых шпионы стараются ловким манером и так, и этак зондировать насчет предмета своих поисков. Появляется, между прочим, великовозрастный придурковатый балбес, падкий на лакомства, которого с помощью сладких пирожков и нескольких чашек саки шпионам удается поддеть на свою удочку. Не ведая сам, что творит, он выбалтывает им, как надоела ему школа и как он предпочел бы всякой науке должность бето, конюха, тем более, что и сам великий сегун Фиде-Оси, Тайко-сама, первоначально был конюхом; далее рассказывает он, какие проделки учиняет каждодневно над своим учителем, как уважают его, балбеса, все остальные школьники и как он не дает им спуску, но сегодня-де учитель задал ему знатную трепку за то, что он отнял сладкий пирог у новичка, только вчера приведенного к ним в школу, и что за этим-де маленьким щенком больно уж ухаживает учителева хозяйка, для того что, надо быть, богатый или знатный: у них-де в доме и проживает. Эта болтовня вдруг дает шпионам нить, и они снова принимаются за розыски, составляют целый план действий, который в конце концов венчается полным успехом: убежище исчезнувшего мальчика открыто, остается только получить обещанную сегуном награду.
В третьем действии перед нами опять школьная комната того же учителя, только уже без учеников. Классные занятия кончились, наступил вечер. Семья учителя только что поужинала и мирно наслаждается вечерним отдыхом. Двое деток – сын этой семьи и его погодок, маленький князь, – играют между собой на циновке. Муж с женой любуются на их забавы и сами принимают в них участие, то рассказывая побасенки, то вырезывая из бумаги коньков и человечков. Но время уже и на покой. Жена уводит мальчиков спать и остается пока с ними укладывать их в постели, а муж тем часом берется за какую-то книгу. Но вот в глубине зрительной залы на левых мостках появляются три личности. Двое из них закутаны в темные киримоны с низко надвинутыми на глаза головными повязками, а третий – здоровенный атлет в коротком одеянии с наплечными накрахмаленными воскрыльями, оголенными мускулистыми руками и туго стянутым брюхом шествует за ними сзади. У каждого из них торчат за поясом по две сабли, – знак их чиновного достоинства. Лица исполнены мрачного и грозного выражения, а у заднего просто какая-то зверская отвратительная морда, на которую гример не пожалел ни красной и синей краски, ни сажи для выписки изогнутых и круто, сверху вниз мыском сведенных бровей. Они приближаются медленным, традиционно-трагическим шагом и, подойдя к ширме, изображающей на сцене входную дверь; один из передних тихим ударом в нее предупреждает о приходе нежданных гостей. Учитель отворяет дверь и отшатывается в немом ужасе. Таинственные незнакомцы тем же журавлиным размеренным шагом входят один за другим в комнату и тихо опускаются друг против друга на циновку, а третий останавливается у двери, приняв грозную позу со скрещенными на груди руками. Смущенный учитель с недоумением смотрит то на тех двух, то на третьего гостя. Ему делают знак приблизиться и указывают место. Учитель опускается на колени между ними, отступя несколько в глубь сцены. Тогда один из таинственных незнакомцев возвещает ему, что они Якунины (чиновники), прибывшие к нему по повелению великого сегуна, именем которого спрашивают его: он ли учитель такой-то. Тот отвечает утвердительно. Тогда приближается третий и, развернув сверток, читает данное ему повеление взять от учителя такого-то скрывающегося у него малолетнего сына князя Овари и в присутствии назначенных якунинов совершить над ним действие высшей справедливости. Учитель не сомневается на счет рокового значения этих слов: он по внешнему традиционному виду чтеца узнал в нем "меч правосудия", то есть собственного палача его высокой светлости. В удостоверение подлинности приказа ему показывают на свертке печать сегуна. Ни запирательства, ни сопротивления быть не может, и надо исполнить повеление немедленно. "Вы хотите взять его сейчас же?" – с полным самообладанием, по-видимому, равнодушно спрашивает учитель. – "Живого или мертвого!" – отвечает ему "меч правосудия". – "Сегуну нужна голова его". – "Голова?.. Да будет исполнена высокая воля!" И учитель поднимается с места, чтоб удалиться. "Куда?" – останавливают его Якунины. Он объясняет им, что дети спят уже, что надо взять мальчика так, чтобы не потревожить его собственного ребенка, который нездоров и, наверное, перепугается, увидя посторонних, что он-де сам сделает все осторожно, тихо и через несколько минут передаст им драгоценную ношу, а потому во имя уважения к святости семейного очага просит не следовать за ним и позволить ему удалиться. На его зов является жена, которой он приказывает остаться с якунинами и быть любезной хозяйкой, а сам с их позволения уходит. Через несколько минут учитель появляется из-за драпировки, неся в руках блюдо под шелковым покрывалом и прежде, чем вступить на сцену, приказывает жене удалиться на двор и не входить в дом, пока он ей не скажет. Та, конечно, не смеет ослушаться воли своего мужа и властелина, и в ту же минуту беспрекословно, с надлежащими почтениями удаляется. Тогда учитель медленными шагами приближается к авансцене, медленно опускается на колени на своем прежнем месте перед якунинами и сдергивает покрывало. Палач и Якунины смотрят на него глазами полными недоумения. Он страшно бледен, но сохраняет кажущееся спокойствие, только чуть заметное дрожание рук выдает его внутренние ощущения. Недоумение якунинов понятно: вместо ожидаемого ребенка они видят перед собой блюдо, покрытое цилиндрическим картонным колпаком вроде опрокитнутой коробки. С минуту длится немая сцена. "Высокая воля сегуна исполнена", – произносит наконец учитель глухим упавшим голосом и снимает обеими руками колпак. На блюде лежит мертвая голова ребенка. На этом третий акт кончается.
В следующем действии перед сегуном случайно раскрываются все козни врагов отсутствующего князя Овари. Подслушав их разговор, он убеждается в полной невиновности своего оклеветанного родича, но увы! уже поздно: к нему приносят отрубленную голову ребенка. Конечно, он отдаст приказ казнить клеветников самыми лютыми, мучительными казнями; он предоставит князю Овари наслаждаться зрелищем их мучений, но разве это удовлетворит его за потерю единственного, страстно любимого сына. Надо наконец объявить об этом несчастной матери, надо отправить к ней тело и голову для почетного погребения; но как сделать все это, как объявить ей такую ужасную истину?.. А между тем молва о мучительной смерти невинного ребенка уже распространилась по городу.
В последнем акте перед зрителями опять та же классная комната в доме учителя. Сам он сидит удрученный глубоким горем, не будучи в состоянии следить за занятиями своих учеников, ничего не видя, ни о чем не думая, кроме одной гнетущей его мысли. Вдруг порывисто входит на сцену княгиня Овари и останавливается перед учителем, пронзая его взглядом, полным укора, горя и негодования. Задыхающимся от волнения голосом она бросает ему в лицо укоризны и проклятия: зачем он так гнусно обманул ее доверие, зачем сам собственноручно отрубил голову ее сыну, когда Якунины требовали только его выдачи? Если б он выдал им его живого, ребенок остался бы жив, потому что сегун убедился в клевете! – "Где мой сын! Отдай мне моего сына!" – Кричит она ему в исступлении. Под градом ее проклятий учитель на минуту удаляется со сцены и затем со словами: "Вот он! Возьмите его!" выводит за руку маленького князя и передает его матери. Одно мгновение она стоит неподвижно как остолбенелая, не веря собственным глазам, и вдруг с невыразимым криком радости и счастия кидается к своему ребенку, прячет его в своих объятиях, целует, ощупывает его голову и плечи, смеется и плачет и снова начинает покрывать его поцелуями. Счастие ее беспредельно. А между тем отвернувшийся в сторону учитель стоит в глухой борьбе с самим собой, ломая руки, и, видимо, стараясь подавить в себе подступающие к горлу рыдания. Но наконец счастливая мать опомнилась от первого внезапно нахлынувшего прилива радости и бросается к учителю благодарить его. – "Но что ж это значит? – приступает она к нему с расспросами, – чья же голова была принесена к сегуну?" – "Голова моего собственного сына, государыня! Я сдержал свое слово", – почтительно отвечает ей учитель, и с этими последними словами надвигающаяся занавесь кладет конец немой картине, где мы видим княгиню-мать, как громом пораженную этой безмерной жертвой, и всю школу, как бы застывшую в одном чувстве ужаса и благоговейного почтения к своему наставнику.
На этом пьеса кончается. Время действия ее относится к XVII веку нашей эры, и сюжет, говорят, основан на историческом факте. Публика проводила последнюю картину знаками общего одобрения, которое здесь выражается далеко не так шумно, как в Европе; возгласов было слышно немного, да и то в обыкновенный голос; но зато со всех концов залы дружно раздавался сухой треск сложенных вееров, которыми зрители ударяли о ладонь левой руки. И действительно, как самая пьеса, так и ее исполнение вполне заслуживали похвалы. Это была мастерская игра, в особенности в двух выдающихся ролях учителя и княгини. Последнюю изображал старик-актер, о котором упомянуто выше. Я уже сказал, что его гримировка, манеры, походка, голос, – все это вполне женское; но, кроме того, сколько таланта и теплоты в самой игре его! Как тонко была разыграна им сцена прощания с сыном в первом акте и как превосходно выдержан весь последний акт! Достаточно сказать, что не зная языка и довольствуясь порой только краткими пояснениями А. С. Маленды, мы понимали весь ход пьесы и с живейшим интересом следили за нею от начала до конца, и это только благодаря самой игре актеров. Эта полная реальной и психической правды игра достигала порой до степени высокой художественности, что и делало ее, помимо языка, понятной каждому человеческому сердцу. К числу же недостатков игры вообще японских актеров, за исключением, впрочем, срух вышесказанных исполнителей, надо отнести стремление их к чересчур усиленной мимике: желая придать наибольшую экспрессивность выражению своего лица, в особенности в трагические и патетические моменты, они, что называется, пересаливают, и вследствие этого вместо улыбки или достодолжностной мины нередко получается утрированная гримаса.
Я не стану особенно распространяться об оригинальной концепции виденной нами драмы, в одно и то же время, если хотите, варварской, но и хватающей вас за самые чувствительные струны сердда. Уже из моего далеко не полного пересказа, затронувшего только самый скелет этой вещи, читатель легко может заметить, что японская драма прокладывает себе совершенно особенные своеобразные пути, не имеющие ничего общего с выработанным шаблоном европейских драматических произведений, и в то же время эта драма остается вполне на житейской, строго реальной почве; она воспринимает в себя все элементы жизни, перемешивая, быть может и не без умысла, трагическое с комическим, как то нередко бывает и в самой действительности, и воспроизводя вполне человеческие образы и житейские типы. В данном случае, например, вся драма завязывается и разыгрывается на глубоком чувстве родительской любви и на величайшей жертве, какую только могло принести это чувство во имя долга, обязательного в силу данного слова. Я уже говорил однажды, что любовь к детям составляет одну из самых выдающихся черт национального характера японцев, и поэтому вы легко можете понять, насколько жизненна и как близка сердцу каждого зрителя драма, построенная именно на этом мотиве. И потом, без сомнения, японская драма затрагивает и пробуждает в зрителе самые возвышенные, рыцарские и патриотические чувства, что всегда более или менее имеет здесь в виду каждый драматический автор; и в этом заключается ее прямое воспитательное значение для общества. Кроме того, вы никогда ни в одной японской пьесе не встретите интриги, которая была бы построена на нарушении замужней женщиной супружеской верности, на чем, напротив, в Европе строится чуть ли не девять десятых всех современных драм и комедий. Охотно допуская на сцену похождения дам Иошивары и вообще типы различного сорта куртизанок, иногда даже в чересчур реальных положениях, японский театр никогда не выводит незаконной связи замужней женщины, хотя вовсе не скрывает всех других ее недостатков и пороков. Некоторые европейские наблюдатели японской жизни и нравов находят в этом большой пробел, упущение или предрассудок, будто бы мешающий свободному всестороннему развитию драматической литературы, из круга которой таким образом изъемлется целая область особых житейских отношений, служащих всегда и везде самым обильным и благодатным материалом для романиста и драматурга. Но люди, более основательно знакомые со складом японской жизни и семейных отношений, не видят тут никакого пробела и объясняют это обстоятельство очень просто. Дело в том, как я и говорил уже прежде, что нарушение супружеской верности со стороны японских жен есть такое редкое, исключительное явление, что оно стоит совершенно вне характера и склада здешней жизни, а потому подобные вопросы отнюдь не могут служить темой для литературных и сценических произведений, всегда стоящих у японцев на реальной, жизненной основе. Просто сама жизнь не дает им для этого достаточной темы. Если же литература и касается иногда вопросов этого рода, то ее отношение к ним лучше всего выеснится нам на нижеследующем примере, который в то же время представляет и лучший образчик того, как понимаются здесь в народном сознании вопросы чести и нравственного долга. Я говорю о самой популярной новелле, передаваемой из поколения в поколение у семейного очага и служащей также одной из любимых тем для профессиональных уличных рассказчиков и импровизаторов. Новелла эта перешла также в письменную литературу в виде целого романа, очень богатого разными бытовыми подробностями, и наконец она же послужила сюжетом для сценической драмы, нередко представляемой в японских театрах. В литературе она известна под названием "Верный Союз", а в народном пересказе под именем "Истории о сорока семи ронинах". Основанием для нее послужило истинное, исторически достоверное происшествие, случившееся в прошлом веке, а именно, в 1727 году. Но, прежде, два слова о том, что такое ронин. Ронин значит павший или потерявший свое положение человек. Этим именем обыкновенно назывались самураи, то есть чиновники и люди придворной гвардии феодальных владельцев (даймио), утратившие своего патрона или лишившиеся его покровительства, вследствие ли постигшей их опалы, или же вследствие его разорения. По своему общественному положению эти даймиоские самураи, как я объяснял уже раньше, подходили ближе всего к бывшей "дробной шляхте", проживавшей "на ласковом хлебе", в качестве разных "официалов", при старопольских магнатах. Предпослав это необходимое объяснение, я должен еше заметить, что мой пересказ истории о сорока ронинах будет заключаться в одном только кратком изложении ее сущности, так как иначе пришлось бы дать перевод целого романа, состоящего из сплетения самых разнородных эпизодов и событий, проследить которые шаг за шагом было бы слишком утомительно для читателя, хотя бы уже по одной необходимости запоминать собственные имена множества действующих лиц и различных местностей. Итак, вот в чем заключается сущность этой любопытной истории: