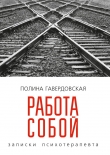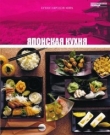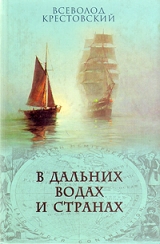
Текст книги "В дальних водах и странах. т. 2"
Автор книги: Всеволод Крестовский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 37 страниц)
По осмотре госпиталя, вышли мы на двор и видим: из мезонинного окна соседнего японского дома вывешены на крышу, ради проветривания, гражданский мундир с шитьем и принадлежности с лампасами. По этим признакам В. С. Кудрин сейчас же догадался, что тут должен жить сам Александр Алексеевич Сига, православный японец, состоявший несколько лет назад секретарем при японском посольстве в Петербурге. Мы сейчас же постучались к нему, но, к сожалению, не застали дома и оставили ему свои карточки. Затем пошли побродить по Иносе, посмотреть, какая она такая. Ничего, деревня, как деревня: ступенчатая дорога ведет легким подъемом в гору, образуя улицу, по бокам которой ютятся деревянные, большею частью, одноэтажные домишки с открытыми легкими галерейками и верандочками. У лавчонок, вместо вывесок, качаются большие, продолговатые фонари, испещренные черными японскими литерами. Встречаются и русские вывески на досках с надписями: "здесь размен денег", "мелочная лавка" и тому подобное. Там и сям из-за бетонных заборов виднеются цветущие садики и стены, покрытые ползучими растениями. Время от времени, поперек улицы или сбоку ее попадаются оросительные ручейки, резво выбегающие из-под маленьких арочек в каменных заборах и журчащие в солнечных искрах по разноцветной мелкой и крупной гальке, между папоротниками и зеленомшистыми камнями. На взгорьях разбросано несколько красивых, отдельно стоящих домиков японского стиля, около которых мелькнет иногда белая матросская фуражка офицерского "вестового". В таких домиках по большей части квартируют офицеры с русской эскадры "на семейном положении". Цена за квартиру, то есть в сущности за весь дом – от 20 до 30 иен в месяц, причем домохозяева, если жильцу угодно, будут в той же цене и кормить его произведениями японской кухни. Каждый квартирант необходимо имеет и свой собственный "экипаж", роль которого играет здесь фуне, для ежедневных сообщений с городом и судами на рейде. Фуне нанимаются тоже помесячно, обыкновенно за 30 иен, и нанятый таким образом лодочник уже во всякое время дня и ночи безусловно находится в распоряжении своего хозяина. Как бы ни засиделся офицер в городе, или сколько бы ни пробыл он у себя на судне, лодочник неотлучно будет ожидать его у известной, указанной ему пристани или терпеливо качаться в своей фуне на волнах, невдалеке от левого борта судна. Это, впрочем, не представляет для него особенного неудобства, так как фуне есть не только "экипаж", но в то же время и его жилище, где под сиденьем, в ящике, да в кормовом шкафчике хранится весь необходимый ему скарбик. Каждый из помесячных лодочников непременно сочиняет для себя свой особый флаг, под тем предлогом, чтобы хозяину приметнее была его фуне, а в сущности ради утехи собственному самолюбию: "я, дескать, плаваю под флагом капитана такого-то", и не иначе как "капитана", ибо у лодочников и извозчиков всякий офицер непременно "капитан". Все они более или менее понимают и даже говорят несколько слов и фраз по-русски, по крайней мере, настолько, что в случае надобности можно объясниться с ними и без японского словаря. Впрочем, знакомство с русским языком среди жителей Иносы вовсе не редкость: благодаря постоянному пребыванию на рейде русских стационеров, имеющих ежедневные сношения со "своим" берегом в Иносе, жители этой "русской деревни" уже вполне с ним приобвыкли, освоились с ними и в большинстве своем научились кое-как объясняться по-русски. В особенности охотно перенимают наши слова и песни местные ребятишки, мальчики и девочки; а между поставщиками и ремесленниками, как Кихе, Цунитаро, Бенгора, Гейшо и другие, попадаются люди даже весьма порядочно говорящие по-русски, что вообще свидетельствует об очень хороших лингвистических способностях японцев.
На одном из холмов стоит здесь довольно большой двухэтажный дом, прозванный почему-то нашими моряками "холодным домом", хотя сам он имеет претензию называться "гостиницей Невой", о чем свидетельствует и его вывеска. Замечательно, что эта "гостиница Нева", с буфетом и биллиардами, содержится каким-то японским семейством исключительно для русских. А чтобы не затесался в нее какой-нибудь посетитель иной национальности, хозяева сочли за нужное прибить над входом особую доску с предупреждающими надписями по-японски, по-русски и по-английски, которые гласят, что "сюда допускаются только русские офицеры". В качестве русских и мы зашли туда поглядеть, что это такое, и были с особым почетом встречены хозяевами, которые проводили нас в столовую залу верхнего этажа. Но за ранним часом мы отказались ото всяких угощений, кроме чая, безусловно необходимого в силу японского этикета, и предпочли отдохнуть несколько минут на глубоком крытом балконе, откуда открывается прелестный вид на рейд, на весь город и противоположные зеленые горы.
В этот же раз посетил я в Иносе и русское кладбище, расположенное в западном конце селения. Здесь, на одной "Божьей Ниве" соединены участки японские, голландский и русский. Японские могилки содержатся в отменной чистоте и украшаются цветами: почти у каждого памятника вы видите какую-нибудь цветущую ветвь или целый букет в большом бамбуковом стакане. Памятниками служат или гранитные столбики на ступенчатых пьедесталах, или стоячие плиты: те и другие покрыты иссеченными надписями, а на одном из столбиков заметили мы каменное и очень хорошо сделанное изваяние Будды, погруженного в глубокое созерцательное спокойствие. В голландском участке глаз посетителя беспрепятственно скользит по целым рядам и шеренгам однообразных надгробных плит, отличающихся одна от другой разве своими надписями. Ни крестов, ни цветов, ни памятников здесь не имеется, за исключением одного монумента, поставленного над могилой какого-то англичанина. Зато в русском отделе мы нашли и цветы, и пальмы, и сосны с кипарисами и туями, и иные растения, посаженные над могилами. Всех могил тут счетом шестьдесят, и покоятся в них под православными крестами все наши матросы да несколько офицеров… Надгробная плита Федора Яковлевича Карниолина, умершего в 1875 году, постоянно бывает украшена букетом свежих цветов, – приношение местных японцев, высоко чтущих его память. Тут же находятся могилы мичмана Владимира Павловского, с клипера "Изумруд", скончавшегося в 1866 году, и корпуса инженер-механиков подпоручика Николая Владыкина (1872 года). Родным и друзьям наших соотечественников, погребенных в Иносе, вероятно, отрадно будет узнать, что русское кладбище, благодаря постоянному и заботливому уходу за ним наших друзей японцев, содержится в отменной чистоте и прекрасном порядке. Японцы расчищают в нем дорожки, выпалывают дурную траву, подстригают деревца и нередко украшают русские могилы букетами, а их бонзы, живущие при местном кладбищенском храме, во дни, посвященные буддийскою религией памяти усопших, добровольно приходят молиться и над нашими могилами. Черта весьма трогательная.
На возвратном пути из Иносы в Нагасаки, мы видели в воде довольно большую (около семи футов) змею, не обнаружившую никакого беспокойства, когда наша фуне очень близко поравнялась с нею. Японцы уверяют, будто здешние водяные змеи ядовиты, и потому они очень боятся этих пресмыкающихся.
По возвращении в гостиницу, мы застали у себя А. А. Сига, который, вернувшись к себе домой, нашел наши карточки и тотчас же поспешил опять в город, с целью отыскать нас и познакомиться. Г. Сига или Сига-сан, по-японски, – молодой человек лет тридцати с небольшим, усвоивший себе вместе с костюмом вполне европейскую внешность и приемы. Он прекрасно говорит и пишет по-русски, и, кажется, мы приобретаем в нем живого и в высшей степени интересного истолкователя множества таких явлений оригинальной японской жизни, которые, встречаясь нам теперь на каждом шагу, невольным образом вызывают в нас вопросы: что, мол, это такое? как? почему? и так далее.
* * *
Сегодня наш адмирал отдал свой первый приказ по эскадре следующего содержания:
"Высочайшим повелением я назначен главным начальником морских сил на Тихом океане. Вступая в исполнение должности, предписываю командиру крейсера "Африка" сегодня вечером поднять мой флаг, о чем, по вверенной мне эскадре, объявляю".
В тот же день, в помещении главнокомандующего, на крейсере "Африка" происходило совещание высших чинов эскадры, на котором присутствовал и наш посланник в Японии, К. В. Струве. Между прочим, адмирал отдал распоряжение, чтобы для наиболее удобных и быстрых сообщений с нашим поверенным в делах в Пекине были назначены два военных стационера: клипер "Наездник" в Шанхай и крейсер "Забияка" в Чифу.
В шесть часов вечера, по спуске флага, у С. С. Лесовского, на верхней палубе "Африки" был сервирован обеденный стол, к которому приглашены К. В. Струве, барон Штакельберг, командиры наличных русских военных судов и некоторые другие лица. Кормовая часть палубы была в виде палатки очень изящно убрана флагами и роскошно освещена парой электрических ламп Яблочкова. Но особенно эффектен был вид этой кормы снаружи, с воды, уже темным вечером, когда мы возвращались с "Африки" на берег по неподвижной глади залива. Разноцветные стены палатки, освещенные изнутри электрическим светом, сквозившим в их щели, отражались в воде длинными радужными полосами вперемешку со столбами белого света. Эффект игры этого отражения, в данной обстановке, при такой роскошной декорации, какую представляет собою вся здешняя природа и в особенности при этой теплой, глубоко-синей и прозрачной ночи, был необычайно, волшебно прекрасен.
1-го сентября.
В восемь часов утра, при подъеме флагов, на бизань-мачте "Африки" впервые развился флаг главноначальствующего русских морских сил в Тихом океане. Вслед за этим с флагманского судна был сделан салют пятнадцатью выстрелами в честь японской нации. Ответ на него последовал немедленно же с восьмиорудийной японской батареи, расположенной на берегу за Децимой, в самой пяте залива. При этом салюте на флагштоке батареи был поднят русский военный флаг. За сим, все русские и японские военные суда вместе с английским корветом "Cornus" салютовали, пятнадцатью выстрелами каждое, флагу главного начальника нашей эскадры. Гром выстрелов, разносимый горным эхом по соседним скалам и ущельям, походил на гром небесный, столь долги и эффектны были перекаты рокочущего звука, благодаря условиям местности.
В этот же день, особым приказом главного начальника, суда Тихоокеанской эскадры разделены на два отряда: первый под начальством контр-адмирала барона Штакельберга, которому назначено иметь свой флаг на крейсере "Африка", и второй – под начальством контр-адмирала Асланбегова (флаг на крейсере "Азия"). В состав 1-го отряда назначены: крейсер "Африка", фрегат "Минин", клипера "Джигит", "Стрелок", "Наездник" и "Пластун", а в состав второго – крейсер "Азия", фрегат "Князь Пожарский", клипера; "Крейсер", "Разбойник", "Абрек", "Забияка". Оба отряда в непродолжительном времени должны сосредоточиться во Владивостоке. С прибытием же крейсера "Европа", главный начальник поднимет свой флаг на этом посыльном судне. Итак, наши боевые силы в Тихом океане состоят пока из тринадцати военных судов, не считая нескольких канонерских лодок, как "Горностай" (в Шанхае), "Нерпа" (в Чифу) и других, и нескольких больших судов, прибытие коих еще ожидается.
В девять часов утра к нам явился А. А. Сига, с которым еще вчера мы условились, что он покажет нам, то есть К. В. Струве, Поджио и мне, японский город. Кликнули четырех курум и разместились, по одному пассажиру, в их легоньких, лакированных дженерикшах. Но прежде позвольте объяснить, что это такое.
Дженерикшами называются в Японии маленькие, ручные, чрезвычайно легкие и изящно отделанные колясочки на двух высоких и тонких колесах, на лежачих рессорах, с откидным верхом, который сделан из непромокаемой (просмоленной) толстой бумаги, натянутой на три бамбуковые обруча. Образцы подобных экипажей мы уже видели в Гонконге и Шанхае, но истинная родина их – Япония. Хотя это изобретение едва ли насчитывает себе полтора десятка лет, тем не менее оно быстро и прочно привилось во всей стране, что теперь вы встречаете дженерикши решительно везде, как в городах, так и в самых глухих селениях внутренних провинций: здесь оно стало национальным, и благодаря этому, изобретатель дженерикши, какой-то столяр в Токио, очень быстро составил себе значительное состояние. Карума – название, присвоенное возчику и в буквальном смысле значит: "это – лошадь", хотя нередко и возчика, и его экипаж безразлично называют дженерикшами.
Курума, это совсем особый люд, заменяющий в Японии наших легковых извозчиков. Они обыкновенно обладают хорошо развитою, здоровою грудью и сильными мускулистыми ногами. Нехитрый костюм их состоит из синеватого бумажного платка для головной повязки да из синей бумажной же распашонки-сорочки, часто с каким-нибудь особым узорчатым знаком на спине, затканным белою нитью. Бедра у курумы всегда перетянуты длинным белым полотенцем, фундаши, которое служит основанием костюма каждого, уважающего себя, японца, от микадо до последнего кули, а ноги остаются зиму и лето совершенно голыми, ступни же обуты в плетеные соломенные зори – род сандалий. Экипажи их снабжены тонкими оглоблями, соединенными между собою перемычкой, в которую возчик на ходу упирается руками и грудью. Он сам впрягается в эти оглобли, заменяя собою лошадь, и отсюда проистекает его название курума, равно как и дженерикша значит: силой человека везомое. По вечерам и ночью бумажный фонарь с четко обозначенным нумером экипажа является необходимою, законом установленною принадлежностью каждого курумы, и полиция строго следит за соблюдением этого правила, а чуть у кого фонарь не зажжен, того сейчас останавливают, велят при себе зажечь и записывают нумер, для взыскания потом установленного штрафа. Курумы до такой степени втянуты в свое трудное занятие, что в состоянии пробегать рысью (а иначе они и не возят), без малейшей передышки, просто изумительные расстояния и когда бегут целою партией, как, например, в этот раз, то поощряют друг друга мерным выкриком в такт слова "харасе", так что кажется будто кричат они наше русское "хорошо". Курума, не задумываясь, прет и в грязь, и в воду, если нельзя иначе, но где есть хоть малейшая возможность, то всегда старается выбрать для своего экипажа более ровную и мягкую дорогу. Этот способ передвижения довольно быстр и очень дешев: за конец обыкновенно платится десять кредитных центов, что равняется нашим пятнадцати копейкам, хотя бы конец этот, не выходя из черты города, состоял из нескольких верст. Но такая плата считается еще очень высокою и взимается только с иностранцев: туземцы же ездят вдвое дешевле, причем нередко садятся в одну дженерикшу по двое. Если вам нужно сделать длинный путь или вы желаете доехать поскорее, то курума приглашает в помощь к себе товарища, который подпихивает экипаж сзади и время от времени чередуется с возчиком или тянет дженерикшу вместе с ним, становясь впереди и перекинув к себе на плечо в виде лямки свой пояс, привязанный к оглобельной перемычке. В этом случае плата удваивается, причем можно рядиться по часам, – от 20 до 30 центов за час. Все это, сравнительно с трудом, необыкновенно дешево. Все вообще курумы – люди добродушно-веселого нрава, очень смышленые и безукоризненно честные. Лишнего ни один из них никогда не запросит, приставать к вам за дачей "на водку" не станет, – он слишком самолюбив для этого, а если вы позабыли у него на сиделке какую-нибудь покупку, можете быть уверены, что курума непременно разыщет вас и возвратит позабытое. Вообще это тип чрезвычайно симпатичный.
Итак, мы покатили на четырех дженерикшах вдоль великолепно шоссированной набережной, мимо молодого бульвара и красивых палисадников, из-за которых выглядывают очень нарядные европейские домики дачного характера. Здесь помешаются почта и телеграф, а несколько далее – характерное здание старой китайской фактории с высокими флагштоками. Отсюда влево виден маленький низменный островок, берега коего укреплены бетонною набережной и застроены двумя-тремя зданиями европейско-колониального стиля в вперемешку с каменными складочными магазинами. В длину островок не более ста, а в ширину около пятидесяти сажень и отделяется от материка небольшим каналом, через который перекинуты два моста, Восточный и Северный. Здесь возвышается шпилек голландской кирки и флагштоки голландского и германского консульств. Это знаменитая Децима, старая голландская фактория, основанная в 1638 и уничтоженная в 1858 году в силу договора, открывавшего Нагасакский порт для всех наций.
В течение 220 лет Индийская Нидерландская компания пользовалась исключительным правом торгового посредничества между Японией и Европой, но это монопольное право давалось ей ценой очень тяжелого и даже нравственно-оскорбительного существования, какое вынуждена была вести Цецимская фактория среди населения, чуждого и враждебно настроенного относительно иноземцев. Здешние голландские негоцианты находились под вечным, тайным и явным присмотром якунинов (японских чиновников), без особого разрешения коих не имели права даже переступить за пределы островка, а когда и разрешалось им это, то не иначе как под конвоем тех же якунинов и японских стражников. На обоих мостах стояли рогатки, охраняемые военным караулом, и часовые не пропускали решительно никого ни в ту, ни в другую сторону без личного приказа дежурного пристава. Таким образом, жизнь голландцев в Дециме была чем-то вроде тюремного заключения. Через каждый четыре года Децимская фактория была обязана отправлять к сегуну, а иногда и к самому микадо особое посольство с выражением своей покорности; но членов таких посольств обыкновенно проносили от Децимы до Иеддо в закрытых наримонах (носилки), окруженных под видом якобы почета густым конвоем, дабы они не могли видеть окружающую их страну и жизнь народа. Мало того, при представлении членов посольства сегуну, которого они не могли даже видеть в лицо, так как он принимал их сидя за сетчатою ширмой, они были обязаны забавлять его грубыми клоунскими сценами, говорить между собою по-голландски, чтобы дать ему возможность потешиться над их "варварским" языком, наделять друг друга пощечинами, затевать между собою драку, изображать из себя пьяных, кувыркаться и пускаться в пляску. Говорят также, будто при этом их заставляли глядеть, как сегунские бето (конюхи) попирают ногами крест, а однажды и самих заставили проделать ту же кощунственную церемонию… И это все совершалось почти вплоть до 1858 года!.. Нидерландское правительство только в последнем своем договоре с сегуном выговорило себе отмену "приемов, оскорбительных для христианства".
Наконец наши курумы повернули налево и въехали в одну из улиц нижнего японского города. Часа два подряд колесили мы по разным местам и частям этого города, изъездили по крайней мере десятка три улиц и переулков, но все они до такой степени однообразно похожи друг на друга, что новому человеку ориентироваться в них с первого раза решительно нет возможности. Все улицы, за немногими исключениями, вообще довольно узки – от шести до двенадцати аршин в поперечнике; одни из них вымощены большими широкими плитами, другие прекрасно шоссированы. По бокам каждой улицы устроены глубокие проточные канавки, тщательно выложенные по дну и стенкам гранитными брусьями. Чистота повсюду замечательная. Дома следуют непрерывными рядами друг подле друга, и большая часть из них строена в один или в полтора этажа, причем низ всегда занят открытою снаружи лавкой и мастерскою. Двухэтажные дома с наружными галерейками в самом центре нижнего города встречаются лишь изредка, они отодвинулись больше к окраинам да на взгорья, где вообще просторнее, нет этой скученности, и воздух чище, и зелень тенистее. За редкими исключениями, все вообще постройки здесь деревянные, под тяжелыми черепичными кровлями аспидно-серого цвета. Вывесок очень мало, так как прохожий и без них свободно может видеть с улицы, где что продается или производится; изделия и товары все налицо, так что вся внутренняя часть нижнего города, в сущности, есть большая выставка японской торговой, ремесленной и промышленной производительности. Изредка, впрочем, встречаются и вывески, но совершенно своеобразные. Вот, например, над одною из лавок торчит, высунувшись на улицу, громадный распущенный веер, испещренный самыми яркими рисунками; вот не менее громадный мужской чулок, вырезанный из широкой доски и обтянутый белою бумажною материей: на одном перекрестке качается на жердинке белый шар, покрытый множеством рагулек, – это вывеска кондитерской лавки, изображающая гигантский обсахаренный бульдегом; в другом месте выставлена большая уродливая маска. Кроме того, вывесками служат большие фонари, а иногда и бамбуковый шест с носиком в виде буквы Г, на которой надета на кольцах длинная полоса белой бумажной материи с крупными черными надписями. Входы в некоторые магазины прикрыты снаружи особого рода занавесками из грубой бумажной ткани темно-синего или буро-красного цвета в виде пяти-шести отдельных узких полотнищ, на каждом из коих находится белое изображение условного знака, нечто вроде герба или девиза той или другой фирмы, либо начертано имя хозяина. Войти в такой магазин можно, не иначе как раздвинув какую-либо пару из этих занавесок.
Промышленность и торговля в Нагасаки не выделяются в особые группы по роду производства или товаров: вы, например, не найдете тут того, что называется у нас "рядами", где целая улица или несколько смежных лавок торгуют какими-либо одними изделиями вроде бумажно-ткацких, столярных, посудных и тому подобное. Напротив, тут перемешаны всевозможные торгово-промышленные и ремесленные специальности в самом неожиданном соседстве между собою, хотя при этом каждая лавка в отдельности строго специализировалась на каком-либо одном роде товаров. Тут встречаются вам рядом магазин шелковых материй и рыбная или колбасная лавка, стояярная мастерская и цветочная продажа, лаковые изделия и овощная торговля, книжный или фарфоровый магазин и лавочка соломенной и деревянной обуви; тут выделывают идолов, домашние алтари и киоты, здесь – бумажные фонари или зонтики, а рядом обширная торговля бронзовыми и медными изделиями, где вы встретите вместе со всевозможною домашнею посудой и утварью прекрасные вазы, флаконы, жаровни, курительницы, гонги, бубенчики, фонари и колокола для буддийских часовен. Далее наталкиваешься на продажу риса, туши и письменных принадлежностей, циновок, тортов-кастера, бамбуковых жердей, табаку и трубок, детских игрушек, бумажных змеев и раскрашенных картинок; изредка мелькнет вдруг какая-нибудь лавчонка brиc-a-brac со всевозможными японскими редкостями. Но курумы наши быстро пробегают мимо, а внимание мое только поверхностно может скользить по этому бесчисленному и разнообразному множеству выставленных предметов японской промышленности.
Но что более всего поражает нового человека в японском городе, так это замечательная тишина при многолюдном и бойком движении на улицах. Тут все движение исключительно пешеходное, даже дженерикши попадаются редко; вы не слышите ни грохота колес, ни стука подков о мостовую, ни вообще тех звуков, к которым так привыкло ваше ухо в городах европейских. Случается, проводят по улице караван вьючных лошадей, нагруженных рисом или товарными тюками, но и тогда не раздается их топот, потому что в Японии вместо подков надеваются на копыта мягкие соломенные башмаки. Изредка раздается только мерный сухой стук деревянных калош (сокки или гета) какой-нибудь торопливо пробирающейся горожанки; но так как громадное большинство обывателей ходит в сухую летнюю погоду в соломенных зори, то на улицах, где даже не раздается особенно громкого говора, слышен только какой-то легкий шелест и мягкий гомон, словно в пчелином улье, и это на первый раз производит с непривычки очень странное впечатление: все как будто не достает вам чего-то.
Затем еще замечательная черта: вы положительно не встречаете угрюмых, недовольных или уныло озабоченных лиц, без которых в Европе не найдется ни одной улицы. Здесь, напротив, в каждой туземной физиономии прежде всего бросается в глаза добродушно веселая улыбка внутреннего душевного мира, как будто все эти люди вполне довольны собою, своим положением и всем окружающим. При этом везде отменная вежливость и радушие. Встречаются, например, два знакомые между собою японца. Они тотчас же останавливаются и делают друг другу продолжительный и низкий поклон, который производится не иначе, как по известным этикетным правилам. Так, прежде чем поклониться, они слегка сгибают коленки, как бы полуприседая, и упираются в них ладонями, а затем уже, быстро втянув в себя струю воздуха, от чего получается короткий, как бы испуганный или удивленный присвист в виде звука "ихх!" начинают низко сгибать свои спины и головы. При этом, конечно, оба бормочут друг другу какие-то приветственные любезности, затем приподнимаются и тотчас же снова приседают в той же позе почтительного согбения, и так иногда проделывается это до трех раз и более, смотря по старшинству или значительности которого либо из них, причем младший или низший искоса, но зорко наблюдает, чтобы не подняться раньше старшего. Встретив такую курьезную сцену в первый раз, вы, может быть, не воздержитесь от невольной улыбке и помыслите: сколько, однако, времени тратят эти добряки на выражение своих приветственных церемоний! Но подумайте, не дает ли вам эта самая сцена весьма наглядное понятие о том, насколько развиты в японском обществе чувство взаимного уважения и вместе с тем патриархальная почтительность к старшим по возрасту ли, по положению или по личным заслугам на каком бы то ни было частном поприще? Самая общепринятость подобных форм вежливости, еще с незапамятных времен вошедшая как бы в плоть и кровь этого народа, есть один из важных устоев его прочно сложившейся общежительности и несомненно является чертою высокой, хотя и своеобразной цивилизации. Знакомые женщины при встрече между собою проделывают ту же церемонию, но – сколько я заметил – ограничиваются одним или много двумя поклонами.
Чрезвычайно странное впечатление производит также смешение принадлежностей европейского и местного костюма на туземцах. Национальный японский костюм состоит из киромоно или киримон – нечто вроде халата с широкими, как у рясы, рукавами, который бывает двух видов: верхний и нижний; у последнего рукава значительно уже и полы спускаются по щиколотку, а у первого падают немного ниже, чем по колено; женский же киримон нередко делается и длиннее, чем по щиколотку, образуя шлейф, подбитый для пышности ватой, и кроится он гораздо шире и полнее мужского. Сорочек ни тот, ни другой пол не носит, но их заменяет еще один, исподний, киримон из каких-нибудь легких тканей; у женщин он обыкновенно бывает из шелкового крепа светлых колеров вроде белого, бледно-голубого или светло-лилового, а более всего пунцовый; у мужчин же либо белый, либо светло-голубой с синими мушками. Верхний киримон, без которого неприлично показываться на улице, шьется обыкновенно из плотной бумажной материи темных цветов с сероватыми оттенками, преимущественно же бывают они серо-синие, благодаря чему вид уличной толпы в массе имеет в Японии всегда серовато-синюю окраску. Шелковые материи употребляются только на парадные киримоны, которые, однако же, никогда не изменяют скромному характеру темных цветов вроде сепии, индиго, темно-стального, табачно-зеленого и тому подобных, а совершенно черные считаются у мужчин даже наиболее соответствующими требованиям строгого изящества и вкуса, или тому, что у французов называется "комильфо" или "высший шик". Яркоцветные одежды носят только дети, преимущественно девочки, и очень молодые девушки до пятнадцатилетнего возраста; с выходом же замуж они тотчас облекаются в темное. Подпоясывается киримон у женщин широким длинным поясом, оби, из какой-нибудь узорчатой, толстой шелковой материи, где могут сочетаться как темные, так и светлые, даже яркие краски, хотя для повседневной носки предпочитаются все-таки темные. Эти оби нередко представляют собою чисто художественные произведения, когда по ним бывают затканы или вышиты разноцветными шелками и золотом изображения птиц, цветов, вееров, драконов и тому подобное. Существуют даже особые ткацкие фабрики, специально занятые изготовлением одних оби, от самых простых до самых роскошных, ценимых в двести и более иен, что для японских цен чуть не баснословная дороговизна. Оби вместе с пышною прической составляют главный предмет щегольства японских дам, которые носят этот пояс очень кокетливо, завязывая его сбоку или сзади пышным бантом, напоминающим бабочку с распущенными крыльями.
Мужчины, кроме исподнего киримона, носят еще узкие, в обтяжку, панталоны, а простолюдины нередко довольствуются одной коротенькой синей распашонкой, у которой на спине и по нагрудным бортам отложного широкого воротника иногда бывают вытканы белою нитью по два с каждой стороны какие-то красивые литерные знаки, а на полах – белые поперечные полосы вроде басонных петлиц. Нижний мужской киримон подпоясывается иногда узким вроде шарфа матерчатым поясом, иногда же красиво плетенным шелковым шнуром, а верхний обыкновенно носится на тесемчатых завязках. Кроме того, фундаши, длинный набедренный пояс, как уже сказано, составляет первое основание каждой мужской одежды. Обувь, как мужская, так и женская состоит из сине– или бело-бумажных сшивных носков с отдельным большим пальцем, что придает ногам вид копытцев фантастического гнома; но такая кройка носка необходима, потому что в промежность большого пальца продевается мягкий шнур, поддерживающий на ступне соломенную или деревянную подошву, которая бывает двух видов: сокки и гета.
Женщины и дети остаются безусловно верны как своему национальному костюму, так и национальным прическам; но у мужчин, особенно у молодых, нередко встречается смешение японских принадлежностей с европейскими, и, не могу сказать, чтобы было особенно красиво, когда на каком-нибудь одном субъекте надеты киримоны и английская пробковая каска (а то еще цилиндр или вульгарный "котелок"), а на другом – жакет с крахмальною сорочкой и японские панталоны. То же самое и относительно обуви: сокки при европейских штанах и американские ботинки при голых икрах. Что до мужских куафюр, то традиционную национальную прическу, требующую продольного пробрития темени и укладки на нем крендельком проклеенной и стянутой в жгут косицы (менго), хотя еще и сохраняют, но уже очень немногие, преимущественно старики и простолюдины, среднее же сословие и чиновники носят волосы поевропейски и даже запускают не только усы, но и бороды. Для чиновников ношение европейского костюма на службе и на улице сделано даже обязательным.