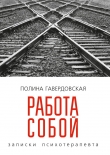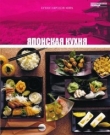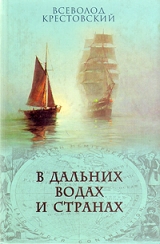
Текст книги "В дальних водах и странах. т. 2"
Автор книги: Всеволод Крестовский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 37 страниц)
Весь повседневный обиход домашней жизни совершается в трех, описанных выше, комнатах, то есть в кухне, скарбовой, которая почти всегда служит и семейною спальней, и в прихожей, заменяющей собою приемную и гостиную. Есть еще комната, посвященная домашнему алтарю, но она существует не для посторонних; это как бы святая святых домашнего очага, которую даже сами хозяева посещают только в случаях богомоления; потому-то и находится она всегда где-нибудь в стороне не на проходе. Так как прихожая служит и гостиной, то посреди нее на циновке всегда стоят: бронзовый хибач с тлеющими в золе углями, лаковый поднос с чайником и чашками и табакобон со всеми курительными принадлежностями. Вокруг хибача обыкновенно собираются все домашние, если не заняты каким-либо делом, а также посторонние посетители-гости. Опускаясь на колени, они садятся на пятки в общий кружок, греют над хибачем руки, пьют чай и саки, закусывают рисовыми сластями, болтают и курят, беспрестанно набивая табаком свои крохотные кизеру и после одной или двух затяжек, вытряхивая из них золу, так что в японском кружке только и слышишь пощелкивание чубучков о края пепельницы. Курят все, и мужчины, и женщины, а нередко и маленькие дети.
Все описанные принадлежности японского обихода сполна имелись и в занятом нами "отеле Прогресса". Но наибольший прогресс его выразился в обстановке столовой залы, помещающейся в верхнем этаже. Это собственно не комната, а большая с двух сторон открытая веранда с видом на соседние крыши и в особый сад, принадлежащий тому же дому. На зиму две смежные открытые стороны веранды закрываются раздвижными рамами, в переплеты которых вставлены стекла (большой прогресс), а снаружи, в виде балкончика их огибает особая крытая галерейка. В этой столовой пол застлан уже не циновками, а ковром, и стоит посредине ее большой стол под коленкоровою скатертью; вокруг него дюжина европейских стульев, а на столе фарфоровые вазы с цветущими прутьями персика и ветвями камелий. С потолка спускается европейская лампа; на стенах какие-то литографии с английскими подписями; в углу прибита вешалка с кабаньими клыками вместо деревянных колышков. Столовый прибор устроен также на европейский лад, даже салфетки есть, хотя и коленкоровые и притом очень маленькие. Стаканы и шкалики (вместо рюмок) хотя и несуразные, но стеклянные; ножи и вилки, хотя и не совсем такие, как у нас, неудобные, но по нужде годные к употреблению. Тарелки. Вот уж чего не ожидали! – Представьте себе, в этой стране великолепного фарфора тарелки вдруг английские, фаянсовые, с какими-то узорами, подделанными под японский стиль. И это в Нагойе, в Оварийской провинции, которая на всю Японию славится именно своими фарфоровыми и фаянсовыми изделиями для повседневного употребления!.. Оказывается, что английский фаянс уже во многих местах начинает мало-помалу вытеснять свой родной фарфор, и причина тому вовсе не в его дешевизне, а единственно в увлечении новизной и в ложном убеждении, будто европейское лучше своего японского. Значит, тоже "прогресс" в своем роде. Но как бы ни было, а сервировка стола все же несколько нас утешила: уже одно удобство сидеть привычным манером на стуле и есть ложкой и вилкой чего стоит! А то не угодно ли кушать на корточках, по-японски? Без привычки к такой позе, не пройдет и пяти минут, как у вас невыносимо заломит коленки.
Вскоре хозяин гостиницы, господин Синациу, или Синациу-сан, со множеством наипочтительнейших согбений, приседаний и преклонений, с шипением втягивая и выдыхая из себя воздух, – все это чтоб усилить видимые проявления и знаки своей почтительности, – отчасти торжественно, отчасти как-то таинственно доложил адмиралу, что сам-де губернатор, господин Номура, в сопровождении секретаря, экзекутора, переводчика и нескольких городских депутатов, приехал к гостинице, чтобы почтить его превосходительство своим визитом, и желает знать, угодно ли будет принять его. Адмирал приказал просить и сделал несколько шагов навстречу, как требует того здешний официальный этикет. Минуту спустя они явились. Сам господин Намура и секретарь с экзекутором были во фраках, остальные в обычных японских костюмах. Вошли они все неслышною походкой, так как обувь свою оставили внизу в сенях, и надо сказать, что эти официальные черные фраки с орденскими знаками, в соединении с белыми носками вместо сапог, производят на непривычный глаз довольно своеобразный эффект немножко комического свойства. Впрочем, и мы, со своей стороны тоже обретались в бессапожии. Произошли, разумеется, достодолжные взаимные представления, рекомендации, поклоны с втягиванием в себя воздуха и с покряхтыванием, рукопожатия и опять поклоны, приглашения садиться, курить, и снова поклоны, и снова покряхтыванья, и наконец, при помощи переводчиков, кое-как разговор завязался.
Не в первый уже раз приходится мне видеть японских чиновников нового покроя, и в большей части их замечал я одно характеристическое сходство, которое, наверно, покажется вам очень курьезным; они ужасно похожи на наших, – знаете, тех гладко выбритых, прилично причесанных коллежских асессоров и советников с приятно-солидным выражением и несколько геморроидальным цветом лица, каких вы, конечно, не раз встречали, особенно в провинции, где тот тип держится крепче в разных губернских правлениях, канцеляриях, казначействах и тому подобном. Нагасакский вице-губернатор, например, это типичнейший молодой прокурор из правоведов, с солидностью тона и манер, с выхоленным подбородком, оказывающим наклонность к образованию второго этажа и вообще с основательными видами на будущую служебную карьеру. Так точно и здесь, в Нагойе: экзекутор, сопровождавший господина Намура, ни дать, ни взять гоголевский почтмейстер Иван Кузьмич Шпекин. И манера, и ухватка у него совершенно те же. Все мы так и прозвали его сразу почтмейстером. Отчего, в самом деле, такое сходство? Казалось бы, что общего между нашим и японским чиновником, а между тем типичные черты один и тот же. Как это случилось, я уже не знаю, отмечаю лишь факт, насчет которого все самовидцы, надеюсь, будут согласны со мной.
Номура-сан просидел у адмирала довольно долго, ведя разговор, в котором со стороны японцев принимали некоторое участие только пожилой, сивоголовый экзекутор и молодой, но уже вполне чиновничьи-солидный секретарь. Остальные пребывали в упорном молчании, покуривая предложенные им папироски. Их шеи были вытянуты и головы слегка нагнуты вперед, очевидно ради изображения официальной почтительности и благоговейного внимания к речам старших, которым они иногда все в раз поддакивали сдержанными кивками и покачиваньем корпуса в виде полупоклонов. Объяснения происходили через посредство нашего Нарсэ и ихнего переводчика, владевшего английским языком. Между прочим, разговор коснулся фарфорового и фаянсового производства, которыми славится их провинция, и господин Номура, желая тут же показать нам образец последнего, послал одного из депутатов к себе домой за медною эмалированною вазой. Вещь действительно оказалась произведением замечательной работы: краски эмали, их подбор, рисунок и шлифовка наружной стороны сосуда, все это вполне изящно и оригинально; цена же, сравнительно с работой, пустячная, что-то около 28 или 30 иен. Вице-губернатор предложил нам осмотреть на другой день местные фабрики ткацких и фаланевых изделий, а также школы и некоторые другие достопримечательности города, за что мы, конечно, от души его поблагодарили. Город, по его словам, не из больших, имеет только 120.000 душ населения, но довольно производителен в промышленном отношении, хотя по части вывоза и не ведет непосредственно заграничной торговли. Произведения Нагойе сполна расходятся внутри страны, и только фарфоровые да фаланевые изделия попадают отчасти к иокогамским и токийским купцам, которые уже от себя перепродают их европейцам и американцам.
При прощании адмирал и мы все получили приглашение к обеду, который предположено устроить для нас завтра в здании местного музея.
2-го марта.
Часов около девяти утра, мы сидели за чаем, когда Синациу-сан со вчерашними вывертами и придыханиями доложил о приезде бригадного генерала Иби-сана. Через минуту в столовую вошел в сопровождении адъютанта с аксельбантами высокий статный мужчина лет около сорока, с очень умным и симпатичным японским лицом, в черной гусарке, белых лосиных рейтузах и высоких ботфортах, при сабле. Он просто, по-европейски, поклонился, назвал себя по имени и объяснил, что будучи начальником расположенных в округе войск и комендантом замка получил от вице-губернатора извещение о желании русских гостей осмотреть Нагойский замок, а потому поспешил познакомиться с адмиралом лично и предложить ему для этого осмотра свои услуги. Посидев минут около десяти, генерал Иби откланялся, а вслед за его уходом на пороге появился наш милейший и почтеннейший Иван Кузьмич Шпекин, – на этот раз уже не во фраке, а в черном сюртуке, но все-таки без сапог, в одних носках, и любезнейшим образом, потирая свои ручки и покряхтывая, объявил, что если адмиралу угодно начать осмотр нагойских достопримечательностей, то дженерикши уже ожидают нас перед дверью гостиницы, а он, Шпекин, будет нашим путеводителем.
Прежде всего поехали мы в замок Оариджо опять таким же как вчера длинным поездом в предшествии и сопровождении полицейских чиновников, Шпекина, секретаря и двух переводчиков. Пришлось ехать на самый конец города, вглубь, то есть в сторону, противоположную пристани Миа, и мы не могли не заметить сразу, что в этих кварталах город уже значительно утратил свой исключительно промышленный характер: здесь довольно часто попадаются прехорошенькие домики с садиками и палисадниками, но без лавочек в нижних этажах, и живут в них, все равно как и в Нагасаки на Мумамачи, семейства богатых горожан, купцов и фабрикантов, имеющих свои заведения особо, самураи, бывшие и настоящие чиновники и офицеры, последние – поблизости к своим казармам. В этой же части города расположены и войска, размещенные в особых казармах, которые очень чистенько и весело выглядывают из-за подстриженных аллей и газонов.
Замок окружен двумя стенами – внешнею и внутреннею; обе сложены из дикого камня и по массивности являют собою сооружения чуть не циклопического характера. Первая из них окружена широким и местами довольно глубоким рвом, который, в случае надобности, наполняется водой. Все углы снабжены выступами, дающими каждому фронту фланговую оборону, и сверху стены защищены толщей земляного, облицованного дерном бруствера, на котором в разных местах успели вырасти и состариться целые аллеи толстых, искусственно искривленных сосен. По деревянному мосту, лежащему на прочных каменных устоях, переехали мы через ров и очутились под массивными глубокими воротами, при которых слева помещается гауптвахта. Пехотный караул стал в ружье и отдал адмиралу честь по японскому уставу, причем горнист на правом фланге, не трубя, но как бы собираясь трубить, все время держал свой инструмент перед губами. Отсюда, едва сделав несколько шагов, мы повернули направо, в другие такие же точно ворота во внутренней стене, за которою находится второй двор замка, и здесь адмирала встретил другой пехотный караул с такою же почестью. Против этой последней гауптвахты стояло под узеньким навесом несколько заседланных ординарческих лошадей, которые, в скучном ожидании разгона, уныло и покорно предоставляли дождю мочить свои хвосты и челки. Сделав еще один заворот, вступили мы, наконец, под сень высокого и широкого портала, фронтон которого украшен резьбой. На крыльце встретили нас адъютант и ординарцы генерала, держа в руках свои кепи расшитые позументом, и пригласили следовать за собою. Видя что они не надевают шапок, мы поневоле, из вежливости, несмотря на холод и сырость, тоже обнажили головы (почем знать, думалось, может оно так нужно по каком-нибудь их этикету) и направились вдоль по широкой галерее, которая с одной стороны смотрела в замковый сад, а с другой на нее выходили окна разных канцелярий военно-окружного управления, где корпело над европейскими столами десятка три писарей, одни в форме, другие в гражданских киримонах, усердно выводя кистями какие-то каракульки на длинных свитках тончайшей бумаги, а чиновники, так же как и у нас порой, читали тем часом газеты, болтали, покуривали и вообще благодушествовали. Пройдя один или два заворота по длинной галерее, мы очутились на пороге приемной залы, где встретил нас генерал Иби со своим начальником штаба, в чине полковника. Здесь, посредине обширной комнаты, стоял большой круглый стол под зеленою скатертью и вокруг него около дюжины узеньких кресел, на которых мы и разместились "отдохнуть" по приглашению любезного хозяина. Служители из нижних чинов в форменных куртках тотчас же стали разносить обычное угощение чаем; табак же и японские папиросы с табако боном уже раньше стояли на столе к нашим услугам. Эта приемная комната и служащая как бы ее продолжением смежная с нею веранда с выходом в сад – это в своем роде chef d'oevre японской орнаментации: их потолки и верхняя половина стен украшены резными из дерева горельефами, какие до сих пор довелось мне видеть только в Сиба: тот же стиль, то же совершенство артистической работы и, быть может, один и тот же мастер-художник. Точнее всего, эти произведения можно назвать древо-скульптурными фресками, главным сюжетом коих являются мифические драконы, цветы и разные птицы. Адъютант достал из шкафа вделанного в стену приемной комнаты целую серию фотографических снимков с разных зданий и частей Нагойского замка, его комнаты, резных потолков, расписных плафонов, стенных фресок, ширмовых картин и отдельных орнаментов. Каждый снимок уложен под стекло, в особый плоский ящичек с выдвижною крышкой. Полюбовавшись на эти изображения и отдав в душе Японцам полную дань уважения за их уменье беречь и ценить свою художественную старину, мы, по приглашению генерала Иби, отправились осматривать замок.
Нам объяснили, что замок Оариджо построен без малого триста лет назад при сегуне Минамото-но-гийеясу по прозванию Гогензама [58], а реставрирован впоследствии известным народным героем Коно. Знаменитый живописец Ханабуса-Ицио расписывал стенные ширмы этого дворца, которые сохранились до сих пор в том же виде, как вышли из мастерской художника, почти не утратив первоначальной свежести красок – тайна, которою владел этот мастер, за что произведения его и ценятся теперь очень дорого. Картины эти изображают сцены охоты, скачек, гимнастических упражнений, воинских лагерей, духовных процессий и придворных выходов и приемов удельных князей сегунами. Все вообще залы дворца Оариджо щеголяют своими многочисленными и разнообразными ширмами. Продольные и поперечные столбы, а также балясины и балки в иных комнатах покрыты черным лаком, а в других сохраняют натуральный цвет дерева, которое, впрочем, от времени приняло почтенную потемнелость. Скрепления между этими деревянными частями украшены бронзовыми наконечниками и розетками, тоже успевшими от времени подернуться зеленоватым налетом яри. Жаль только, что за отсутствием мебели, которая не свойственна японской домашней обстановке, эти залы при всем их великолепии производят впечатление какой-то грустной пустынности, невольно все кажется, что здесь не достает чего-то. Задаешь себе вопрос: чего именно? – и чувствуешь, что не достает жизни – той жизни, которая самой последней бедной хижине придает привлекательный вид домовитости благодаря разным предметам домашней обстановки. В одной из зал стоит в углу довольно объемистая деревянная модель большой башни этого замка, известной под именем Теней, и это единственный предмет, на котором, за исключением стенных ширм и орнаментов, вы можете остановить свое внимание. Впрочем, любезный комендант замка предложил вместо модели осмотреть настоящую башню и полюбоваться из окон ее верхнего этажа видом на окрестности.
Мы спустились во внутренний двор, к одноэтажному приземистому зданию массивной постройки, с большими железными воротами, и войдя в них, очутились в каком-то темном сарае, из которого вышли в другие такие же ворота и направились по узенькому, открытому сверху проходу, мимо двух каменных стенок снабженных стрельницами. В конце прохода высились третьи железные ворота, устроенные в фундаменте самой башни Тенси. Этот четырехсторонний фундамент, в виде усеченной пирамиды, сложен из громадных необделанных камней и высотой своею почти на одну треть превышает высоту крепостных стен этого замка. На таком-то массивном основании высится четырехсторонняя белая башня с бойницами и стрельницами. Четыре яруса крыш обыкновенного японо-китайского типа, с широкими и несколько загнутыми кверху полями и наугольниками, делят башню на четыре пропорционально суживающиеся этажа, из коих нижний имеет в основании своем тысячу, а верхний только сто татами (циновок). [59] Гребень высокой кровли покрывающий верхний этаж украшен с обоих своих концов двумя литыми из бронзы и позолоченными рыбами тай, значительных размеров, с загнутыми кверху хвостами, что издали очень напоминает бронзовых дельфинов, нередко украшающих фонтаны и бассейны в европейских садах и парках. Эти рыбы находились на Венской всемирной выставке 1873 года. Высота всей башни от основания до гребня равняется двадцати пяти саженям. При строгом соблюдении пропорциональности во всех частях постройки, как в общем, так и в деталях, башня Тенси производит своим видом впечатление вполне стройное, художественное и может служить лучшим образцом японского вкуса и стиля.
Через калитку массивных железных ворот вступили мы в башню и очутились внутри циклопических стен фундамента в полутемном громадном погребе. Здесь находится обширная глубокая цистерна, над которой устроены два или три водоподъемные колеса. Она имеет назначение снабжать замок водой во время осады. В первом и втором этажах помещаются вещевые склады и арсенал, ныне, впрочем, разоруженный, в третьем – казарма, предназначенная под помещение команды, а в четвертом – склад металлических патронов. В этом последнем этаже нельзя не обратить внимания на прекрасные решетчато-резные квадратные паркетки потолка и бронзовые болты, скрепляющие различные части деревянных устоев и балок. Гайки болтов сделаны розетками с позолоченным узором чрезвычайно изящной работы, вроде тех, что мы видели в парадных залах этого замка.
Когда раздвинули створчатые щиты окон, служащих и бойницами, среди нас невольно раздались восклицания: "Какая прелесть!.. Какая широта кругозора!.. Смотрите, как хорошо все это!.."
И действительно, вид был великолепен.
Как с птичьего полета со всех сторон открылись перед нами город Нагойе и Оварийский залив, и вся окрестная страна, подковообразно огибаемая от одной части берега до другой отдаленными горами, которые, постепенно понижаясь к морю, переходят в пологие холмы волнистого рисунка. Наша "Африка" чуть-чуть виднелась вдали на громадном пустынном пространстве залива и казалась совсем миниатюрным суденышком, точно черное пятнышко или муха на огромном зеркале. Весь город, изрезанный правильными четырехугольниками улиц и пронизанный вдоль бесконечною Хончо, лежал под нашими взорами со своими аспидно-серыми черепичными крышами, флагами, садами, священными рощами, массивными кровлями храмов и суставчатыми башнями остроконечных пагод. Но любопытнее всего было зрелище окружающей его обширной равнины: докуда мог лишь хватить глаз, вооруженный биноклем, вся она сплошь представлялась изрезанною оросительными каналами и межами рисовых полей, огородами, плантациями, рощами и садами, между которыми виднелись отдельно разбросанные в близком расстоянии друг от друга хутора, хижины и деревни. Судя по их количеству, население этой равнины должно быть очень значительно. Узенькие дороги, служащие в то же время плотинами и вьющиеся между полями от жилья к жилью, большею частью обсажаны аллеями деревьев, а по сторонам их, куда ни глянь, все сплошь обработано и засеяно самым тщательным образом. Представьте себе, что на всем этом громаднейшем пространстве решительно ни одного невозделанного клочка!.. Люди сведующие свидетельствуют, что точно таким же высококультурным образом возделана и вся Япония, за некоторым исключением северных частей острова Матсмая и островов Курильских, где условия сырого климата не вполне вознаграждают земледельческий труд. Не говоря уже о России, вряд ли найдется что-либо подобное в самых культурных странах Европы, и опять-таки невольно приходишь к заключению, что не японцам у европейцам, а этим последним не мешало бы научиться у японцев, как обращаться с землей и разумно извлекать из нее всю возможную пользу.
Простившись с любезным генералом и его офицерами, мы, по предложению нашего чичероне-экзекутора, поехали осматривать учительский институт и мужскую гимназию. Оба эти заведения помещаются в отдельных зданиях колониальной архитектуры с примесью японского характера в разных деталях и отчасти во внутреннем устройстве. Директор учительского института – небольшой сухощавый мужчина с очень интеллигентною физиономией, в японском костюме – встретил нас очень любезно, но, к сожалению, не мог показать ничего кроме стен, так как в этот час занятий не было, и студенты распущены в город; стены же представляли собой мало любопытного, если не считать большой географической карты итальянского издания, на которой границы Японии, Кореи, Сахалина, Уссурийского края и даже Камчатки обведены одной краской.
Посещение гимназии было несколько удачнее. На дворе и в коридорах раздавался шум детских голосов, мы попали как раз в промежуточную рекреацию между двумя уроками. Директор – еще молодой человек в европейском костюме и, по-видимому, большой франт – пригласил нас в конференц-залу, где, по обыкновению, тотчас же были предложены нам миниатюрные чашечки с чаем и японские папиросы. Стены этой комнаты были увешаны географическими картами и иными пособиями для наглядного обучения исключительно на английском языке, а книжные шкафы наполнены исключительно английскими изданиями. Мы не встретили на полках не только французской или немецкой, но даже ни одной японской книжки. Говорят, будто в новейших японских школах все усилия направлены к тому, чтобы как можно скорее и успешнее обангличанить учеников и порвать в них нравственные связи и традиции с прошлого Японией. Насколько в этом правды, я, конечно, не знаю, но сталкиваться с такими мнениями приходилось не однажды. Впрочем, быть может, они принадлежат людям не сочувствующим вообще политическому направлению современного правительства Японии.
Директор-японец, прекрасно говорящий по-английски, объяснил нам, что в гимназии у него обучаются 190 мальчиков. Первоначальное образование заключается главнейшим образом в изучении английского языка, на котором поэтому и преподается большая часть предметов гимназического курса. Прежняя классическая система, заключавшаяся в изучении китайского языка и литературы, ныне отставлена и заменена изучением языка английского, как наиболее необходимого японцам при сношениях с европейцами. Контингент учителей гимназии с самого ее основания состоит исключительно из одних японцев, получивших образование в Токийской школе языкознания. Вообще учителей из европейцев, так же как и инструкторов в войсках и техников, приглашают только в случае первоначальной необходимости, на время, пока они не подготовят и к учительской должности японцев, которые и заменяют их повсюду при первой возможности. Это и обходится намного дешевле правительству, и дает ему возможность замещать служебные должности своими людьми. Курс учения в гимназии четырехлетний, но классов восемь, так что ученику приходится быть в каждом классе по полугоду, а за вычетом праздников и каникул, на ученье остается по пяти с небольшим месяцев. Перевод в следующий класс допускается не иначе, как по экзамену.
Между тем рекреация кончилась, и директор предложил нам осмотреть некоторые классы. Поднявшись во второй этаж, он ввел нас в просторную аудиторию с обыкновенною школьною обстановкой и объяснил, что это младший, начальный класс, где практикуется обучение английской азбуке и чтению. Мальчуганы, одетые кто в европейском, а большею частью в японском костюме, по знаку учителя, все разом поднялись с мест и затем, по его команде, разом отвесили посетителям поясной поклон, низко сгибаясь над столами, после чего, по команде же, разом опустились на свои места. Директор предложил учителю продолжать занятия. Тогда этот последний, вооружась длинным бамбуковым кием, повернулся к стене, в которую была вделана громадная аспидная доска с крупно написанными мелом английскими складами, и, указывая кием на первый слог, отчетливо выкрикнул "бе!" (английское "ва").
– Бе-е-е! – целым хором и все враз прокричали ученики с большим усердием и единодушием.
– Бе! – возгласил снова учитель с тем же приемом.
– Бе-е-е!! – еще громче ответили мальчуганы.
И таким образом это "бе" повторилось с обеих сторон раз десять, прежде чем перешли к следующему слогу. Но потом оно стало варьироваться: учитель произносил по несколько слогов то подряд, то вразбивку, тыча в каждой слог своим кием, а ученики повторяли за ним эти вариации речитативом, так что выходило нечто вроде пения, только чересчур уже громкого вследствие усердия.
Поблагодарив преподавателя, мы перешли во второй класс, где десятка два учеников упражнялись в английском чтении. При нашем появлении повторилась та же церемония с поклоном по команде и то же предложение со стороны директора продолжать занятия. Учитель приказал мальчикам раскрыть на известной странице хрестоматию, и затем по его знаку весь класс разом поднялся с мест и, стоя, разом же принялся в полный голос читать какое-то английское стихотворение. Манера этого чтения напомнила мне наши учебные команды, где обучают солдатиков точно так же мерно и враз отчеканивать: "Здравия, желаем, вашему, высоко, прево, сходитель, ству!!! "
В третьем классе, где шел урок географии, всех учеников было только двенадцать. Некто из наших спутников предложил одному из них какой-то вопрос насчет Египта, но живой мальчуган только посмотрел на неожиданного экзаменатора недоумелыми глазами и ничего не ответил вероятнее всего потому, что не понял того японского языка, на каком к нему обратились.
Показ методы преподавания, конечно, не ограничился бы тремя начальными классами, если бы нам не предстояло еще многое осмотреть в городе, тогда как времени на это имелось только один день, да и тот прескверный, благодаря снежно-дождливой погоде; поэтому мы поспешили поблагодарить директора за его любезность.
Показ методы преподавания, конечно, не ограничился бы тремя начальными классами, если бы нам не предстояло еще многое осмотреть в городе, тогда как времени на это имелось только один день, да и тот прескверный, благодаря снежно-дождливой погоде; поэтому мы поспешили поблагодарить директора за его любезность и, откланявшись, поехали в ткацкую школу.
Это последнее заведение учреждено специально для молодых девушек, и все обучение в нем ограничивается одним только ткацким делом. В очень чистеньком японском домике устроены контора и выставка школы, где всегда можно видеть образцы ученических работ по которым какой-нибудь фабрикант-наниматель, имеющий надобность в ученой мастерице, наглядно может судить о степени знания и искусности каждой из учениц кончающих курс обучения в этой школе. Открытая галерея ведет из конторы в двухэтажный длинный барак, в помещении которого сосредоточены все отделы обучения, начиная с сортировки и чески хлопка, сученья ниток, их окраски и проч. Мы застали в бараке до пятидесяти молодых девушек (ученицы все приходящие), которые пряли на деревянных станках, под руководством двух учительниц и мастеров, из коих один руководил отделом пряжи. Хотя школа легко могла бы обзавестись усовершенствованными станками американской конструкции и паровиком для приводов, но работа в ней производится исключительно на деревянных японских станках, приводимых в действие нажатием ноги, и это потому что школа преследует не индустриальные цели, а имеет задачей только научить небогатых девушек прясть и ткать тем хозяйственным способом каким придется им работать у себя дома, удовлетворяя потребностям своего семейства. Поэтому в школьной мастерской производятся преимущественно бумажные материи, обыкновенно употребляемые людьми небогатыми и простонародием; искусство же выделывать дорогие шелковые и парчовые ткани преподается только желающим посвятить себя специально этому ремеслу, и такие ученицы обыкновенно поступают потом мастерицами на частные ткацкие фабрики, которыми, между прочим, славится Нагойе. Мы видели здесь два такие заведения, – одно на 150, другое на 170 станков занятых исключительно женщинами, и второе из этих заведений выпускает одних лишь бумажных материй на 30.000 иен ежегодно.
Обе ткацкие фабрики помещаются в нескольких длинных холодных бараках или, вернее сказать, сараях с земляным полом. В пасмурные зимние дни, чтобы дать более света необходимого при работе, раздвигают створчатые ширмы, заменяющие с одной стороны наружную стену, и таким образом мастерицам приходится работать на открытом воздухе, несмотря на зимний холод. Но Японцы этим не смущаются: они все очень привычны к холоду и переносят его куда лучше нас, северных жителей. Наши крестьянки при такой температуре, полагаю, едва ли были бы в состоянии заниматься подобною работой. Но это еще что! При тканье работница все же имеет некоторый моцион, производя механически непрерывное движение ногой и руками, что в известной мере поддерживает внутреннюю температуру тела на той высоте при которой внешний холод менее ощутителен, а вот, например, работа эмальера или живописца по фарфору при таких условиях является просто изумительным делом. С особенным любопытством посетили мы два заведения этого рода, и вот что видел я в мастерской где занимались разрисовкой фарфора. Привезли нас в довольно поместительный домик зажиточного горожанина, ничем по наружности не отличающийся от множества ему подобных. Входим в прихожую. Здесь, расположась в углу на циновке, сидел на корточках старичок, буддийский монах, с бритою головой, окруженный несколькими фарфоровыми ступками и мисками, и растирал в мельчайший порошок различные краски при помощи длинного, толстого пестика. Старичок с таким сосредоточенным вниманием и так усердно предавался своему делу что, казалось, будто сам обратился в какую-то растирательную машину. В следующей комнате, которую вернее будет назвать просторным и светлым сараем, где температура едва ли отличается от наружного воздуха, сидели за делом человек десять рисовальщиков. Сидят они на циновке на корточках или поджав под себя скрещенные ноги как наши портные. Пред каждым на полу же стоит несколько маленьких фарфоровых чашек с особо приготовленными составами разных красок и лежат различной величины кисти. Одною рукой рисовальщик держит у себя на колене белый фарфоровый сосуд, а другою, безо всякой поддержки и упора, выводит по фарфору тончайшие рисунки. Глядя как работают эти люди в самой по-видимому неудобной обстановке, в холодном сарае, где наш брат и пяти минут не высидит без пальто, поневоле удивляешься как это возможно работать при таких условиях! А работают. Затечет нога, рисовальщик переложит ее на другую ногу или пересядет на корточки; закоченеет рука от холода, он подержит ее минуту над хибачем, ухитрясь при этом затянуться два раза из микроскопической кизеру и выпить миниатюрную чашечку чая, и снова за работу. В особенности была замечательна работа одного юноши лет семнадцати, который выводил арабески золотого орнамента по бордюру великолепной темно-синей (ultramarine foncé) вазы. Эта работа требует такой математической точности и симметричности в малейших деталях весьма затейливого рисунка что на европейских фабриках ее не нашли бы возможным исполнить иначе как по трафарету; здесь же этот юноша выписывал кистью сложнейший рисунок на память и просто от руки, не опирая даже ребро ладони на орнаментируемый сосуд. Пред ним не лежало оригинала с которого можно было бы срисовывать, как делали некоторые его товарищи, рисовавшие цветы и пейзажи. Эта твердость руки, это отчетливое знание рисунка и самый способ рисовки поистине изумительны. Казалось бы, при таких условиях так естественно дрогнуть руке и провести какую-нибудь неверную черточку, так легко позабыть какой-нибудь маленький кудрявый завиток, пропустить невзначай какую-нибудь мельчайшую деталь, а между тем у него ничто не забыто, ничто не пропущено. В первую минуту, пока мы не пригляделись к его работе, просто глазам не верилось чтобы возможно было сделать это подобным способом. Выписывал он рисунок каким-то густым и долго несохнущим лаком цвета темной охры, а потом сухою кистью наводил на него золотой порошок, после чего лак почти мгновенно высыхал, принимая такую плотность что позолоту уже невозможно ни стереть, ни смыть, ни иным способом снять с фарфора. Не знаю, сам ли рисовальщик компоновал этот орнамент, что называется «из головы», или же воспроизводил его на память с какого-либо существующего оригинала, во всяком случае такой талант и такая память замечательны. И не думайте что этот юноша является каким-нибудь феноменальным исключением из общего уровня; нет, он просто хороший рисовальщик, какие непременно найдутся в каждой здешней мастерской, и эти люди вовсе не считают себя художниками: они простые ремесленники работающие за поденную плату. И ведь за какие ничтожные гроши (если ценить на европейскую мерку) все это делается! Лучший рисовальщик, как мне сказывали, получает за свой труд не более одного иена в день, а средняя плата от 30 до 50 бумажных центов. Но при скромных потребностях и неприхотливости этих людей, они считают такую плату вполне достаточною, а 30 иен в месяц это уже для них чуть не верх благополучия.