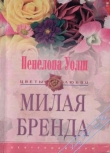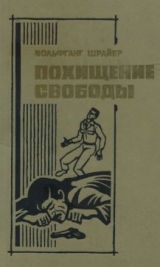
Текст книги "Похищение свободы"
Автор книги: Вольфганг Шрайер
Жанры:
Шпионские детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 28 страниц)
На следующий день в газете «Фрейхайт» («Свобода»), выходящей в Майнце, появилось короткое сообщение: «Опереточная война, длившаяся в Гватемале двенадцать дней, закончилась». А Колумбийский университет присудил кровавому убийце Армасу почетную степень доктора.
Армасу не удалось арестовать всех своих врагов. Бывший президент Хакобо Арбенс, министр иностранных дел Ториелло и еще пятьсот шестьдесят политических деятелей, упомянутых в стихотворении миссис Перифой, попросили убежища в мексиканском посольстве. Двести человек обратились с аналогичной просьбой в аргентинское посольство, восемьдесят – в консульство Чили. В течение нескольких недель небольшое здание, на фронтоне которого развевался красно-бело-зеленый флаг Мексики, походило на военный лагерь. Господину послу даже пришлось освободить свою спальню, где разместились беженцы, а сам он вместе с секретаршей поселился в частном доме, на который не распространялось право экстерриториальности. В этом доме посла навестил президент Армас и потребовал выдачи некоторых беглецов.
Мексиканец выполнить требование отказался, ссылаясь на конвенцию, подписанную двадцатью латиноамериканскими государствами, в которой говорилось, что политические беженцы имеют право на политическое убежище, если они не совершили никаких уголовных преступлений. Однако Армас уже успел возбудить уголовные дела против неугодных ему лиц и через несколько недель имел в своем распоряжении приговоры суда, по которым Аргентина была обязана передать в руки правосудия пятьдесят гватемальцев, Никарагуа – тридцать, Мексика – пятнадцать. Правда, наиболее известные люди, например министры-либералы, в это число не вошли. Не пожелала Мексика выдать и Хакобо Арбенса. Позднее экс-президент уехал в Швейцарию, летом 1955 года находился в Праге, а затем появился в Монтевидео, к великому огорчению Армаса, который опасался возвращения своего предшественника, все еще пользовавшегося у народа авторитетом.
Осложнения для Армаса начались сразу после захвата им власти. Поддержанные регулярными войсками, которые чувствовали себя обиженными, люди Монсона в начале июля подняли против «освободительной армии» мятеж, в ходе которого погибло двадцать пять военных. Армас вывел Монсона из состава хунты и стал таким образом хозяином положения. Между офицерскими группировками начались споры и ссоры, произошел, что называется, дворцовый переворот в старинном стиле, в котором представители народа участия не принимали. Солдаты регулярной армии стреляли из карабинов, а бандиты Армаса из автоматов, что и предрешило их успех.
Четыре месяца спустя вспыхнул новый мятеж, на этот раз более серьезный. В первое воскресенье августа шестьсот террористов из «освободительной армии», украшенные орденами и медалями, прошли перед Армасом четким строевым шагом, а вслед за тем в центре столицы начались стычки, которые вылились в попытку переворота. Глава государства наблюдал за происходящим из окна дворца, спрятавшись за штору. Мятежники требовали распустить нерегулярные войска и восстановить честь и славу старой армии, однако реакционно настроенные студенты взяли «освободительную армию» под защиту. Их требования поддержали кадеты и солдаты столичного гарнизона, установившие перед дворцом гранатометы.
Дон Кастильо прибег к трюку, позаимствованному у Перифоя: он пригласил заговорщиков для беседы во дворец, а когда те явились, приказал арестовать их, обвинив в тайных связях с Хакобо Арбенсом, и засадил в тюрьму. Армия, возмущенная коварством президента, встала на сторону заговорщиков, и тогда Армас обратился за помощью к американцам. Даллес не заставил ждать своего подопечного и сразу привел в состояние боевой готовности ВВС США. С военно-воздушных баз Панамы и Никарагуа поднялись в воздух истребители-бомбардировщики, которые обстреляли и подвергли бомбовым ударам военный аэродром Аврора, оплот мятежников, и казармы кадетов. Как бы то ни было, Армасу в конце концов пришлось разоружить свою армию и распустить по домам. И как только он это сделал, офицеры принесли ему клятву на верность, заявив, что стремились лишь устранить конкурентов. А крики сидевших по тюрьмам до слуха коварного правителя не долетали.
* * *
Чтобы придать диктатуре хотя бы видимость демократии, полковник Армас по совету своих американских покровителей организовал в сентябре подобие свободных выборов. Согласно конституции 1945 года каждый гражданин Гватемалы, достигший восемнадцатилетнего возраста, имел право участвовать в выборах (женщины пользовались этим правом в том случае, если умели писать и читать). Армас отменил старый избирательный закон: теперь избирательных прав лишались все неграмотные (и мужчины и женщины). Поэтому практически семьдесят процентов населения в выборах не участвовало. Не были допущены к избирательным урнам сельскохозяйственные рабочие, даже те немногие, кто когда-то учился в школе.
В то время в Гватемале было брошено в тюрьмы одиннадцать тысяч человек, и заключенных оказалось вдвое больше, чем солдат. В каждой пятидесятой семье кто-нибудь да сидел в тюрьме: у кого сын, у кого брат, у кого муж. Однако, несмотря на полицейский террор и, по определению архиепископа Росселя, «национальное правительство», Армас не мог рассчитывать на поддержку избирателей. И когда 10 октября 1954 года получившие право голоса граждане явились на избирательные пункты, каждому предварительно задавали вопрос, будет ли он голосовать за новое правительство. Гражданин должен был вслух ответить «да» или «нет», а следивший за ходом голосования чиновник делал возле каждой фамилии соответствующую пометку. Только после этого выдавался бюллетень с шестьюдесятью шестью кандидатами, из числа которых в новый Национальный конгресс нужно было избрать пятьдесят семь человек. И это называлось свободными выборами!
Однако даже такие выборы не принесли Армасу желаемого успеха. Находившаяся в подполье Гватемальская партия труда призвала народ бойкотировать выборы, и ее призыв имел определенный успех – в голосовании участвовали далеко не все. Армас разгромил оппозицию, из политической жизни оказались исключены три либеральные партии, а сама политическая жизнь в стране была парализована. В общем, все случилось так, как хотел Армас.
А результатами выборов диктатор остался доволен. С 17 октября его стали официально называть президентом республики.
* * *
В витрине нью-йоркского бюро путешествий был вывешен рекламный плакат, отпечатанный на глянцевой бумаге: по лазурному морю мимо роскошных песчаных пляжей и зеленых пальм плыл белоснежный красавец лайнер. Наискосок красовалась броская надпись: «Приезжайте в Гватемалу в зимний сезон! Побывайте хоть раз в этом тропическом раю, насладитесь его красотами, как в старые добрые времена!»
Только гватемальский народ вряд ли мог воспользоваться этим любезным приглашением. Число безработных в стране из-за экономического кризиса и репрессивных акций предпринимателей достигло уровня 1934 года, когда диктатор Хорхе Убико, желая покончить с армией голодных, а заодно нажить моральный капитал, заклеймил всех незавербованных «подстрекателями» и стал насильно привлекать их к строительным работам. Работавшие по найму гнули теперь спину не по девять, а по десять с половиной часов в сутки, а заработная плата значительно снизилась.
Армас распустил Союз сельскохозяйственных рабочих, а за профсоюзом индустриальных рабочих установил полицейский надзор. Профсоюзные активисты, избежавшие «июльской мясорубки», были посланы в США на «переподготовку». Функционеров же, оставшихся на местах, обязали лично наблюдать за членами своих организаций и регулярно доносить начальству о бытующих настроениях. Короче говоря, деятельность профсоюзов выродилась в откровенный фарс. Нейтрализация профсоюзов сделала свое дело: только за один год заработная плата снизилась на пятьдесят процентов. Заработок квалифицированного рабочего, равнявшийся при правительстве Арбенса приблизительно одному доллару, упал до пятнадцати центов, в то время как цены на продукты питания возросли безмерно. Например, цены на кукурузу, являвшуюся основным продуктом питания бедного населения, выросли к 1956 году на пятьсот процентов, а арендная плата за землю – в два с половиной раза.
Большинство населения впало в такую нищету, какую трудно было даже вообразить. И пропаганда Соединенных Штатов изо всех сил старалась затушевать изъяны правления нового президента. «Благодаря нашей экономической помощи Армас вывел страну из нищеты, обеспечил подъем благосостояния народа», – писал журнал «Тайм», грубо подтасовывая факты, поскольку экономическая помощь, оказанная американцами через пять месяцев после окончания войны, составляла четырнадцать миллионов долларов, то есть на каждого жителя приходилось всего четыре доллара. Но так было в теории, а не на практике. В действительности основная часть долларовых инвестиций текла в карманы коррумпированного военного режима, а на оставшиеся деньги Армас закупал оружие и транспортные средства: джипы, бронетранспортеры, амфибии, снабженные скорострельными пулеметами и даже ракетным оружием, 75-миллиметровые пушки.
Тысячи гектаров земли были отобраны у крестьян и возвращены крупным землевладельцам и банановому концерну. При этом у крестьян отняли не только созревающий на полях урожай, но и построенные своими руками хижины и сельхозинвентарь. Им разрешалось лишь работать на той самой земле, которой они еще совсем недавно владели, причем плата за труд наемных рабочих, и без того низкая, сократилась наполовину.
Далеко не везде возвращение земель латифундистам проходило гладко. В районах, где наемные рабочие были организованы и вооружены мачете и дробовиками, по свидетельству газеты «Ле Монд», доходило до кровавых столкновений с правительственными войсками. Орган французских коммунистов газета «Юманите» сообщала, что в одном из департаментов крестьяне вышли на защиту своих земельных участков с холодным оружием. Возглавил их Карлос Пелецер. Однако все эти выступления были быстро подавлены, завоевания гватемальских трудящихся оказались навсегда утрачены.
«В этом месяце мы уже расстреляли двадцать человек», – заявил полковник Армас 20 ноября 1954 года зарубежным корреспондентам на очередной пресс-конференции. А чтобы возместить затраты на карательные экспедиции – бензин, боеприпасы, медикаменты, он обложил население так называемым «освободительным» налогом.
Ночь опустилась над Гватемалой. Казалось, вернулись времена кровавого режима Убико. А в витринах Бродвея зазывно кричали рекламные плакаты: «Приезжайте в Гватемалу в зимний сезон! Побывайте хоть раз в этом тропическом раю, насладитесь его красотами, как в старые добрые времена!»
Болезненная подозрительность диктатора, боязнь соперничества, сознание обреченности режима – все это привело к тому, что у Армаса появились враги даже среди эксплуататорской прослойки. 20 января 1955 года полковник Монсов, в свое время вытесненный Армасом из состава правительства, сплотив вокруг себя недовольных политиков и офицеров, жаждавших занять место у правительственной кормушки, поднял мятеж. Оплотом мятежников вновь стала военная база Аврора, расположенная близ Гватемалы. Сотни людей погибли, многие были тяжело ранены. Армас ответил на выступление мятежников введением чрезвычайного положения в стране, массовыми арестами, но в президентском кресле усидел.
Беспорядки в стране теперь возникали постоянно. В годовщину свержения режима Убико на улицах появились коммунистические листовки. В последние дни июня представители рабочих и интеллигенции выходили на демонстрации ежедневно, протестуя против террора и репрессий диктатуры. 25 июня 1955 года, в день гибели известной гватемальской патриотки, перед президентским дворцом собралась десятитысячная толпа. Собравшиеся требовали передать власть гражданскому правительству. Профессор университета Гарсиа призывал массы к борьбе.
– Мы лишены элементарных прав. Повсюду царит коррупция. Национальные богатства уплывают за границу, в то время как народ голодает, – бросал он в толпу искры гнева.
Чтобы произносить подобные речи, требовалось немалое мужество. 1 мая 1956 года столь же откровенно высказался профсоюзный функционер Марко Тулио Санчес. Реакция не простила ему этого выступления, и вскоре он бесследно исчез.
После профессора на трибуну взошел социолог Эдмундо Гуэрра. Он потребовал от правительства немедленно покончить с полицейским террором в вузах и профсоюзах. А вскоре его окровавленный труп нашли в переулке неподалеку от дома. Как выяснилось позднее, убийство совершили четверо неизвестных, некоторое время преследовавшие Гуэрру на машине, словно североамериканские гангстеры.
Народные волнения достигли апогея 25 и 26 июня 1956 года. Столица забурлила. Армасу с трудом удалось удержать в руках бразды правления. По его приказу полицейские открыли огонь по демонстрации студентов, среди которых было много девушек. Чрезвычайное положение в стране, массовые аресты, пытки, убийства – таков неполный перечень способов правления президента, пришедшего к власти при поддержке американцев.
* * *
Армаса ненавидели и на родине и за границей. Даже его главный покровитель Джон Фостер Даллес почувствовал сильное разочарование, когда в декабре 1955 года на сессии ООН во время голосования по алжирскому вопросу делегация Гватемалы, отколовшись от блока латиноамериканских государств, проголосовала за вариант, являвшийся точным слепком французской колониальной политики. Такой шаг Армас предпринял явно с провокационной целью, желая выжать из американцев побольше кредитов, а заодно продемонстрировать собственную независимость. Однако своими действиями он вызвал неудовольствие американского представителя, и это была его непростительная ошибка.
В прессе США сразу появились материалы, освещавшие жизнь Гватемалы как бы с другой стороны. «Мы прямо-таки ошеломлены, – писал корреспондент нью-йоркской бульварной газеты. – После ликвидации последствий коммунистической земельной реформы наши специалисты приложили немало усилий для создания в Гватемале демократического государства, однако режим Армаса все больше скатывается к латиноамериканской военной диктатуре… Президент даже намерен создать концлагеря, так как мест в тюрьмах давно не хватает».
Влиятельная «Нью-Йорк таймс», которая всего год назад провозглашала диктатора спасителем нации и другом свободного мира, с горечью сетовала, что все попытки перевоспитать диктатора окончились неудачей, и вынуждена была признать, что в Гватемале свирепствует террор.
Однако об упорном сопротивлении народа пресса США умалчивала, не писала она и о том, что рабочие проводили на фабриках и в мастерских короткие собрания, настолько хорошо организованные, что полиция, как правило, не могла напасть на их след. Скрывали американские газеты от своих читателей, что в Гватемале печатались и активно распространялись революционные листовки и брошюры, что даже местные индейцы собирались на тайные совещания, чтобы сообща выработать план выступления против существующего режима, против ненавистного бананового концерна, отнявшего у них лучшие земли.
Несмотря на это, Армас по-прежнему оставался доверенным лицом концерна. И если он разочаровал госсекретаря Даллеса на сессии ООН, то порадовал его, крупного акционера, на совещании концерна, сообщив о росте дивидендов.
* * *
Прохладным вечером 26 июля 1957 года в малом зале президентского дворца Армас выступил с докладом перед членами правительства.
По совету американцев он уже отказался от своей старой привычки править без политиков, однако по-прежнему не доверял им, а потому нередко заменял одного другим и заставлял полицию следить за каждым их шагом. В ходе беседы он несколько раз дотрагивался до заднего кармана, в котором хранил миниатюрный пистолет. Гладкая поверхность металла приятно холодила и рождала ощущение надежной защиты.
Наконец Армас поднялся из своего кресла и, отвесив поклон присутствующим, отправился ужинать. Дойдя до дверей столовой, он остановился и окинул тяжелым взглядом охранника. Им оказался сержант дворцовой службы по имени Ромео Канчес, коммунист, о чем Армас, разумеется, не догадывался. В 1954 году, после июльского путча, Ромео уволили из вооруженных сил, однако в армейской бюрократии что-то не сработало и через полтора года его снова призвали, а совсем недавно перевели в дворцовую охрану, поскольку он был строен и подчеркнуто прилежен.
Приступив к службе во дворце, Ромео сразу занялся агитацией среди товарищей. Вот и сейчас под кителем у него лежала стопка листовок, которые он еще не успел раздать, поскольку пропагандистская работа особого отклика в сердцах солдат не находила. Впрочем, и сам Ромео не очень-то верил, что с помощью пропаганды можно что-то изменить в стране.
Одного парня, которого он сагитировал несколько недель назад, вчера арестовала тайная полиция. Вполне вероятно, что его подвергнут пыткам и он, не выдержав, выдаст Ромео…
Едва Армас приблизился к охраннику, тот отдал ему честь, но диктатор, погруженный в свои тяжкие думы, не обратил на него внимания. И тут сержанта как будто что-то толкнуло. Мгновенно вскинув карабин, он снял его с предохранителя и нажал на спусковой крючок – прогремел выстрел.
Канчеса бросило в жар от мысли, что товарищи по партии, с которыми он не посоветовался, не одобрят его поступок. Сержант хорошо знал, что партия, членом которой он являлся, отвергала индивидуальный террор и подобные акты возмездия. Он довольно часто разъяснял другим, почему этого нельзя делать, а сам в порыве гнева совершил то, от чего их предостерегал.
Пуля попала Армасу в левую лопатку. Почувствовав удар, он повернулся. Гримаса боли исказила его лицо, глаза, казалось, готовы были вылезти из орбит. Он непонимающе уставился на охранника, однако не закричал, а ловким движением выхватил из кармана пистолет.
И тогда сержант выстрелил еще раз. Сделать это оказалось совсем нетрудно, ведь карабин американского производства был полуавтоматическим. Вторая пуля поразила президента прямо в сердце. Он на миг приподнял правое колено, будто собирался броситься на сержанта, вскинул вверх руки и замертво рухнул на пол.
Покушавшийся быстро огляделся. Заметив, что испуганная охрана уже начала запирать двери, ведущие из этой комнаты, – следовательно, бежать ему некуда, он застрелился.
А навстречу уже бежали гвардейские офицеры. Один из них, проскочив мимо президента, несколько раз ткнул шпагой в труп сержанта, за что позднее получил у солдат прозвище Убийца Трупов.
Труп сержанта завернули в плащ-палатку и вывезли за город, где зарыли как собаку. Его поступок послужил для полиции поводом провести очередную серию арестов коммунистов. В ту же ночь было арестовано двести человек. Временным президентом назначили Гонсалеса Лопеса, который занимал пост председателя парламента и не раз сравнивал покойного с назойливой мухой. Гонсалес Лопес объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час. Таковы были первые распоряжения президента, за которыми последовало множество других.
Труп бывшего президента обмыли, придали ему с помощью косметических средств приличный вид и выставили на три дня во дворце, чтобы граждане Гватемалы имели возможность попрощаться со «спасителем» нации. 30 июля 1957 года состоялись помпезные похороны. В стране был объявлен девятидневный траур.
Президента оплакивали даже американцы. Посол США явился на похороны в сопровождении чуть ли не всего состава посольства. Он передал телеграмму своего шефа Джона Фостера Даллеса, в которой говорилось, что гибель президента Армаса является огромной потерей для всего свободного мира. Дуайт Эйзенхауэр прислал выразить соболезнование своего сына майора Эйзенхауэра, который назвал убитого другом их семьи. Из Пуэрто-Барриоса приехал Гарри Брандон, руководитель филиала бананового концерна. Он передал соболезнования от директората концерна и произнес над гробом прочувствованную речь.
Записки Рене
Присутствие политики в художественном произведении подобно револьверному выстрелу в переполненном концертном зале, который звучит грубо и неуместно, однако не услышать его невозможно.
Стендаль
Мне хочется описать все происшедшее, ничего не приглаживая и ничего не упуская, в противном случае вообще нет смысла писать. Я диктую все это стенографистке, которая, по моему глубокому убеждению, не даст прочесть эти записки никому, кроме меня. Парень же, которого отец посадил возле моей конки, чтобы он охранял меня от тех, кто, возможно, захочет покуситься на мою жизнь, забирает текст написанного с собой, как только его сменяет другой охранник. Парень очень предан отцу, поэтому я не боюсь, что он потеряет хотя бы один листок.
До сих пор я не доверял бумаге ни перипетий нашей борьбы, ни своего отношения к партии, учитывая разногласия в нашем партийном руководстве, короче говоря, никогда не писал о тайном и сокровенном. Для этого у меня не было времени, а кроме того, мне казалось, что это может повредить нашему делу. (Своей боязнью повредить общему делу мы часто как раз и вредим ему.) Однако, когда я оказался надолго прикован к больничной койке, у меня не осталось выбора, так что вы сможете лично убедиться, хороню ли побывать в шкуре теоретика. Способность мыслить – значит жить, а для меня в моем теперешнем положении – это еще и прекрасное лекарство, поскольку неторопливый анализ былых поражений может доставить такое же удовлетворение, как и анализ когда-то одержанных побед.
Радость критического мышления пробудил во мне профессор Кордова, читавший нам в университете Сан-Карлоса финансовое право и политэкономию. По своим воззрениям он принадлежал к либералам и порой бывал не прав. Однажды на лекции, отклонившись от темы, он заявил, что ни одна идеология не в состоянии полностью объяснить законы развития общества, ибо какая-то часть их остается за пределами объяснимого. Даже если допустить, что пять процентов всех процессов, происходящих в обществе, можно объяснить с помощью расовой теории, тридцать процентов – с помощью учения Фрейда и шестьдесят процентов – на основе марксистской теории, то и тогда останется какая-то часть неизвестных нам факторов, частично неисследованных, частично спонтанных, как, например, неподдающиеся рациональным объяснениям эмоции или случайности, тоже встречающиеся в истории. Все это он произносил с особой экспрессией.
Профессор Кордова, по его собственному признанию, был хорошо знаком с марксизмом, однако нам так и не удалось убедить его в том, что единственной ведущей силой в нашей стране может быть рабочий класс. Он в стране имелся, но был немногочислен и настолько слаб, что нам пришлось уступить профессору. Он же продолжал утверждать, что мы еще убедимся, сколько у нас пролетариев – не более одного на десяток жителей!
Бланка, наш лучший теоретик, которую мы прозвали Истиной, обычно говорила: «Борьба, ведущаяся ради победы рабочего класса, отнюдь не исключает того, что на каком-то этапе во главе движения народных масс могут стоять представители других революционно-демократических сил, как это произошло в свое время на Кубе, которые и поведут борьбу против террористической военной диктатуры».
Выслушав все это, Гектор Кордова усмехнулся и, оглядев слушателей, спросил: «А где, скажите, это движение народных масс? И почему они прямо не заявят о том, что желают взять власть, притом насильственным путем, не получив каких-либо демократических полномочий?»