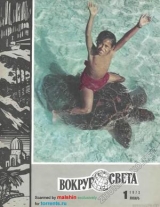
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №01 за 1973 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
Жанр:
Газеты и журналы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
Костер Аполлону

I
– Mon ami! – оглушительно рокотал Славчо Чернишев хорошо поставленным пиратским голосом, от которого огонек древнего милетского светильника испуганно шарахался в сторону. – Мой друг! Ты приехал в злой ветер!
Скорбный греческий нос Славчо навис над чашей тончайшего болгарского вина, а свободную от этой чаши руку он щедрым античным жестом протянул к ночному окну:
– Треос леванти летит над Созополем!
Этого робкий светильник, изготовленный за два с половиной тысячелетия до нашей со Славчо встречи и явно рассчитанный для беседы учтивой и неторопливой, не выдержал: огонек сорвался с тонкого горлышка и исчез в накуренной темноте. В черное окно сразу же углом врезалась заснеженная кровля старинной церкви с двумя белыми зимними звездами над нею.
Пока Славчо искал спички, я вышел во двор, спустился в подвал, где связки сушеной и вяленой рыбы висели над запыленными обрубками римских богов и стояли, прислонясь к их мраморным плечам, широкие и приземистые, как триремы, оплетенные бутыли с вином. («То исмарская лоза, mon ami! Об этом вине распевал Гомер и причмокивал от удовольствия. Древние греки спекулировали им по всему Средиземному Понту!»)
...В этот город меня привели слова, которые я прочел в академически пухлом справочнике: «Тридцать ветров овевают Созополь». Одиссеевская эта фраза казалась каким-то реликтовым обломком, античной колонной, проросшей сквозь асфальт современной улицы. Желание увидеть город, который смог столь бережно сохранить свои ветры «с итальянскими и греческими названиями», что они уже стали неким определителем его, оказалось, видимо, сильнее командировочного предписания – и судьба свела меня с болгарским поэтом и моряком Славчо Чернишевым. «Mon ami, – наклонялся Славчо над миниатюрным, только на две чашечки кофе и две маленькие рюмки коньяка, столиком софийского кафе, – я хранитель Созополя, я знаю там место, где стоял Аполлон. Я один знаю. Мы там поставим огонь. Ты любишь огонь, который ночью?»
На следующий день, отложив все дела, я был в Созополе, тихом рыбацком городе с узкими улицами, которые всегда кончались морем. Старые, из серого камня, обшитые потемневшим деревом двухэтажные дома были спокойны и молчаливы, как болгарские старики за вечерней чашкой кофе, и так же дружелюбно-вежливы друг с другом – эркеры, выступающие над обледенелым булыжником мостовых, шахматно чередуясь, уступали друг другу солнце и воздух. Туристский прилив давно схлынул с улиц Созополя, и город остался только со своим морем и со своими ветрами – маленький трехтысячный город, который можно бы назвать и поселком, если бы не те почти двадцать шесть столетий, что отсчитал он на своем фракийском, греческом, римском, византийском, генуэзском, турецком веку.
В 610 году до нашей эры здесь высадились первые древнегреческие колонисты с острова Милет, основав город, который они нарекли в честь Аполлона Аполлонией. Геродот в своей «Истории» лишь мельком упоминает о нем – один раз описывая некие целебные источники, «исцеляющие чесотку у людей и лошадей», другой – при рассказе о походе персидского царя Дария. Причем оба эти раза «отец истории» упомянул Аполлонию только лишь в качестве географического репера, чтобы греки путешествующие знали о том, что целебные «источники эти находятся на одинаковом расстоянии двухдневного пути от города Герея у Перинфа и от Аполлонии на Евксинском Понте», а греки любознательные – что «фракийцы из Сальмидесса и живущие севернее Аполлонии... называемые смирмиадами и нипсеями, подчинились Дарию без боя».
Фракийцы занимали земли от Вардер-Моравского бассейна на западе до западного побережья Черного моря и междуречья Прута и Днестра, от Карпат до эгейских вод и малоазийского побережья. Этот сложный, многолюдный конгломерат родственных племен был знаком грекам давно: Гомер пишет о союзе фракийцев и греков в войне против Трои и о столкновении Одиссея с фракийцами из племени киконов, а в истории аргонавтов мы читаем о борьбе фракийцев с греческими колонизаторами в Западном Причерноморье.
И, видимо, для Геродота, историческим своим взором парившего над всей Ойкуменой, виделась Аполлония Понтийская всего лишь одним из окраинных греческих полисов, не заслуживающим особого внимания историка.
Но была, очевидно, в этой неприметной в начале своей жизни Аполлонии та человеческая необходимость (здесь, видимо, нужно другое слово, не столь строгое), что подарила городу его века.
В IV веке до нашей эры знаменитый греческий скульптор Каламид по просьбе жителей Аполлонии поставил 13-метровую статую покровителя города. Три века простоял красивый бог («Он был, mon ami, как маяк над гаванью!»), и мореходы разносили о нем молву по всему миру. И признана была исполинская статуя одним из семи чудес света, а римский полководец Марк Лукулл выломал ее из аполлонийской скалы и в качестве трофея установил в Капитолии.
Во времена римлян город разросся настолько, что жители его сами, в свою очередь, основали колонии – в Поморий и Турции. Прошло два века, принявшие христианство аполлонийцы забыли языческих богов и назвали свой город Созополис, что означает «Город спасения». Византийцы писали о нем как о месте «многолюдном и очень богатом», украшенном многочисленными храмами. В 1352 году генуэзцы, ограбив, дотла сожгли город, а то, что осталось, спустя сто лет было захвачено турками. В 1884 году в городе, как свидетельствуют старые переписные книги, насчитывалось три тысячи жителей: «Греки выехали, и дома их были заняты болгарскими беженцами из Южной Фракии».
Так и остался до сего дня Созополь трехтысячным городом, который можно бы назвать и поселком...
II
– Славчо, – сказал я, входя и опуская непочатую «трирему» у его ног, – когда мы пойдем к Аполлону разжигать костер?
– Ты сошел с разума, mon ami! Мы замерзнем, как маленькие собачки... Греос леванти не любит огня...
Вообще-то о костре я сказал просто так. Я понимал, что в такую левантийскую ночь никакого костра быть не может, но мне хотелось еще раз убедить себя, что этот костер мог быть реальностью сегодня, сейчас. Что я мог спичками, еще оставшимися с Москвы, зажечь огонь там, где стоял красивый мраморный бог, известный всему античному миру, напротив той скалы, куда прибило первые корабли милетцев.
Днем я видел эту скалу-остров Святого Кирилла. Мы стояли со Славчо на берегу, обрывающемся в пену прибоя, – в однотонном сумеречном свете и остров казался плоским, как декорация. Милетцы, видимо, были столь же осторожны, сколь и отчаянны. Преодолев тысячи стадий Негостеприимного Понта в поисках новой родины, они все же оставили между собой и варварами чуть-чуть этого вспененного моря.
– Хранитель Созополя! – крикнул я Славчо тогда, днем, указывая на остров и пробиваясь своим немощным голосом сквозь прибой. – Расскажи мне, как они прибыли.
Я затевал легкую игру, но Славчо ответил мне неожиданно и странно – строками из поэмы Луговского:
– «Я, ничтожный, гребу на веслах. Рыжий, бородатый, в седой от пота бедряной повязке, я должен умереть. Мы все умрем, и только ты, мой капитан свирепый, мой Одиссей, поднимешься над нами...»
Отвечая какой-то своей мысли, Славчо не вспоминал подряд всю поэму, но отбирал в ее строках только те, что были необходимы ему:
– «Громады скал восходят нам навстречу, смертельный ветер пробует канаты. Я должен умереть, а ты, крылатый, останешься в живых... Мы все погибнем, греческие люди, чтобы один из нас доплыл как должно, овеянный великой нашей славой, до берегов... Как тяжела на свете справедливость».
И, помолчав, Славчо сказал, указывая на остров:
– А у них каждый раз другой Одиссей. И каждый раз они приплывали по-разному.
III
...Я разлил «трирему» по чашам и вновь вернул Славчо к его монологу:
– Но ведь первые милетцы приплыли лишь однажды, и не тебе, и не мне менять Историю (я произнес это слово напыщенно, с большой буквы). И здесь, на Святом Кирилле, как и там, под Троей, был только один Одиссей. А если бы ты узнал – точно узнал из какой-нибудь древней книги, – как все это произошло?
– Я бы бросал свое знаю в огонь. Нет, я бы бросал его в Понт. Я бы бросал его так, чтобы он превратился в камень на дне. Да, в камень, на котором спят глупые крабы... Как можно то, о чем мыслишь, закончить навсегда!
И тогда мне стало ясно, о чем думал Славчо, когда вспоминал Луговского.
...За день до моего знакомства со Славчо я был в гостях у народного художника Болгарии Цанко Лавренова. Он сидел в глубоком кресле спокойно и молча – мастер в своем доме и возле своего дела, а его жена Иорданка выносила из соседней комнаты и ставила один возле другого его холсты, смахивая с них белоснежным платком несуществующую пыль. Она же и рассказывала о картинах – о чем думал ее Цанко, когда писал каждую из них, где и как они жили тогда.
Мне было вначале неловко, оттого что я отнимаю время у пожилых и уставших за день людей, – смущало строгое, как мне показалось, укоризненное молчание мастера. Но Иорданка показывала и рассказывала с таким оживленным удовольствием, что мое смущение прошло быстро и незаметно. Она знакомила меня с картинами, как знакомят в добрых домах с добрым человеком стеснительных своих детей – не хвастаясь, но гордясь их статью, умом и даже именами. В облике этого, видимо, отлаженного за долгие годы ритуала была графическая законченность средневековых цеховых гравюр, а в самих картинах – средневековая доверчивость мастера к своей фантазии.
Картины Цанко казались отстраненными от сегодняшней жизни – мягкого софийского вечера с робким, как застенчивый гость, снегом, от шуршания шин по мокрой мостовой, от неоновых витрин с тонконогими красавицами и падающей из окон быстрой музыки... Я видел патриархальное изобилие пиршественных столов, заваленных налитыми солнцем плодами; спрятанные в скалах и лесах монастыри с деревянными лестницами, опоясывающими дозорные башни; сказочные замки Велико-Тырново, возрожденные крестьянски трезвым воображением; бесхитростно-веселые сельские ярмарки, где кружатся скрипучие карусели, ходят в обнимку хмельные усатые дядьки, дородные женщины торгуют тканями фантастических расцветок, взлетают к пряничному небу качели с девицами, визжащими от страха и неловкости за свои непослушные подолы; улицы старого Пловдива, где скачут сказочной красоты кони, которым не нужен строгий повод, чтобы лебедино изогнуть свои королевские шеи.
«Словами невозможно передать». Фраза тривиальная, но, увы, имеющая силу закона над тщетными – во все времена – попытками найти словесный эквивалент языку высокой живописи.
...То явственно видел я покачивающиеся лодки под обрывом волжской деревни Паншино и чувствовал запах прибрежной воды, который с того военного, эвакуированного детства для меня всегда – запах Волги.
...То ощущал неожиданно теплые камни Изборска – небольшой псковской крепости на границе с ливонской землей. Солнце окрашивает камни в теплый закатный цвет, над башнями в вечернем неистовстве кружатся черные птицы, а далекий рыбацкий костер на том берегу прикрепостного озера кажется задержавшейся на земле звездой.
...То оказывался под Архангельском вместе с Владимиром Семеновичем Чернецовым, большим и мудрым русским художником, с которым мне посчастливилось несколько лет работать вместе в журнале «Вокруг света». Мы сидим на сухой земле напротив шатровой деревянной церкви – ее обступили реставраторы и архитекторы, высоконаучно переругиваясь по поводу каких-то принципиальных частностей ее конструкции. Владимир Семенович тихо говорит о том, как это мудро придумали люди – поминать умерших высокими словами: они нужны не для того только, чтобы высказать ушедшему несказанное в суматохе жизни, но чтобы услышавшие их смогли дотянуться до этих слов, пока еще отпущены для этого дни. Именно дотянуться, а не вымаливать их своими бедами и горестями. (Сам он так и жил – неизбежные в судьбе каждого большого мастера горести и беды Владимир Семенович, не опуская себя до того, чтобы кто-то прикасался к ним, незаметно и навсегда укрывал в своем сердце, пока оно не переполнилось ими...)
Картины Цанко безошибочно выбирали в моем прошлом самые честные дни, которые я мог безбоязненно положить под увеличительное стекло своей памяти.
Наверное, то же испытывал Славчо каждый раз, когда рисовал себе картину того милетского исхода. И не мог он закончить ее, как невозможно оборвать поиск честных своих дней.
IV
– Это преступление, – продолжал греметь Славчо, – остановить хотя бы один день истории навсегда. То убийство. Он станет холодным, как в пустом музее.
После прогулки по берегу мы зашли в созопольский музей – старую, аскетической кладки церковь. В музее было холодно и чисто. Это был типичный провинциальный музей, где в одном-двух залах собрано все, чем какой-нибудь до сих пор неведомый тебе клочок земли горделиво связывает себя со всем остальным человечеством. Такие музеи удивительны своей стремительной законченностью. В столичных древлехранилищах века торжественны и обильны: встав у начала какого-нибудь столетия, трудно угадать его завершение и увидеть начало следующего. В таких же музеях вся история спрессована так, что ее можно охватить единым взглядом. Но именно эта иероглифическая лаконичность требует неторопливого прочтения каждого своего знака. И незаметно для себя начинаешь ощущать каждый экспонат не просто отголоском какого-то конкретного исторического события, но некой обобщающей его эпитафией, в которой нельзя отделить друг от друга четкие факты, возвышенные домыслы и мудрые предостережения.
...На круторогом быке в легкой до пят тунике сидела тонколодыжная дева, увенчанная виноградной лозой. Поодаль похожие на нее женщины совершали какой-то таинственный ритуал вечерней беседы, ибо чувствовалась окружающая их некая предзакатная прохлада – движения женщин были столь изящны, что даже аисты, стоящие тут же, не пугались их. Рядом, но где-то в другом пространстве Земли, стояла снаряженная трирема с курчавобородым кормчим в накинутой на плечи шкуре когтистого зверя – все было готово к отплытию, и парус ждал своего ветра.

Сейчас, спустя тысячелетия, все они – и женщины, и дева, и кормчий, замершие на тонких стенках сосудов, – уже стали одинаковы в своей реальности с теми милетцами, что первыми вскарабкались на скалы Святого Кирилла. И одинаково беззащитны перед нами в своей безымянности. И эта безымянность делала их жизни бесконечными...
– Славчо, – сказал я, когда созопольские звезды начали терять свой свет, – я хочу рассказать, как это было... Милетцы, долго сидя у своих костров на острове, смотрели через пролив на другой берег. И однажды, поняв, что здесь они навеки, сели в лодку, сколоченную из остатков разбитого своего корабля, – курчавобородый старик со шкурой на плечах и тонколодыжная дева. Они вышли на берег там, где стояли мы с тобой, и старик бросил у ног фракийского вождя – курчавобородый сразу угадал его среди прочих – свой меч, а женщина подошла к самому молодому воину и положила руку на его плечо...
Славчо недаром называл себя хранителем Созополя – он сразу угадал, откуда я набрал действующих лиц своей немудрящей исторической сентименталии.
– А куда ты дел быка, mon ami?
И мы рассмеялись, потому что уже стало светать, ночные слова растратили свою силу и попрятались до следующих звезд, и неудержимо захотелось выскочить в свежий морозный воздух, скатиться с обледенелого горба мостовой, хорошо и сытно поесть и вообще возрадоваться наступающему дню.
Да и греос леванти притих. Он уже не летал над Созополем, а протискивался в лабиринте обшитых старым деревом стен, чтобы залечь где-нибудь в укромном уголке на дневку перед дальнейшим путем. Наверно, так же и остальные двадцать девять ветров (западный боненти, юго-восточный сирекос, южный лодос, северо-западный мойстро и другие, о которых рассказывал мне Славчо, пока искали мы с ним каких-то его знакомых, где особенно хорош утренний кофе), когда приходит их черед гулять над морем, безошибочно, как весенние аисты старые гнезда, вот уже более двух с половиной тысячелетий находят Созополь, чтобы навсегда оставить в нем какую-то частичку свою, прежде чем обессилеть у далеких гор.
В. Левин
Владимир Воробьёв. Кояна

Самым первым воспоминанием, раньше которого он ничего толком не мог припомнить, была ссора с Дедом. Больше он никогда не видел Деда. Но Дед так отчетливо врезался в память, что и сейчас, много лет спустя, он мог бы узнать своего апаппиля (Апаппиль – дед (корякск.).) .
Голова у Деда была бритая, лишь на макушке торчал смешной клок волос. Внук вцепился в этот клок, рассмеялся.
Но Дед насупился, оттолкнул Внука. И бросил хлесткое, точно ремнем ожег:
– Аттыка! ( Аттыка – нельзя (корякск.).)
Внук расплакался. Старуха Мамушка напустилась на Деда. А он сорвал с гвоздя кухлянку, перекинул через плечо ружье и, не взглянув на Внука, громко хлопнул дверью...
Много позднее, связав воедино события того времени, Внук понял, почему его невинная выходка вывела Деда из себя, почему апаппиль совсем перестал появляться в селе. Дед пас оленей по необъятному Парапольскому долу, ходил от срединной Чукотки к Беринговому морю и обратно. Он жил в тундре и потому в новеньких избах чувствовал себя стесненно. И если появлялся дома не на день-два, непременно ставил возле избы юрту. В тот раз молодой ретивый председатель сельсовета, пока Дед отлучился на рыбалку, велел сломать юрту. Одна-единственная, она, по его словам, портила современный вид корякского села. Председатель приехал на тракторе, заглянул в полог и, убедившись, что внутри никого нет, раздавил юрту. А тут еще Сыну Деда надоело пасти оленей, устроился истопником в школе. Дед сказал, что истопник – это так, тьфу, что их род всегда пас оленей, любой пастух на Чукотке и Камчатке знает Киявов. Но Сын не стал спорить, лишь заметил:
– Тогда не было школы...
Все были против старого Киява. Даже Внук-несмышленыш. И апаппиль не выдержал. В село он больше не приходил, хотя дважды в год – весной и осенью – маршрут его табуна пролегал мимо села, и видно было, как течет и течет на горизонте серая река оленей.

Старуха Мамушка ходила к Деду, носила ему новую одежду – кухлянку, торбаса, меховые штаны; не чужой ведь.
У Внука тоже судьба сложилась так, что в родном нымныме ( Нымным – село, селение (корякск.).) он перестал бывать, едва подрос. Дома школа всего на четыре класса, а ему понадобилось в пятый. И он уехал в интернат в районный центр, а закончив восьмилетку, отправился еще дальше – учиться на оленевода. И в том, что он выбрал именно этот путь, были «виноваты» Дед и его табун, протекавший на горизонте.
И вот теперь судьба наконец должна была свести Киявов – старшего и младшего.
Третий час тень вертолета скользила по зеленой глади тундры, пропадала в светлых речках и озерцах и тотчас выныривала и неслась к горной гряде, которая вырастала и надвигалась, заслоняя путь.
Кияв-младший то и дело поглядывал на часы, хотя не знал, сколько еще лететь. Он представлял себе встречу с Дедом. Вот удивится тот и обрадуется: род Киявов-оленеводов не окончился. Молодой Кияв примет у старого чаут. Он так же без промаха будет набрасывать его на рога самого быстрого оленя... Интересно, какой он, Дед? Помнит ли он выходку Внука? Наверно, помнит, ведь она-то и стала последней каплей в чаше обид, которую поднесли оленеводу в нымныме.
Горная гряда отделяла тундру от океана. Где-то там сейчас олени Киява... Внуку хотелось успеть к тому дню, когда стада перевалят через сопки и спустятся к неоглядной сини. Олени изопьют океанской горько-соленой воды, омоют израненные ноги в жгучем целительном прибое и вновь повернут туда, откуда пришли.
У подошвы гор летчик разглядел бледный предвечерний костер. Вертолет ухнул вниз.
Набежали пастухи, молодые и старые. Кияв-младший помог им выгрузить ящики с провизией, мешки с газетами и журналами. Спросил, где найти Киява. Те, в свою очередь, поинтересовались, кто он и откуда, и послали к самому дальнему костру; велели заодно сказать, чтоб Кияв прислал кого-нибудь поделить провизию, здесь на несколько бригад...

Вертолет взмыл и растаял. Внук отправился к Деду. Он шел по осенней, багряной и зеленой тундре. Звенели, кружась роем, комары. Пришлось сломить ветку кедрача и отмахиваться – комары в тундре особенно злы, нигде таких больше нет. Быстро темнело. Потянуло холодной свежестью, трава наливалась росой. Трава была густая и высокая, и ноги вмиг промокли. Внук миновал один костер, второй, третий... Когда остался последний, он больше не мог вышагивать спокойно, все в нем рвалось навстречу Деду...
Когда он вышел на свет последнего костра, там уже закончили ужинать и теперь пили чай, развалившись вокруг потухающего огня. Лиц не разобрать было, но Кияв-младший не мог ошибиться. Он двинулся к старику, удивленно глядевшему на пришельца.
– Амто! – воскликнул Кияв-младший.
– Привет, привет! – недружно откликнулись у костра.
– Я вот гостинец от бабки привез...
Он скинул рюкзак и выхватил оттуда узелок.
– А... Спасибо... – поднялся сухощавый старик. Неужели это и есть его апаппиль? В памяти он был плечистым, большим. А сейчас Внук глядел на него сверху вниз. Дед принял гостинец, положил рядом с собой и даже не поинтересовался, что там.
Внуку протянули кружку чаю и забыли о нем.
– Так будем сдавать Одноухого? – спросил кто-то. – За двух олешек потянет, дьявол большерогий...
– Уйне (Уйне – нет (корякск.).) , – отмахнулся Дед.
– Но ведь с ним столько мороки. Мало он косяков уводил? Да мы ноги стерли, пока искали его... – загорячился плотный длинноусый пастух.
– Нет, Манруни. Он мне жизнь спас, а ты – под нож.
Знал Внук, что не все олени, испив воды из океана, возвращаются в тундру. Часть из них, самые полнотелые, идет под нож; каждая бригада обязана сдавать мясо государству. И где-то здесь, где Парапольский дол выходит к океану, каждую осень идет забой. И сейчас назывались имена оленей, которых Внук уже не увидит.
– Там надо продукты взять, – негромко сказал он и кивнул в темноту.
– А, продукты... – Дед повернулся к Манруни. – Бери оленей. Поедем. – И, чуть помолчав, уколол пастуха: – Одноухого бери. Увезет много...
Манруни резко вскочил и пропал в темноте. Внук подсел поближе к Деду, тронул за рукав.
– Апаппиль... меня к вам направили... Я – отличник... и вот – по желанию...
Тот не ответил, поднялся, исчез в палатке. Сквозь тент стало видно, как там затеплился огонек. У костра молчали. Потом послышался звон бубенчиков, и из темноты вырос Манруни с двумя оленями на длинных алыках. Один из них был громадный. Рога метра по полтора, и над самым лбом – тяжелый зубец. Внук разглядел, что у оленя недоставало одного уха. Но какой же это Одноухий? Это Кояна (Кояна – олень (корякск.).) , самый настоящий Кояна, хозяин тундры. Наверно, раньше такими и были олени. А теперь, когда люди находят им выпасы, оберегают от болезней и зверей, олени изнежились, помельчали...
Дед, увидев, что Внук смотрит на Одноухого, сказал:
– Подумать только, и это я нес его на руках много дней. Он не мог ходить, когда родился. Не мог разбить копытцем наст, приходилось разрывать ему снег, чтобы достать ягель...
Он взял алык и хотел потрепать оленя по шее, но тот сердито дернул головой и чуть не угодил рогом в лицо Киява. Кояна, настоящий Кояна...
Дед не осерчал.
– Ну пошли.
– А я? – поднялся Внук.
– Уйне, – коротко отрезал Дед. – Увидимся завтра, а может быть, послезавтра. – Дед легонько ударил Внука по плечу. – Бери пока мой кукуль. Он теплый. Старики любят тепло... – И, тоненько засмеявшись, Дед потянул за собой Одноухого.
Огорченный Внук налил себе чаю, пожевал галеты. Пастухи, позевывая, полезли в палатку: было уже поздно, и костры вдоль сопок едва краснели.
Через два дня, еще в предутреннем тумане, Кияв-старший двинулся вверх по Парапольскому долу.
Из тумана доносился приглушенный топот копыт. Олени шли кучно, мешая друг другу. Справа и слева слышались резкие окрики пастухов.
Начался переход, который закончится лишь к весне. Где-то там на Чукотке, когда начнут таять снега и появятся молодые оленята, стадо развернется и до самой осени будет спускаться к океану, чтобы опять напиться на целый год соленой воды и омыть в прибое израненные ноги.
Кияв дал Внуку самую беспокойную должность, поставил его замыкающим, а сам ушел в голову стада.
– Приглядывай за Одноухим! – крикнул он издали.
Развиднелось. Олени вольготно разбрелись чуть не до самого горизонта. Они неторопливо щипали ягель, неторопливо двигались вперед. Пастухи время от времени сбивали стадо в кучу. Потом оно снова расползалось.
Внук носился из стороны в сторону, подгоняя олешек, кричал, размахивая чаутом. Но они обращали на него внимания не больше, чем на комаров, что тучами висели над каждой спиной. Одноухий шел в самом последнем косяке. Он спокойно рвал ягель и никуда не убегал. Другие олени доставляли больше хлопот.
Стадо гнали до самой темноты. Внук, дойдя до костра, как повалился между двух кочек, так и не встал. Поспел ужин, его растолкали. Но он поглядел на ярко пылавший костер, на низкие тучи, готовые вот-вот пролиться дождем, заполз в палатку и, не раздеваясь, провалился в тяжелый сон.
Под утро он услыхал тихий монотонный шум. Кто-то тысячью пальцев барабанил по стенкам палатки. И, убаюканный, Внук уснул еще слаще.
Чуть свет в палатку заглянул мокрый Кияв и поднял всех на ноги. Одноухого нет! Показал-таки себя! Ушел, проклятый, и еще пятнадцать важенок увел...
– Говорил ведь, надо было пустить его на мясо... Мороки с ним не оберешься... – раздраженно цедил Манруни.
Кияв, низко согнувшись, пролез в палатку, поставил большой чайник и глубокое блюдо с горячим мясом.
Внук накинулся на еду.
– Давай, давай заправляйся, – сказал Дед. – Однако, твоя очередь искать Одноухого...
– Как же, – улыбнулся Внук. Разыгрывают его, конечно. Куда ему, рано еще.
Но вот, почаевав, бригада собрала скарб, сняла палатку. Манруни навьючивал оленей. Пастухи пошли к стаду. Дед, сняв свой карабин, протянул его Внуку.
– Держи. Нож есть? Внук кивнул.
– Там, у костра, тушенка и хлеб для тебя, – сказал Дед и нахлобучил капюшон дождевика. – Без Одноухого не возвращайся! Он где-то здесь... – Дед обвел рукой еле выступавшие из дождя холмы и, не оглянувшись, пошел к стаду, которое неохотно задвигалось, встревоженное пастухами.
– Как же я найду? – воскликнул растерянно Внук.
Но его никто не услышал. Он ощутил раздражение против Деда, Манруни и остальных. Самим лень, вот и нашли крайнего... И Дед хорош. Неужели не жалко Внука?
Мягкая тундра была нетронутой, точно ничья нога не ступала по ней. Внук шел к холмам, продирался сквозь заросли жимолости, шиповника и кедрача. Ветви осыпали его брызгами. И, несмотря на плотно запахнутый дождевик, Внук скоро вымок. Зацепившись за корень, он разодрал правый сапог, и теперь внутри булькала холодная вода. Целый день он бродил по окрестным холмам, И все без толку. Стало смеркаться. И с сумерками в душу Внука закрался страх. В тундре полно медведей, волков... Внук выбрал открытое место, нарезал молодых побегов кедрача и, торопливо изведя полкоробки спичек, развел костер. Коробка отсырела, расползлась, и он раздраженно швырнул ее в кусты.
Костер разгорался. Внук бросал целые кедрачовые лапы. Они, мокрые, шипели и окутывались дымом. Огонь на мгновенье припадал к земле, потом, шумно вздохнув, вскидывался на дыбы, далеко разгоняя темень. Одежда исходила теплым паром. Горячая тушенка с хлебом казались лакомством. И никакой зверь не был страшен, пока бушевал огонь. Но кедрач подходил к концу. Внук оглянулся на темные кусты и не решился пойти за ветками. Он поджидал Деда. Ему казалось, тот непременно должен прийти – узнать, как да что, ободрить. Ему даже слышались шаги. Но никто не приходил. А может, Кояна давно в стаде, а его поджидают, чтоб поднять на смех: вот, дескать, какой следопыт... Но он не пойдет искать бригаду. Не пойдет. Вдруг оленей нет, и все подумают – он испугался ночной тундры.
Небо не прояснялось. Ни одной звездочки не сверкало, а ведь сколько их там, за дождем...
Внук сидел, согнувшись, у огня. Захотелось спать. Страх притупился, но не исчез. Внук взвел карабин, поставил его между колен, привалился спиной к кочке и, закрыв лицо капюшоном плаща, уснул.
Поднялся он, когда едва начинало светать. Дождь не переставал. Но теперь у Внука не было огня, и он, злой и озябший, закружил по холмам, помаленьку продвигаясь вслед ушедшему стаду. К полудню он наткнулся на остатки костра. Значит, здесь ночевала бригада. Обугленная палка торчала в середине выжженного круга, наклоняясь к северу: пастухи сообщали, куда лежит их путь. Эх, какой же он незапасливый! Были бы спички – можно было обсушиться и поесть горячего, а в банке из-под тушенки вскипятить чаю... К вечеру он вышел к реке, неширокой, метров на двадцать, чаут перекинуть можно. Сломив длинную иву, очистил ее от листьев, сунул в воду. Палка не достала дна. Он прошел вверх, вниз – брода не было. Не зимовать же перед этой речкой! Внук разделся, привязал узел с одеждой к карабину и полез в воду.
Поднятая рука занемела, не было мочи держать карабин. Внук перевернулся на спину, перехватил карабин другой рукой. Раз и еще раз голова скрылась под водой. В уши ударил шум реки, быстрой и многоводной. «Утону – и никто не придет на помощь, – мелькнула мысль. – И никто не узнает». Внук отчаянно заработал ногами, немеющая рука тяжело загребала воду, приближая его к берегу. И когда ноги наконец нащупали дно, Внук отдышался и, качаясь, вышел на берег. Натянув влажную одежду на мокрое тело, он побежал вдоль берега. По окоченевшему телу медленно поднималось тепло. Взобравшись на небольшой холм, он оглянулся и увидел в распадке... оленей. Впереди вышагивал Кояна, разве можно было не узнать его?
Вспыхнула радость. Внук заплясал, заорал во все горло и, сорвав с плеча карабин, выстрелил в воздух. «Ага, попался!» – крикнул Внук и, ухватившись за шею, вскарабкался на крутую оленью спину. Кояна недовольно закрутил головой. Но Внук, сдавив его бока ногами, нагнулся вперед и дернул за толстые окаменевшие рога.
– Пошел, пошел! Хак, хак!
Кояна оглянулся на косяк, робко жавшийся за ним, и неторопливо двинулся. Следом легко и ладно затрусили молоденькие оленихи. Внук даже не подумал пересчитать их: был уверен, что Кояна привел всех. Такой разве даст в обиду своих?
В серой мгле, затянувшей небо, появились промоины, голубые и бездонные, как весенние озера. Дождь перестал, и ветерок, пробегая по тундре, сушил кусты и травы, разгонял хмарь. В сумерках Внук увидел огонек. Он подбоченился, подъехал к костру и, лихо спрыгнув, хлопнул Кояну по шее:








