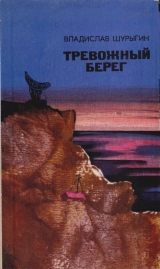
Текст книги "Тревожный берег"
Автор книги: Владислав Шурыгин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
27
Дотошный парень с коричневой сумкой-репортером на боку сует под нос Филиппу никелированный микрофон:
– Товарищ Бакланов! Расскажите, пожалуйста, радиослушателям «Юности» о вашем боевом товарище Иване Кириленко. Вы служите с ним рядом много дней. Какие черты его характера вам особенно запомнились?
Бакланов набычивает голову, прикусывает губу и отвечает не сразу:
– Ну, очень честный. Труд любит, не разделяет его на легкий и тяжелый. Два года обеды нам готовит. Между прочим, такие, что любая хозяйка позавидует… Комсоргом он у нас… Спрашивает по всем статьям. С меня, например. А что еще говорить? Я не знаю…
– Прекрасно, товарищ Бакланов. Что-нибудь о его требовательности к себе й товарищам.
Вмешивается Николай Славиков, трогает репортера за плечо:
– Товарищ корреспондент! У нас запись его голоса есть. Хотите послушать?
– Голоса? Где? Что же вы раньше молчали? Давайте!
Славиков спешит к тумбочке, где у него хранятся кассеты.
– Это джазы. Это… Вот, кажется, эта!
Репортер готов выхватить из рук Славикова коробку. Ему стоит большого труда быть спокойным и смотреть, как Николай не спеша заправляет пленку в магнитофон.
– Ты осторожнее! – сует он длинный палец. – А то скорость-то маленькая. Девять и пять? Осторожно!
Шипит динамик. Славиков прибавляет громкость. Сейчас магнитофон «заговорит»! Крутятся диски. И вот возникают, крепнут голоса:
«Что еще?»
«Сознательная воинская дисциплина».
«Правильно, сержант Русов!..»
– Это наш замполит, – поясняет Славиков и указывает глазами на стоящего здесь же старшего лейтенанта Маслова. Славиков щелкает клавишей. Стоп! Репортер сердито хватает его за руку:
– Пусть крутится!
– Мы его голос пропустим! – в свою очередь сердится Николай. – Кажется, здесь был его голос. Сейчас мы повторим.
Славиков возвращает ленту на несколько оборотов назад. Предостерегаюхце поднимает ладонь – вот сейчас, слушайте!
«Людей надо дуже уважать и любить. Бильше, чем сэбэ!..»
– Это Ваня!
Побледневший от столь редкой удачи, репортер включил свой магнитофон, поднес микрофон к динамику, но голос Кириленко уже смолк. Только глухой раскатистый шум. Репортер вопросительно смотрит на Славикова, и тот деловито поясняет:
– Море шумит… Сейчас мы повторим…
Повторили, и репортер переписал все на свою пленку.
А Славиков снова щелкнул выключателем, и возник, зазвучал еще один голос. Маслов вспомнил, где и когда был этот разговор, удивленно повел головою: «Ну и ну! Как же Славиков успел?»
«…если, садясь в кресло испытателя, человек подумает, что он идет на подвиг, значит, он не готов к полету в космос. Значит, он не готов к подвигу. Человек, уходя в ответственный полет, идет работать! Для прогресса, для человечества. Работать! Вот что главное. Мастерски выполнять доверенную работу, а слава тебя найдет. Так, кажется, в комсомольской песне поется? А, Кириленко?»
«Так».
– Молодцы! – не удержался репортер. Глаза его ошалело горели. И он еще раз восхищенно повторил: – Какие вы молодцы, ребята!
Прокручивали еще одну пленку, где, как все утверждали, должен быть голос Вани Кириленко. И действительно, Ваня начал говорить.
«Вот у нас на Днепре рыбалка! Хлопцы, давайте после службы…»
«Э! Тебе еще год трубить. Мы уже штатскими будем, а ты салаг агитируй на Днепр…»
Это, перекрыв Ванин голос, ворвался голос Филиппа Бакланова. Филипп покраснел до корней волос. Обозвал себя самыми последними словами. Никогда в жизни ему не было так стыдно, как в эти минуты, когда люди пытались услышать голос Вани Кириленко, а он, Филипп, грубо оборвал – как сапогом наступил на тот голос. В те минуты Филипп подумал, что не раз поступал он в жизни подобным образом.
Бакланов ушел к морю и там, сидя один, подвел невеселый итог своей службы и жизни на посту 33.
Он считал себя поэтом… А на деле? Талантливым его не признают даже в окружной газете, не говоря уж о центральных журналах.
А может быть, никакой он не поэт? Скорее всего, так. Просто любит стихи, и все. И наверное, всю жизнь будет любить, оставаясь этим, как его… дилетантом, любителем. Но ведь бывает и так, что слабая искра таланта постепенно родит пламя, создает костер… И тогда… Филипп даже подумал: «Вот возьму и напишу поэму о ребятах, о Ване Кириленко. И тогда заговорят обо мне все сразу…»
Его любовь к Юле… «А любовь ли это? Бегал в самоволки, трепал языком, выворачивался наизнанку, а вот не любит она, и все. Это факт. Если я ее люблю, то почему сейчас, когда она далеко, в городе, поступает в институт, мне как-то вдруг спокойно? И вроде бы мудро рассуждать стал. Ведь говорят, когда любишь, ночей не спишь. Странно. А я сплю. Спокойненько сплю и вроде во сне ее ни разу не видел. Конечно же думал о ней, но когда? Ночью, охраняя пост. Шагаешь, а мысли сами крутятся вокруг отношений с Юлей… Приятно как-то думать…
А может, и сейчас еще не все? Может, мне удастся стать лучше? Взять от ребят моих, от каждого самое лучшее… От Вани – спокойствие и фундаментальность во всем. В словах, в делах. От Славикова – жизнерадостность и юмор. Шутки его всегда к месту, там где надо. Но пожалуй, с этим ничего не получится. Острить-то я, конечно, смогу, но уровень не тот. Как у Славикова, не получится… Для этого надо жить в Москве, окончить среднюю школу, институт. Окончить, и даже после всех ступеней образования – громадный вопрос, будет ли во мне всё, что есть у Славикова. Нужна среда, как говорят ученые люди.
От Русова можно взять самостоятельность. Он всегда умеет быть самим собой, и его не собьешь… Это точно. Он знает, к чему идет, он все планирует наперед и, как шахматист, продумывает. А девчонки, между прочим, и серьезных любят. Приезжала же к нему Людка. За тысячу километров прикатила. Значит, есть в человеке что-то такое…
От Володи Рогачева… Ничего не возьму от Володькп Рогачева! И думать о нем не стоит. Точка. Отношения с ним прерваны. Самим Володькой…»
Все произошло на следующее утро после той грозы… Ваня Кириленко был уже в госпитале.
Утром Володька подошел хмурый, глаза прищурены: «Ты почему меня в грозу не позвал? Знал ведь, где я…»
Крутилось на языке оправдание: «Думал, сам прибежишь… Ливень-то какой был». А Рогачев снова: «Почему сидел в домике? Почему не с Резо в станции?»
Зло взяло. Чего пристал, чего привязался?
«Ну, был… Ты – под скалою, я – в домике!»
Как исказилось лицо Рогачева, как округлились, полезли из орбит глаза! Никогда не видел его таким.
«А ты… ты почему меня не позвал? Ты… ты…»
«Казалось, скажи я ему еще слово и он разорвет меня на куски. Я ничего ему не сказал». Филипп вспомнил как Рогачев, круто повернувшись п сжав кулаки, отошел…
«Хотел ли я сделать кому-то плохо? – думал Бакланов. – Разве Рогачева я не звал? Моя ли вина, что он не слышал?.. Да, мог сбегать к самому обрыву, мог спуститься по ступенькам и найти его там под скалою… Но что бы от этого изменилось? Ваню все равно ударило бы, наверное… Все Случилось почти в то время… Ну, возможно, при Рогачеве все случилось бы… Возможно… А не уйди он к морю, мог бы с первых минут быть в станции, может, даже сам бы и за экраном сидел. Да не „может быть“, а наверняка сам бы и сидел! Выходит, что я даже спас его. А, глупость… Досадно… Кто знал, что такое случится? Воскресенье ведь. Ни полетов, ни учений, мы в график дежурства не входили, заявок не было…»
Спасительные аргументы… Один убедительнее другого… И все же спокойствие не приходило… Неожиданно явилось, как приговор самому себе: «Эх ты, поэт… „высокая душа“… О себе бы, о дезертирстве своем написать, чтобы все знали. Все. А ребята молчат. Даже Русов со Славиковым до сих пор почему-то считают, что я был в дизельной, а к Рогачеву какие претензии! Находился на территории поста, как услышал работу, так и прибежал. Да еще вдобавок жизнь Ване спас. Считайте, что герой». Филипп горько усмехнулся, покрутил головой, словно стараясь избавиться от тяжелых мыслей.
…Плескалось о валун море. Сгущались сумерки, и постепенно вверху, за кручей обрыва, угасли голоса людей, отурчали и удалились автомобильные моторы. Только тогда Филипп встал с «валуна откровенья». Хотелось поскорее услышать голоса ребят, молча посидеть среди них.
28
Из Морского – первые утешительные вести: Ваня Кириленко пришел в сознание, но говорить ему врачи не разрешают и к нему по-прежнему никого не допускают. Только дежурит возле женщина с обветренным, рано состарившимся лицом крестьянки, с шершавыми и добрыми руками. Мать.
Как хочется, чтобы все было хорошо! Далакишвили предлагал: «Ребята! Давайте напишем Ване письмо!» Славиков спрашивал: «Когда они там разрешат взглянуть на него?»
Парням с тридцать третьего нужна была, работа. Горячая, самозабвенная. Чтобы вылетали из головы грустные думы, чтобы снова ощутить кровную связь со всем, что требует защиты и что само способно дать силу и помощь.
И такую работу дали. Четверо суток не выключались дизели, вращалась антенна локатора, менялись у экранов солдаты. Четыре часа за экраном, четыре на записи координат, четыре на отдыхе. И снова за экран или к дизелю.
Шли учения, и на морской полигон непрерывно, волна;т волною, большими и малыми группами шли бомбардировщики.
Отбой дали неожиданно. И тем более неожиданно прибыла почта. Андрею письмо от Людмилы…
Читать, конечно, ушел к морю. Предусмотрительно прихватил с собою книгу, бумагу и авторучку. Чтобы ответ дать сразу. Мало ли как со временем получится.
Над самой головой проносились крикливые чайки. После недавнего шторма море было грязно-серым. Выброшенные на берег водоросли успели поблекнуть и высохнуть. Травы так много, словно море произвело генеральную уборку и вымело сор на берег. Остро пахло йодом. И еще рыбой.
Андрей взял из вороха вымытого морем мусора травинку. Почти белую, выцветшую на солнце. Расправил, и напомнила она ему полоску телеграфной ленты, какие клеют на телеграммы. Русов улыбнулся: «Море работало на совесть. Морской телеграф был перегружен. Тысячи тысяч телеграмм, обо всем на свете. О делах морских и о тех, что на берегу, возле моря…»
Андрей расправил травнику, похожую на лепту. Достал авторучку и вывел на травинке? «Срочная». Буквы сразу же обросли маленькими веточками, расплылись, но все же были заметны, особенно последние, где травяная лента успела высохнуть полностью.
Андрей положил лепту на тетрадь и, думая о своем, несколько раз написал: «Люда… Людмила…»
Он вздохнул, убрал с тетради исписанную травинку, выбрал из вороха новую, чистую, расправил ее.
И снова в памяти та ночь… Андрей ушел от Люды на час раньше, чем мог бы… Что гнало его, что заставило непременно уйти? Он и сам бы толком не объяснил, что именно… Беспокойство, тревога какая-то и щемящее чувство непонятной далекой вины перед ребятами, перед Ваней Кириленко… Ваня где-то борется за жизнь, может, бредит, мечется на кровати… Ребята на точке потерянные какие-то… До личного ли тут? Нет, он, Андреи, не мог быть тем прежним, – скажем, таким, как г. отпуске, тогда, ранней весною… А Люда, кажется, обиделась. Провожая его, была сдержанна, слова и фразы все короткие… Ладно…
Шел сквозь ночь. Обрадовался оклику, из темноты: «Стой! Кто идет?» Узнал голос Бакланова. «Свои! Сержант Русов». Бакланов удивился. С чего это вдруг Андрей среди ночи от любимой заявился? Поругались, что ли? Нет? Странно… По понятиям Филиппа, раз уж приехала невеста, увольнение надо брать до утра…
Андрею не спалось. Слабо посапывал Рогачев, почмокивал во сне губами… Тикал будильник. Вспомнились слова Люды насчет ребят: иди, мол, проверь, как сладко они спят…. Вот и проверил. «Да, спят, и я с ними… Все вместе. Хорошо, когда все вместе». А позже снова возникло чувство вины перед нею. И ругал себя за свой характер. Есть же люди: сделал, как отрезал, и сомнение не гложет, и совесть не мучает. Железные люди. А есть ли? Может, железность эта сродни бездушию?
Утром встал рано. До одиннадцати часов, до отъезда Людмилы, была целая вечность. Посоветовался с Рогачевым и со Славиковым, и те убедили, что прибегать «под занавес» – перед отходом автобуса – не то чтобы не солидно, а нелепо как-то… Колебался… А Славиков убеждал: «Ротный-то отпустил до часу дня. Вот и иди. Иди, Андрей! Здесь все в порядке».
Да, дела на точке шли сами собою, как идут-двигают-ся колесики и шестеренки хорошо отлаженного часового механизма. Четкий подъем, физзарядка, уборка помещения и территории…
Завтрак вызвался готовить Резо. Вечером старшина Опашко привез свежей баранины, и Резо грозился накормить ребят шашлыком на ребрышках…
Склонившись перед горкой углей, зажатых с двух сторон кирпичами, Резо дул на мясо, махал фанеркой.
Повернув измазанное сажей лицо, крикнул уходившему Андрею: «Товарищ сержант! Подождите десять минут. Шашлык будет – пальчики оближете!»
Андрей не стал ждать, пошел, не завтракая.
От вчерашней обиды Людмилы не осталось и следа. Она с первых же минут удивила Андрея подчеркнутой бодростью и весельем. Протянула было руку, но не отстранилась, когда Андрей привлек ее к себе…
Они пошли к морю и там на обрыве остановились, точно впервые видя друг друга… Так казалось Андрею.
От Людмилы веяло свежестью, румянец выступал на щеках, и, если бы не легкие тени под глазами, можно было бы подумать, что спала она прекрасно и, не в пример Андрею, никакие сомнения ее не терзали. А может, так оно и было на самом деле…
Ветер поднял над ее головою, точно пламя маленького костра, волосы. Она тотчас осадила их руками, обратила лицо к ветру, и тонкие пальцы изящно и ловко побежали по волосам, пригладили, приласкали, успокоили прическу. Андрей улыбнулся – его всегда поражало это женское умение в какие-то секунды привести себя в порядок.
Люда перехватила его взгляд. Она прочла восторг в его глазах.
Смотреть с высокого обрыва на утреннее море – непередаваемая радость. В чистейшем воздухе видно далеко. До самого горизонта.
В стеклянную гладь моря смотрелись тоже вроде замершие, недвижимые облака. Легкие дымы… В тиши отчетливо застучал движок уходящего на промысел рыбацкого мотобота, и по воде долго и широко бежали волны… Потом они растаяли.
– Хорошо-то как! – сказал Андрей и вздохнул полной грудью. Видно, и Люда испытывала в эти минуты те же чувства… И вдруг она неожиданно для него прочла стихи:
Море мое милое, я в тебя влюбленная,
Ты у неба синее, возле ног зеленое…
Он понял: это были ее стихи. Точнее, импровизация о море. А оно таким и было. Возле берега зеленое с коричневыми глубинными островками скал и водорослей, а дальше, к горизонту, лазоревое…
Ощущение чистоты и грусти… Сколько хотелось сказать, сколько неясных слов теснилось и путалось в голове, но, видно, не пришло им еще время, не наполнились они одним, самым сильным чувством, и потому Андрей и Людмила молчали.
Да, чувство щемящей грусти… Точно с каждой минутой молчания теряли они что-то дорогое, невосполнимое… Кто сказал, что разлуки в молодости легки?
Все проходит… Прошло и то утро. Растаяли слова, сказанные возле окна старенького, грозно рычащего автобуса.
– Значит, жду. Пиши, как отдыхается, а не будет времени – потом напиши, из Оренбурга. Теперь уже не долго, и я пожалую скоро.
– Да… – рассеянно кивнула она.
Андрей уже тогда ощущал: от него уезжала совсем не та, которую он встречал. Она – и не она.
Так бывает.
Теперь вот это письмо… От нее. Неторопливый, убористый почерк. Ожили слова. Ее голос.
«Здравствуй, Андрюша!
Как ты живешь? Как чувствует себя Ваня (прости, забыла его фамилию)? Ему лучше? Девчонки мои очень обрадовались, когда я заявилась. Они почему-то решили, что я уехала надолго… Да и мне самой раньше многое казалось…
Когда ехала, очень верила, что найду в тебе друга, и, честно сказать, очень хотела быть тебе нужной, необходимой в жизни… Думала, – что слова мои что-то значат…
Не обижайся, но увы… Я разочарована. Я в тебе-ошиблась. Ни о чем не сожалею. Может, верна пословица: „Что ни делается…“
Итак, ты решил всю жизнь быть военным. И на первом месте всегда будут у тебя долг и служба. Я уже убедилась в этом, когда больше половины суток, тех, что была в Прибрежном, провела одна в четырех стенах…
Я не упрекаю тебя. Ты даже в некотором роде сильная личность. Не каждый сумеет быть таким…
Пойми меня правильно. Я не мещанка, я самая обыкновенная. Не сильная и не слабая. Но очень люблю постоянство. Во всем и всегда. И, если угодно, традиционность.
У нас разные дороги, разные судьбы. И теперь я не говорю тебе: „Думай! Решай!“ Ты решил, и, может быть, именно так лучше. Ты говорил о нашей скорой встрече… Я не уверена, что она так уж и необходима. Ни на мне, ни на тебе свет клином не сошелся – на свете столько хороших людей!
Будь счастлив и здоров. Людмила».
«Спокойно, Андрей! Прочти еще раз последние строки и – спокойно. „Свет клином не сошелся“? Да, это, к сожалению, так…
„Разные дороги, разные судьбы“… Слова-то какие категорические подобрала… Неужели она серьезно считала, что я мог все перерешить, написать в училище, подать рапорт Воронину? Простите, товарищи, ошибся, переоценил свои возможности.
Ошибся? Нет, не ошибся! Военный, п только военный. Жить по особому, строгому укладу жизни. Учиться летать. Окончить училище, найти полк, где когда-то служил отец. Прибыть и доложить: „Летчик, лейтенант Андрей Русов прибыл, готов к выполнению любого задания“. А про себя доложить: „Прибыл вместо погибшего отца!“
Эх, Люда, Люда!.. Ну как ты не поняла всего этого? Ты хотела, чтобы я всю жизнь был возле тебя, был штатским. Ты говорила как-то: „Живут же миллионы мужчин пне армии. Живут же! И еще как! Размеренно, спокойно. У них мирная, интересная профессия. Утром, всегда в одно и то же время, они встают, делают зарядку, пьют кофе, неторопливо беседуют с женой, едут на работу. Он – на свою, она – па свою. А то и на одну и ту же. Имеете. Вечером же… Вечер принадлежит им! Полностью. Хотят – пойдут в театр, хотят – пригласят к себе друзей и засидятся за полночь. Свободные люди, счастливая жизнь!“
Да, Люда, это так. И хорошо, что это так. Интересная работа, интересная жизнь. Общая дорога, общая судьба. Разве я не согласен с тобою? Согласен. Но меня-то влечет другое, у меня другая цель в жизни. Разве я не говорил тебе об этом? Говорил.
Да, у военных все по-иному. Но вовсе не значит это „по-иному“, что они отверженные, отрешенные от счастья.
У военных время имеет особое измерение. Оно спрессовано, сжато. Каждый час имеет свою большую цену. Отец и его друзья были летчиками. Они умели ценить время!.. На рассвете их ждали самолеты, ждало оранжевое, как апельсин, утреннее, солнце и бескрайнее небо…
Полет! Ни с чем не сравнимое чувство парения! Осознанное, управляемое парение. На сверхзвуковой машине ты мчишься в просторах родного неба. Ты – его хозяин, ты – его защитник. Под крыльями твоего истребителя подвешены карающие молнии ракет. Ты – военный летчик! Ты умеешь управлять крылатой машиной и боевым оружием. Какая гордая, суровая и мужская профессия! Как объяснить это, объяснить тому, чье сердце далеко от авиации? Как объяснить?..
Нет, Люда, наверное, не все так просто и неуязвимо…
„Разные пути, разные судьбы…“ Как красиво и „удобно“ сказано!
Но ведь идут же и рядом с военными их любимые! Идут, как говорится, в огонь и в воду! В чем же дело? В любви! Любят, верят, понимают – потому и вместе.
Значит, нет у тебя любви. Значит, нет, Люда… А мне думалось, мечталось…»
…Волны лизали песок, и на них качались клочки бумаги. Нет, письмо не получалось.
Подумать, сказать зачастую легче, чем написать, особенно той, которую так бы хотел назвать любимой…
29
Сентябрь перевалил за половину, а в лучах полуденного солнца все еще поблескивали летящие невесть откуда паутинки-путешественницы – признак устойчивой погоды.
Над морем по-прежнему возникали воздушные замки из кучевых облаков. С утра облака окрашивались в нежно-розовые тона и как бы светились изнутри, в полдень блекли и становились похожими на застывшие дымы.
В один из таких дней работавший на крыше станции Славиков заметил знакомый тягач. Свесившись вниз, он крикнул в открытую дверь аппаратной кабины:
– Ребята! Ротный едет!
Слова его были схвачены на лету. Что-то сказал Русов, мелькнула голубая майка побежавшего в домик Рогачева, из дверей дизельной станции высунулся Далакишвили, приставил ладонь к уху:
– Э, кто едет? Понятно!
А Славиков, торопившийся слезть с крыши станционной кабины, удивленно обнаружил, что тягач догоняет еще какая-то машина, похожая на газик. «Значит, обе к нам», – подумал Николай и, пробежав по нагревшемуся зеленому железу, мигом скатился вниз. Теперь надо успеть одеться: ох, не любит ротный, когда не по форме! Жара не жара – его не касается. Сам в гимнастерке, при ремнях и потому не принимает объяснений. А сейчас тем более – не один, видно, едет…
Одеться успели. Обогнав тягач, газик преодолел крутой подъем и остановился недалеко от домика. Откинулась боковая дверка, и из кабины ступила на траву нога с генеральским лампасом, а затем вылез грузный генерал – командир части. В домике пронзительно и настойчиво зазвонил телефон. Славиков вопросительно взглянул на сержанта, но тот понял, что по телефону их уже опоздали предупредить.
Русов громко подал команду:
– Пост! Смирно!
Печатая шаг, он направился к машине, а солдаты, успев построиться, застыли возле домика. Из машины следом за генералом вышли подполковник и майор с фотоаппаратом. Русову осталось каких-то несколько шагов до машины, когда он снова уловил трель полевого телефона и успел подумать: «А вдруг готовность дают?» Русов остановился напротив генерала и. вскинул руку к панаме.
– Товарищ генерал! Расчет радиолокационного поста тридцать три в количестве шести…
Русов покраснел, запнулся. Сегодня этот сто раз отданный рапорт был отдан не так, и сержант поправился:
– …в количестве пяти человек проводит профилактические мероприятия на технике.
Взгляд генерала – само внимание. Он до конца выслушал рапорт, держа руку возле лакированного козырька фуражки. В конце доклада Русов заметил, как глаза генерала потеплели, он сказал с хрипотцой, протянув большую теплую руку:
– Здравствуйте, товарищ старший сержант!
Русову еще непривычно это звание, присвоенное только вчера. А генерал неторопливо, словно он всю жизнь только и ждал этого торжественного часа, поздоровался с расчетом и с каждым из солдат в отдельности за руку. Делал он это с огромным удовольствием – так пожимают руки сыновьям. Дело совершено славно, и приятно, радостно отцу.
Пока генерал здоровался, приехавший майор, очевидно корреспондент, не терял времени даром: забегал то с одной стороны, то с другой и, приседая на корточки, щелкал фотоаппаратом.
Во второй группе приехавших, рядом с Ворониным, вышагивал – кто бы мог подумать! – лейтенант Макаров. Худой, высокий, сдержанно-торжественный. Всем своим видом он как бы говорил: «Забыли небось, а? А вы тут без меня ничего». От этого «ничего» немного грустно лейтенанту – столько событий, и всё без него! Долго он был в госпитале. Но не только приехавшее начальство и лейтенант Макаров поразили солдат с тридцать третьего, хотя, если покопаться в памяти, что-то не помнится, чтобы на посту сразу вот столько офицеров бывало, – удивило другое. Следом за лейтенантом робкой группкой шли трое солдатиков с вещмешками и скатками шинелей. Молодые? Конечно, они. Иначе почему же с полной выкладкой? А может, и не на тридцать третий, а на другой какой пост. Нет, сюда. Сидели бы себе в тягаче. А вот ведь топают за лейтенантом Макаровым. К нам! Конечно к нам! Бакланов не мог сдержать улыбку. Он несколько раз толкал в бок стоящего рядом Славикова и в свою очередь получил веселый толчок, означающий «ура!».
Командир роты приказал всем построиться. На правом фланге стал сам, рядом Макаров, затем расчет поста и на левом фланге – молодые солдаты. Еще один офицер – кряжистый, краснолицый подполковник – откашлялся и начал говорить то, к чему, видимо, подготовился заранее:
– Товарищи! Мне приказано здесь, па территории отдельного радиолокационного поста, довести до вас документ большого морально-политического, значения…
Подполковник сделал паузу, оглядел стоящих перед ним солдат й офицеров и торжественно-громко начал читать:
– «Указ Президиума Верховпого Совета Союза Советских Социалистических Республик…»
Солдаты напряглись, учащенно застучала в висках кровь. Такое чувство они уже испытывали, когда из Москвы передавали рассказ о подвиге оператора, когда вся страна услышала голос их товарища Вани Кириленко.
– «За образцовое выполнение воинского долга и проявленное мужество наградить рядового Кириленко Ивана Николаевича орденом Красной Звезды».
Затем был зачитан приказ о награждении ефрейторов Рогачева и Далакишвили именными часами.
«Ну и дела! – думал Бакланов. – Ивана к ордену представили – это понятно. Все же человек жизнью рисковал, пострадал на службе. Русова старшим сержантом сделали – тоже понятно. Командир. Рогачева часами – понятно. Могло бы и его ударить молнией. Но Резо-то – ефрейтор. На первом году, салага зеленый, и пожалуйста вам – звание ефрейтора плюс часы! Чего доброго, теперь его и старшим надо мною назначат, Этого только не хватало! Впрочем, служить-то мне какие-то дни осталось, но гонять его бегом, как молодого, вряд ли теперь удастся. Так-то, Филипп Иванович… Обидно, черт возьми!
Да, досадно. Могло бы все ото мне – и часы и звание. Могло бы, черт возьми! Дизель тот, на котором станция работала, я сам перебрал, подмазал. А Резо вручают именные часы… Да, сам во всем виноват!»
А подполковник продолжает читать:
– Согласно приказу командира части техник-лейтенант Макаров Антон Петрович с сегодняшнего дня приступил к исполнению обязанностей начальника тридцать третьего отдельного радиолокационного поста. Как говорится, прошу любить и жаловать.
Макаров чуть заметно улыбнулся: «Привыкать нам, что ли…»
Генерал подходит к строю, глаза его молодо поблескивают из-под густых темных бровей. Он нетороплив в движениях и в словах, как всякий человек, привыкший к тому, чтобы слово его было решающим.
Генерал останавливается возле вновь прибывших солдат, обращается к одному из них:
– Откуда сами, товарищ солдат?
– Рядовой Снегирев! Из Оренбурга я, товарищ генерал, – бойко отчеканил солдат.
Русов улыбнулся: «Земляк прибыл!»
– Вы? – спросил генерал следующего.
– Рядовой Кушнир. Из Одессы, товарищ генерал.
Докладывает и третий:
– Рядовой Захаров. Из Мурома, товарищ генерал.
Генерал спрашивает солдат тридцать третьего поста.
В ответ ему сыплются фамилии и города: «Из Ленинграда, Саратова, из Тбилиси, Оренбурга…»
– Вот видите, какой интернационал! Созвездие городов! Сегодня на этом посту подобрался расчет, служить в котором посчитал бы за честь каждый солдат. Ваш боевой товарищ – рядовой Кириленко проявил подлинное мужество. В сложной обстановке, во время грозы, он думал только о том, как лучше выполнить воинский долг, как помочь попавшим в беду людям. И все мы, солдаты, должны быть готовы встретить на своих боевых постах любое испытание, любую грозу.
Перед генералом стоит группа солдат, всего лишь толика той воинской массы, которая ему доверена, но теперь это его особое, проверенное подразделение, не пропахшее порохом, но своими делами сегодняшними доказавшее, что готово к самым суровым завтрашним.
Генерал обращается к вновь прибывшим:
– Сегодня вы, товарищи, вливаетесь в расчет этого поста. Служба на посту, прямо скажу, не легкая. Дежурства, постоянная готовность, тревоги… Но нам ли, солдатам, к этому привыкать? Да, мы частенько беспокоим вас, даем, как говорится, перегрузки. И нам их дают и будут давать. Внезапные учения и тревоги держат солдата в постоянной готовности. К тревогам нельзя привыкать, потому что никто не знает, какая она, следующая тревога. Ваша основная и главная задача, товарищи молодые воины, – как можно скорее войти в строй, освоить на «отлично» технику. Еще раз желаю всему расчету тридцать третьего поста успехов в боевой и политической подготовке, успехов в охране родного неба!
Отзвучало: «Вольно!», «Разойдись!». Теперь начнутся солдатские разговоры.
Пока генерал и капитан Воронин беседуют с сержантом Русовым, Бакланова интересует свое. Он уже возле молодых солдат. Деловито интересуется:
– Дизелисты есть?
– А как же? Я дизелист, – отзывается низкорослый, с веселыми глазами солдат и спешит навстречу Бакланову.
Филипп радостно протягивает ему руку:
– Дизелист, значит? Держи пять. Филипп Бакланов. А тебя как зовут?
– Валерием. Валерка Снегирев!
– И откуда, говоришь, такой взялся?
– А из Оренбурга. Слыхал про такой город?
– Ну, спрашиваешь! Это где Емельян Пугачев. Учили в школе. Наш старший сержант, между прочим, тоже оттуда. Смеешься? Думаешь, служба легче пойдет?
– Скажите, пожалуйста, а как у вас с шахматным спортом? – интересуется чернявый солдат-одессит.
Бакланов смеется, ему хочется сказать: «А разве шахматы – спорт?» В его понятии спорт – это когда трудишься мускулами, а не одной головой. Как-то спорили уже по этому поводу, и даже Славиков многозначительно заметил, что, пожалуй, шахматы и шашки – это ближе к науке. Может быть, потом Филипп Бакланов поспорит с Марком Кушниром, по сейчас отвечает примирительно:
– Шахматы? Вон того сивого парня видишь? Славиков его фамилия. Шахматист! Разряд не помню, но что-то около мастеров.
– Кандидат? – округлил глаза солдат-одессит и, наивно веря, что это действительно так, поспешил к Славикову.
Снегирев тоже решил, что на посту 33 должны быть люди необыкновенные, и потому тоже поинтересовался:
– Слушайте, а боксеры есть?
Бакланов засмеялся, приставил к груди измазанные соляркой кулаки:
– А ты что, можешь, да?
– Второй разряд.
– Молоток!
– Что?
– Молодец, говорю. Поучи на всякий пожарный? Ускоренно. Годичный курс в две недели. Нельзя? Жаль…
А возле генерала свой разговор.
– …Вызовем из санатория на денек, дам по такому случаю самолет… Вручим орден… Ой, люблю ордена вручать! – Генерал засмеялся, пообещал: – Скоро, скоро увидите вашего героя. Главное, выдюжил, а здоровье восстановится. Молодой!.. Меня на фронте как глушило, землей засыпало, осколками дырявило, а ничего вроде. Живу… Скоро пришлем вам новую технику. Усилится ваше «зрение» разочка в три.
Русов удивленно смотрит на Воронина: не оговорился ли генерал? Ведь в три раза – это…
– Да, в три раза, – повторяет генерал, точно предвидя сомнения стоящих вокруг него специалистов. – Ну и задачу, конечно, вам изменим. Сопровождать самолеты на полигон будут другие, а вам дадим боевое дежурство. Границу доверим! Справитесь? – И сам же ответил: – Конечно, справитесь!
Капитан Воронин задумчиво смотрит на решетчатые крылья антенн станции, и кто-кто, а он-то наверняка уже видит на бугре другую станцию, как говорят художники – «другой пейзаж». Управится ли он с новой техникой?.. Он еще попробует, постарается. Вроде бы есть еще порох в пороховницах…







