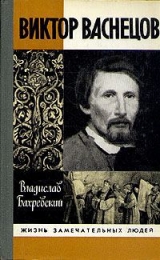
Текст книги "Виктор Васнецов"
Автор книги: Владислав Бахревский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 25 страниц)
Туча беды нависла над масляной живописью Владимирского собора, который зимой теперь не отапливался.
Васнецову и Нестерову пришлось написать множество писем в разные инстанции, доказывая ценность росписей.
Советская власть не была глуха к требованиям художников. Анатолий Васильевич Луначарский писал о церковных работах Васнецова: «Когда религия умрет, тогда особой красотой засияет та живописная сказка, которую создал Васнецов из ее мотивов».
Воздух уже был полосат: то теплая волна, то обжигающе бодрая, то чистая, как родник, то все еще зимняя, дымная, пахнущая горячими печными кирпичами.
Сторож Антон, открывший калитку во двор, не вписывался в весеннюю отраду: в валенках, в шубе, шея из воротника, как у черепахи, тощенькая, складки кожи висят.
– Здравствуйте, Аполлинарий Михайлович!
– Не разбудил? Я – чуть свет.
– Живем по-куриному. Встаем рано, ложимся рано. Лампу жечь – керосина нет.
Аполлинария Михайловича слова сторожа не совсем успокоили, стоял посреди дворика, смущенный ранним своим появлением.
– Виктор Михайлович в саду, картины рисует, – сказал Антон.
Аполлинарий Михайлович обрадовался, пошел по дорожке, вокруг дома, и сразу же увидел брата.
Виктор стоял у мольберта среди старых корявых яблонь. Стоял неподвижно, и Аполлинарий тоже замер, взволнованный и смущенный.
Виктор стоял, запрокинув голову, подставляя лицо солнцу. Серебряно-рыжая борода светилась, светились легкие волосы, само лицо светилось.
Аполлинарий повернулся, чтобы уйти – он пришел к брату не с веселым, – но Виктор услышал шорох песчинок на дорожке и окликнул:
– Куда же ты? – и когда Аполлинарий подошел, сказал, улыбаясь: – А я почему-то знал, что ты придешь сегодня. Смотри! – указал на другой мольберт. – Это я для тебя приготовил. Тряхнем-ка, брат, старинушкой. Ведь что бы в мире ни свершалось, мы – художники.
– Были художники, – сказал Аполлинарий.
– И были, и есть, и во веки веков…
– Вот, почитай, – Аполлинарий протянул брату листок бумаги.
Прочитал.
– «Предлагаю вам явиться ко мне 14 марта с/г в 1 час дня по указанному адресу. Явка по поводу передачи вам ваших картин. В случае неявки будет составлен акт. Комендант Зиновьев».
– Кто это? Что это? – сердясь, спросил Виктор Михайлович.
– Комендант ВХУТЕМАСа…
– Да начхать тебе на него!
– Я грипповал все эти дни… А они свалили кучей мое бесценное творчество па пару телег и привезли к дому: забирайте барахлишко, Аполлинарий Михайлович. Ваша мастерская пойдет под общежитие. Но врут! Мою мастерскую занял некий футурист. Их теперь множество, отрекшихся от старого мира, без корней, души и понятия о мастерстве.
Виктор Михайлович взял кисть и дал Аполлинарию.
– Становись к мольберту, пиши. Весна перед тобой. Аполлинарий кисть взял.
– Виктор, я не просто старый художник, я даже академик старый. Восемнадцать лет пейзажному классу отдал. И, кажется, был не из худших учителей: Корин, Мешков, оба Герасимовых, Иогансон, Татевосян, Яковлев, Исупов, рыжий Яковлев, Лысенко, Сырнев… Хорошие все мастера. И – выкинули. В прямом смысле – выкинули….
– Пиши. Зелененькие листики писать – дело нехитрое. Ты вот этакую весну ухвати. Она вся еще в почках, по – весна!
Аполлинарий взял с палитры брата краски, коснулся картона.
Взял наконец палитру. Работали молча.
– Рассказать тебе, чем мой Всеволод однажды занимался, когда службу проходил? Подняли их поутру, вооружили лестницами, клещами, плоскогубцами. Оказалось, новоявленные гении за ночь присвоили свои незабвенные имена множеству улиц и переулков. Всеволод одну вывеску домой принес: «Улица имажиниста Александра Кусикова». Так-то, брат!
– Никаких Кусиковых не будет. А вот улицу братьев Васнецовых я тебе обещаю… Так что, пиши, Аполлинарий, пиши весну. Старики о весне знают больше молодых. Пиши, художник, пиши!
Аполлинарий потянулся обнять брата, потому что ощутил в себе великое сиротство. Ведь они, два старика, может, последние художники в этом мире, отвернувшемся от былых ценностей. Но сдержался, сказал буднично:
– Я вчера с новыми зодчими не на жизнь бился. И никому ничего не доказал. Собираются такими домами Москву застраивать, хоть плачь. Что-то серое, безликое.
– Безликие дома – безликие города, безликие города – бездуховные люди.
– Вот и я про то же. А они от меня, как от мухи. У них – Корбюзье. Ишь как – Корбюзье!
– Аполлинарий, значит, кому-то нужно, чтоб люди стали бездуховными овцами.
– Но кому? Мы в молодости с тем же Пашкой Халтуриным, с братом Степана, о другом мечтали.
– Миром правит выгода. Кому-то выгодно, чтоб красавица Москва стала плоской, как камбала… Пиши, художник! Смотри, как облако-то просияло. Пиши!
Вместе с летом ушло тепло. В тереме и в благополучные времена зимой жарко не было, это когда дрова были свои, их возили из Нового Рябова. Виктору Михайловичу иногда казалось, что дом сердит на хозяина. Ему неуютно стало от своей красоты, от величия, и он, негодуя, нарочно поддается ветрам и морозам. Дом перестал быть крепостью от бурь.
Но вопреки всему – ненужности своей, отсутствию спроса на картины, старости, холоду, голоду, плохим краскам – художник каждое утро поднимался в мастерскую и хоть час, да писал.
Он посмотрел на свои замерзшие руки. Сквозь синеву посвечивала бледная желтизна старости. Сжал пальцы в кулаки, почувствовал, как послушно, железно напряглись мышцы. Сила не убывала. Стало вдруг весело. Подмигнул своей «компании».
Добрыня Никитич исхитрялся хватить мечом по змеиной башке. Сказка.
Царевна в изумрудном уснувшем царстве глядела сны про принца-спасителя. Сказка.
Ванька-молодец скакнул на Сивке-Бурке до заветного окошка, где царская дочь стоящего жениха выбирает. Сказка.
– Старикам сказки надо сказывать. Вот и сказываем…
Померещилось, что у царевны, летящей на ковре-самолете, глаз нехорошо косит.
Подышал на руки, спрятал пальцы под мышки, опять на них подышал. Взял кисть, палитру. А краски-то нужной нет! Пятнышко от краски. Все же и с пятнышка попробовал собрать хоть сколько-то.
Подошел к картине. Прицелился. Ошибиться было никак нельзя.
– Не хуже хирурга…
Тронул картину и тотчас бросил и кисть, и палитру.
Запахнул шубу, надел шапку, рукавицы. Ишь какая разумная жизнь! Холодно, зато одеваться не надо. И одет, и обут.
Сердито грохнув дверью, пошел вниз.
– Далеко? – спросила Александра Владимировна.
– За дровами! Я же ведь не простыня все-таки! Меня вымораживать не обязательно.
Хлопнул входной дверью. А на улице пожалел о своей сердитости. Ни за что ни про что Шуру обидел. Ей ведь семьдесят три! Вот какие годы-то теперь у них. И для таких-то лет такое время.
Москва была в инее, в пресветлых жемчугах зимы.
Он пошел, пошел и тотчас по привычке – полетел, не ведая на ходу свои семьдесят пять.
Думал о Толстом. Нестеров в друзьях у великого старца был, а вот Васнецов пришелся не ко двору. В самый расцвет «толстовства» сошлись пути. А «толстовство» – такая же ложь, как все прочие лжи. Правдовидец, правдоборец, Лев Николаевич на свое-то был слеп, как и все смертные… А ведь – гений. Без намека на оговорку. Гений! Как он умел объять человечество. И войну, и мир, а большего-то и нет в человечестве.
Что-то затрещало, загрохотало, рушась, валясь, в скрипах и стонах. Отпрянул, а потом только увидел – забор уронили. И как саранча – ломают, тащат, бегут!
Повернулся, сгорбился – и домой. Увидал обломок доски… Остановился, поднял. Еще обломок. Опять поднял.
– Эй, буржуй! – окликнули его. – Чего побираешься? Ты липы свои спили.
Поглядел на крикнувшего. Молодой парень, в шинельке, зубы скалит, а сам худой, желтый.
– Они живые, липы. Они как мы с тобой.
– Буржуй ты и есть буржуй. Липы пожалел. Главное, чтоб революция жила. Понял? А ты художества свои разводишь.
Парень убежал, таща большую добычу.
Посмотрел вослед ему: лицо у парня было умное, сообразит когда-нибудь и про живые липы, и про художества.
Он вышел к ужину последним, но, как всегда, минута в минуту. Все ждали его. И это было ему приятно. Весь мир полетел к чертовой бабушке, а в его дому покуда все на своих местах.
Рядом с дедом па высоком стуле – внук Витя. Далее молодежь. Дочь, племянники, племянницы. Прибыли Москву завоевывать. А Москва в топку летит… Впрочем, последнее – старческое брюзжание.
Варево было изобретено из чего-то невообразимого, но ели молча, как и принято было в этом доме. И вдруг – колокольчик.
Татьяна, дочь, пошла узнать, кто и почему.
– К тебе, папа! На автомобиле!
– Пусть ждут! Ждут! – сказал громко, чтоб те, в прихожей, слышали, знали…
С минуту посидел, но… встал. Глянул на Александру Владимировну.
– Мама, накрахмаленную рубашку… Ну, и сама знаешь. Полный парад. Пусть видят, что это такое – художник. Нынешние – в охламонов рядятся. А это охламонство с одежды-то на картины перекидывается. Диалектика. Это, что ли, у вас теперь любимое словечко? – сердито посверлил глазами свою молодежь.
Ушел к себе и уже через две-три минуты был одет, причесан и куда как величав.
Его привезли на какой-то Совет, показали нечто кубическое, нечто, по мнению авторов, совершенно такое, чего никогда до них не бывало.
– Бывало, – сказал он. – Ну, что тут смотреть? Да и о чем разговоры разговаривать? Коли прежнее на помойку истории, значит, – вы первые, как Адам и Ева. Только вот не поворачивается язык сказать вам: плодитесь и размножайтесь.
Он хотел уйти, но его слушали, и он еще сказал:
– Я старый человек, однако память мне не изменяет. Все ваши новшества уже в самом начале века были. Меня один биограф донимал, что я думаю и о том и о сем. Вот об этом, – пальцем указал на иссеченное кубиками лицо, – я писал ему: горьки плоды нашего европейского просвещения! Все это – помрачение русских умов. Исполать всякому, кто хоть пальцем пошевелит, чтоб помешать расползанию этих лишаев. А они расползлись-таки. Вот они – лишаи художества!
Домой вернулся веселый, помолодевший.
– Мама, я-то их и в хвост и в гриву! А они, знаешь, что? Собираются мне правительственную пенсию выхлопотать. Ибо, говорят: достоин по художеству моему.
Уже глубокой ночью он сел писать письмо сыну Михаилу.
«23 декабря 1923 г.
(…) Работаю все над старыми картинами. Думаешь, что совсем кончил, а когда раскроешь картину, то тут, то здесь опять поправки, и так без конца. Придется, вероятно, насильственно поставить точку.
Хотелось бы новую картину начать, да холста нет и красок хороших нет. А у меня и эскизы уже готовы, напр. – „Микула Селянинович“ и др. Да вот когда дойдут руки? – не знаю!
…В последнее время я перечитываю „Войну и мир“ (Льва Николаевича) – произведение великое! Многое мне стало понятнее и яснее. Великая эпопея русского народа!..»
Терем в Троицком переулке был похож на музыкальную шкатулку. По четвергам сюда приезжали блеснуть виртуозной игрой известные всей Москве музыканты, пели знаменитые певцы, и Федор Иванович Шаляпин тоже бывал. Но прогремели выстрелы на площадях, на самых благополучных улицах, и словно бы некто вычеркнул из календаря и четверг, и все другие дни тоже. Жизнь пошла на часы, терем умолк. Обитателям его казалось, что оборвалось само время.
А мир не умолкал. Гремела медью новая напористая музыка. Птицы по весне возвращались в старый яблоневый сад. И девочки, вчерашние гадкие утята, обретали лебединую стать. И однажды, когда каждая веточка в саду сияла от птичьих звонов, хозяин терема, старик, суровостью похожий на вулкан, подсел к пианино и сыграл мелодию, простенькую, как пастушок. Мелодия кончилась, но он еще раз сыграл ее, еще, еще.
И в терем вернулась музыка. А тут еще из Вятки приехал сын старшего, давно уже покойного брата, Аркадий Николаевич.
– Твоя виолончель без тебя сиротствует, – за вечерним столом сказал ему Виктор Михайлович. – Сыграй нам.
Виолончель растрогала старика до слез. Молодежь заметила это, заговорщицки перекинулась шепотком, и когда виолончель умолкла, Дмитрий и Людмила – дети Аркадия, Надя – дочь Александра, и свои – Татьяна и Владимир – запели издавна любимое: «Улетай на крыльях ветра…»
Пришел Аполлинарий Михайлович. И уже все вместе, молодые и старшие, спели «В старину живали деды» и вятские, деревенские.
– А я помню, – сказала Людмила, – как вы, дядя Виктор, с папой плясали и пели по-рябовски. Вот весело-то было.
– И я тот день помню! – обрадовался Виктор Михайлович. – Это мы, наверное, в 14-м году приезжали… А может, и раньше. Теперь все слилось в одно и распалось надвое – прежнее время и нынешнее. Вроде бы я тогда был увлечен проектом памятника для Красной площади. Хотел увековечить двух великих людей, о которых нынешнее племя знать не знает и уж, видимо, и знать не будет да и не захочет… О патриархе Гермогене, погибшем за Русь-матушку, где бы вы думали, в кремлевском застенке. От поляков претерпел. И о сподвижнике его, архиепископе Дионисии.
– Возблагодари небо за несбывшееся, – сказал Аполлинарий.
– Чего ради? – удивился Виктор Михайлович.
– Сколько бы ты сил на памятник ухлопал, а нынче его уж и не было бы: взорвали, распилили, раскололи.
– Не посмели бы!
– Виктор, ныне уж начали поговаривать о том, не смахнуть ли храм Христа Спасителя, не фукнуть ли динамитом Василия Блаженного: Красную площадь куполами порочит.
– Если все это… произойдет, – Виктор Михайлович осунулся вдруг, и стало видно, как он стар, как он глубоко стар, их богатырь. – Не сделают… Ну а сделают – обнищают. И вот, когда с рукой пойдут по миру, – духовное нищенство телесного много страшнее! – вот когда по Руси-то зарыщут, в поисках уж не церквей, а каменья разоренного – тогда и вспомнят все… Ну, да мы с тобою, Аполлинарий, до разора не доживем… Не позволят русские люди разорить дом свой! Это ведь красота! Наша, незаемная.
– Мало ли, Виктор, красоты по белу свету изведено?! Рим, Греция, Византия – все, что мы знаем, – осколки…
– Осколки, – согласился Виктор Михайлович. – Что далеко ходить, набежавшая в Россию немчура – исконное русское благолепие до того исказила, что мы о нем до последнего даже и не ведали. Катька-немка из московских соборов повыкидывала иконостасы с Дионисием, с Рублевым. И никто не взволновался. А ведь то, древнее искусство, нашему не чета.
– Зачем вы свое принижаете, Виктор Михайлович? – не согласился с дядей виолончелист Аркадий. – Разве ваши киевские росписи не вершина духовной живописи?
– Нет, не вершина! Ах, коли бы я знал в те поры истинную русскую икону! Незнание – тоже порок. Я, расписывая Владимирский собор, по наивности думал, что возвращаю миру утерянную красоту наших предков. А на самом деле все это было измышление моего ума. Русская икона была иной. И красота ее – немеркнущая – осталась мне недоступной. Разве я так бы расписал собор, зная творения Ферапонтова монастыря? Но – дело сделано и время мое ушло… Иной раз и теперь бывает, погоржусь собой: чего скромничать? Красота собора – не феофановская, не рафаэлевская или какого иного гения Возрождения, – моя красота, васнецовская. Этого уж никуда не денешь, не спрячешь. А другой раз подумаю – страшно: махина-то вся эта великое мне наказание за великую мою гордыню.
Виктор Михайлович встал.
– Вы поиграйте еще, попойте. А мы с Аполлинарием пойдем подышим.
У крыльца в вечернем неверном свету, как соты драгоценного минерала, светилась сирень.
– Вот и вспомнишь Врубеля, – сказал Виктор Михайлович.
Они сошли по ступеням в сад и, до нежности чувствуя братскую близость, молча пошли по темной, насупившейся липовой аллее. Сели на лавочку.
– Я картину задумал, – сказал Аполлинарий. – Эта будет – последняя…
– Да, – вздохнул Виктор, – такие ужасные слова, а уже не пугаешься. Что же ты задумал?
– Вечер… Зеленый, молодой от зелени парк. Деревце, поддавшееся ветру. В движении, в жизни. Пруд. Усадьба без признаков жизни. Старик на каменной скамье. Седой, согбенный, погруженный в свое прошлое… «Баллады Шопена» – назову.
– Не красивенько ли? Аполлинарий пожал плечами.
– Все будет просто. Простота не позволит уронить искусство.
Виктор Михайлович вдруг взял брата за руку. – То, что ты говорил о Василии Блаженном, о храме Христа Спасителя… Может ли это быть?
– Может, – сказал Аполлинарий.
– Этого не будет! – яростно крикнул Виктор. – Репин, говорят, возвращается. Мы не позволим… Аполлинарий, пока мы живы, этого нельзя позволить. Тут о себе и думать даже не надо… Я-то, брат, совсем уж… не тот. Но если ты даже один останешься, не отступай.
Тихо, радуясь теплу, пели в канавах лягушки…
Аполлинарий Михайлович не отступил.
В 1929 году общество «Старая Москва», которое в одиночку боролось за сохранение исторических памятников, было распущено.
В книге «Страницы прошлого» Всеволод Аполлинариевич Васнецов приводит черновик письма, которое Аполлинарий Михайлович отправил в 1930 году в газету «Известия». Речь шла о сохранении храма Христа Спасителя.
«Этот памятник – народное достояние огромной материальной стоимости, – читаем мы в сохранившемся документе, – над которым работали более пятидесяти лет, представляет несомненную художественную ценность. На его стенах мы видим работы таких известных художников, как Суриков, Семирадский, Марков, Сорокин, Савицкий, В. Маковский, и других. Кроме того, масса скульптурных изображений, украшающих его наружные стены и бронзовые двери, также сработаны известными в то время скульпторами. Помимо того, прекрасной тщательной работы мраморная облицовка стен внутри храма стоит того, чтобы ее сохранить как техническую и художественную ценность.
Не прибегая к сносу памятника и жилых домов, для постройки Дворца имеется прекрасная местность: ближайшая часть Ленинских (Воробьевых) гор, примыкающая к городу…
Величественное здание Дворца Советов на… Воробьевской возвышенности, окруженное садами: Нескучным и огромным парком Воробьевых гор, будет отовсюду видно и еще усилит мнение о Москве как о красивейшем городе Европы».
К мудрым доводам великого знатока древней Москвы Аполлинария Михайловича Васнецова не прислушались. Уничтожение памятников старины продолжается и в наши дни.
В начале мая 192G года на выставке АХРР, где очень хорошо были представлены Архипов и Кустодиев, встретились Виктор Михайлович и Михаил Васильевич. Обрадовались друг другу и договорились написать портреты. Васнецов – Нестерова, Нестеров – Васнецова.
Они сидели, взглядывая друг на друга быстро, остро, и потом улыбались, покачивая головами. То, что они писали теперь портреты, было и прощением всех вольных, невольных обид, но ведь и состязанием. И былая молодость вскипала в их сердцах, и дело спорилось.
– Ты знаешь, что обо мне Чистяков-то говорил? – спросил Виктор Михайлович.
– Он много успел наговорить.
– Ну, обо мне так сказанул, что и через сто лет не забудут. Были, дескать, у него два ученика: Васнецов – не допекся, а Савинский – перепекся. Так что, Михаил Васильевич, коли у меня не получится – не обессудь, я из недоделанных.
В огромной мастерской было чисто, светло и тихо.
– Люблю свежевымытые полы, – сказал Нестеров.
– Племянница постаралась.
– Хорошо у тебя. Как под волшебной шапкой.
– Под какой такой шапкой?
– Ну, не знаю, под какой. Словно, говорю, заповедное царство. За стенами великая буря, а здесь ни одна вещь с места не сошла.
– Это правда, – сказал Васнецов. Он отложил кисть и палитру, подошел к картине «Сивка-Бурка». – Небось осуждаешь… Жидковато! Сам знаю, что жидковато, да написалось эдак, и никак иначе.
На большой картине было слишком много легкого пространства: небо, терем, белый конь.
– Хитрым критикам иносказание подавай! Без иносказания уже вроде бы и картина не картина.
– А разве Баба Яга твоя не иносказание?
– Да нет же… У меня все в чистом виде, Баба Яга так Баба Яга. Погляди на «Царевну-Лягушку» – эвон как лебеди-то вверху летят, танцу вторят. Хорошо ведь летят, Михаил Васильевич? А плясунья-то! Истинная царевна.
– С Царевной-Лягушкой согласен. Это картина Васнецова.
– Они все мои… Мы с Горьким хорошо на сказках душу отвели. Горький меня понял. Тут вот на диване… он усы свои поглаживал, а я бороду. До чего же сладко с иным человеком беседуется… Вот говорят – сказка, детишкам на сон грядущий. А хотя бы и так! Только из снов-то этих и является на божий свет и душа народа, и ласка его, и хитрость, и вздох по несбыточному. В сказке – вся наша жизнь, ум, совесть…
– И бессовестность.
– И бессовестность, Михаил Васильевич! Правильно. На махинку мою погляди – сказка о спящей царевне, об уснувшем царстве. Что это, нелепица? Игра фантазии, никому не нужной?
– Ну а что же все-таки?
– Не знаю.
– Как же так?!
– Так вот, Михаил Васильевич. Может, мальчик-то какой-нибудь придет к моей картине, поглядит и расколдует. Всех нас расколдует.
– Почему же мальчик?
– Принцесса ведь! Для мальчиков принцессы очень даже притягательны.
– А не та ли в сказке мысль: беспробудный сон – это оберег всего нежного и прекрасного, что есть в народе, красота про запас, ради светлых грядущих дней?
– Вот видишь? Видишь, как ты хорошо придумал! А ведь не вьюноша. Значит, и нам с тобою, людям много пожившим, сказка все-таки нужна.
Виктор Михайлович сел было, но тотчас привскочил, тыча пальцем в усача в картине «Царевна Несмеяна».
– Видишь Катара?! Сюда я его поместил, пусть тут теперь живет. Помнишь, как подкручивал свои усишки – настоящий польский круль… Ах, Вильгельм Александрович, как ты теперь живешь-можешь? Ведь и ему семьдесят пять.
– А где он? Я его совсем из виду потерял.
– В Киеве. Он так и жил в меблирашках. А дом этот всем властям нравился. И у красных там был штаб, и у белых. Белые-то и приняли старика за шпиона, чуть не кокнули. Сбежал к Эмилии Львовне, да так и остался у них. Лёля его пожалела, золотая наша девочка.
И прикусил язык. Вылетела из головы давняя история. Нестеров с Лёлей чуть было под венец не пошли, да расстроилось дело. Васнецов считал, что к лучшему.
– Ничего, Виктор Михайлович, – сказал просто Нестеров. – У меня к Лёле доброе отношение… Ты про сказки свои говорил.
– Да! Вот они семь сказок – симфония. Я для нее выбирал, Михаил Васильевич, вечные темы. Вечно будут биться богатыри со змеюгами, вечно будут летать на коврах-самолетах царевны с царевичами. Скажешь, какой он розовый сироп развел, как сладко. – Нежно погладил новый «Ковер-самолет». – А по-моему, только розово… Цвета юности, девичьи цвета. А вот он Кащей. Народ о вечности больше нашего думает. Знаешь, Михаил Васильевич, я кое-что понимать начинай в новой жизни. Сам себе сопротивляюсь, но ведь не все же у них плохо. Очень много хорошего делается. Людей вот принялись учить. Всех без разбору… Да ты скажи, отчего мы с тобою здесь, а не во франциях, не в америках, как иные, и даже не в финляндиях?
– Вот ты и скажи, отчего.
– Да, оттого, что не говны! Красными флагами не помахивали, но и русскую землю не променяли. Ей не сладко, и нам не сладко!
Нестеров любовался неистовым стариком. Патриарх: седовлас, строен, как юноша, глаза сверкают.
– Ты слушаешь, Михаил Васильевич? Мы многим недовольны, ворчим, зубами, бывает, поскрипываем, но ярмо-то пало! Народ, кровь наша, ум наш, наша судьба – скинул ярмо и трость, которая столько веков охаживала простолюдина по спине, о господскую спину – да в мочало! в мочало!
– Ты красный у нас совсем!
– Я – старый, а все же не из таких, как Костя Коровин, как… Э! Чего их поминать-то!
Михаил Васильевич стал вдруг остреньким, лицом, бородкой, глаза выпуклые и те вытянулись вопросительными знаками.
– Ну, ладно! Мы ведь о сказках говорили! Скажи, Виктор Михайлович, положа руку на сердце, а не схоронился ли ты за сказку от жизни-то?
Васнецов крякнул, набычил голову.
– Хороший вопрос, – сказал, ударяя на «о». – Хо-ро-ший. Отвечу. И отвечу вопросом же. Куда было после Владимирского собора выше? Ку-да? Купчих писать? Государственный совет? После бога-то?! Выше бога нет, ибо это мечта всечеловеческая о всечеловеческом покое для земли и неба. Выше нет! Но есть нечто, что стоит вровень. Это, брат, сказка.
Они замолчали, поглядели на свои работы и принялись за дело горячо, посапывая, стараясь, как упрямые ребята.
– Пошли чай пить, Михаил Васильевич, – сказал наконец Васнецов, не без удовольствия оглядывая свою работу.
– Домой уж пора.
– Чайку-то давай выпьем. Как знать, много ли у нас впереди дней, а то ведь и часов.
Нестеров портрет Васнецова закончил в декабре 1925 года, а вот Виктор Михайлович свою работу оставил из-за холода. Сыну Михаилу, жившему в Праге, он писал о нестеровской работе: «О сходстве я сам говорить не могу: но, говорят, похож. Написан у меня в мастерской на фоне старых икон, так что, пожалуй, можно принять за торговца стар(ыми) иконами вроде Салина».
14 июля 1926 года Нестеров сообщил С. Н. Дурылину: «Портрет с меня почти написан. Сходство, кажется, большое, но то, что поставил себе художник (написать автора „Варфоломея“ и проч.) – задача не из легких. Кто портрет видел (из близких Виктора Михайловича) – находят его удачным. Нравится он и мне… Но годы берут свое… В чем, полагаю, я не ошибаюсь, это в том, что в портрете нет ничего вульгарного, дешевого, но и то сказать, что написан он Виктором Васнецовым, написавшим „Аленушку“, „Каменный век“, создавшим алтарь Владимирского собора! Это все к чему-то обязывает и от чего-то страхует».
А 26 июля С. Н. Дурылину ушло еще одно письмо.
«Сегодня отвечаю лишь несколькими строками: 23 июля в 11 часов вечера скончался Виктор Михайлович Васнецов! Помолитесь о душе его.
Васнецова не стало. Ушел из мира огромный талант. Большая народная душа.
Не фраза – Васнецова Россия будет помнить как лучшего из своих сынов, ее любившего горячо, трогательно, нежно.
Ваше и последующее поколение ему недодало в оценке, оно его не было уже способно чувствовать.
Виктор Михайлович умер мгновенно. Еще за час до кончины он бодро говорил с бывшими у него об искусстве, о моем портрете. Причем назвал его последним своим портретом».
Нестеров, последний из великих русских художников XIX столетия, принял на себя миссию летописца. Он считал, что и завершающий акт жизни Виктора Васнецова должен дойти до потомков со всею точностью и правдой, «Вот похоронили и Васнецова! Не стало большою художника, ушел мудрый человек.
Верю я, что немного пройдет лет, как затоскует русский человек, его душа по Васнецову, как тоскует душа эта по многому и многому, чего не умела ни видеть, ни понять. Ушел из немногих, горячо любивших Россию, ее народ, умевших в образах показать ее героев, всю сложность души того странного парода.
Однако попробую передать Вам то, что видел и пережил с 24 по 26 июля. Шли обычные и необычные панихиды. Приходили малоизвестные батюшки, пели импровизированные певчие…
Ночью тихо мерцали лампады, свечи. Тишина нарушалась мерным, значительным чтением псалтыря.
В воскресенье 25-го за панихидой было очень многолюдно…
В понедельник 26-го похороны. С 9 1/2 утра у дома много народа. Сейчас вынос в церковь Андриана и Наталии. Епископ прислал отказ „по болезни“. Лития… И гроб подняли сыновья и мы – художники…
Гроб поставили перед „Распятием“ – одной из самых последних работ Виктора Михайловича, подаренной своему приходу… Прекрасный хор, певший все время песнопения старых композиторов, Бортнянского и Турчанинова. Художников мало – они разъехались на лето… День жаркий, томительный. Однако путь этот прошли незаметно…
Щусевская умелая речь над могилой от Третьяковской галереи (депутация с венком) и от Археологического общества. Затем говорил Аполлинарий и кое-кто из публики.
Земля застучала о крышку, и скоро образовался холм, покрытый множеством цветов, с крестом, тоже покрытым цветами и венками…»
В газетах и журналах напечатали некрологи. «Являясь одним из пионеров переломного периода, – писал журнал „Жизнь искусства“, – В. М. Васнецов, имея подражателей, наметил развитие индивидуализма, эстетизма, ретроспективизма в будущей живописи, занявшей довольно большое место в русской живописи. Отсюда делается понятным, почему В. М. Васнецов остался совершенно в стороне от Октября и дальнейшего развития нашего строительства и до конца дней своих жил в мире неясных исторических грез».
В том же номере журнала читаем: «До Виктора Михайловича большие русские художники чурались декорационной живописи, смотря на нее как на „невысокий род искусства“. Васнецов покончил и с этим предрассудком, увлекши на поприще декорации плеяду талантливой художественной молодежи».
«В истории русской живописи его роль (Васнецова. – В.Б.) равноценна и равнозначаща роли Пушкина: он обрел живую красоту там, где иные не видели ничего, а другие находили лишь убожество, всяческую грубость и нищету». Так писал «Вестник знания».
О смерти великого русского художника сообщили «Известия», «Красная газета», «Красная панорама»…
В 1927 году в Москве состоялась большая посмертная выставка художника Виктора Михайловича Васнецова.



![Книга История знаменитых куртизанок. Часть 2 [старая орфография] автора Анри де Кок](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-istoriya-znamenityh-kurtizanok.-chast-2-staraya-orfografiya-177959.jpg)



![Книга История знаменитых куртизанок. Часть 1 [старая орфография] автора Анри де Кок](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-istoriya-znamenityh-kurtizanok.-chast-1-staraya-orfografiya-73983.jpg)
