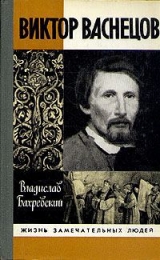
Текст книги "Виктор Васнецов"
Автор книги: Владислав Бахревский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 25 страниц)
– О поле, поле!.. Васнецов, а ты молодец! Я такой живописи не видывал… Это ближе, пожалуй, к декорации, но зато потуг не видно – сделать все, как в жизни. Это хорошо, Васнецов! Ты не берешься подменять жизнь, говоришь не от жизни, не от бога, а от самого себя… Наши высоколобые критики этого не поймут, но ты не огорчайся. Это очень хорошо. Это, может быть, ровня самому «Слову».
Он поглядел на книжицу, которую отбросил, увидел, что это «Слово», что это Мей, полистал.
Ох, ты гой-еси, земля Русская,
За холмами ты охоронилася!
Поздно… Меркнет ночь; свет-зорька закатилася.
Взгляд потух, рука опустилась, бережно положила книгу.
– Верно, Васнецов! Поздно, меркнет ночь.
– Мстислав Викторович, – помолчав, предложил Виктор Михайлович, – чай остывает…
Прахов усмехнулся, нехорошо усмехнулся.
– Я лучше вина.
– Да тут совсем мало.
– Ничего, допью. Мне и малого теперь много. Выпил остатки вина. Встал, подошел к картине, покосился на эскиз «Поймали воришку».
– Васнецов, ты плюнь на все эти жанры. Ты – вот это пиши. Попомни мое слово – вот она твоя песня! А сколько в нашей истории сюжетов преудивительных. Тех же половцев взять. Есть описание одной битвы в летописях. У половцев было большое и сильное войско, но оно вдруг побежало. Русские были изумлены, никак не могли добиться от пленных, в чем причина панического бегства, а те одно твердили: с вами в небе было еще одно войско, белое, грозное. Разве это не сюжет, Васнецов? Не для Стасова, конечно. Тому горбунов подавай, нищих, заколотых штыками… Слякоть весь этот наш мир. Я прямо дрожу от слякоти.
Он поклонился вдруг, пошел в прихожую, сунул ноги в галоши и, подхватив старенькое пальто, чуть ли не бегом выскочил из дому.
– Что это с ним? – У Александры Владимировны лицо было напуганное.
– Не знаю, – ужасно огорчился Виктор Михайлович, надо было жену успокоить: ребенка ждет, но не мог пересилить огорчения. – Господи, как же помочь вот таким людям? Ведь надо же что-то делать. Адриан-то куда смотрит?
Аполлинарий принес из мастерской так и не тронутый чай. Виктор Михайлович взял чашку, выпил.
– Давно такого чая не пробовал.
– Последний заварила, – сказала Александра Владимировна и спохватилась: – Да, что-то хотела сказать важное… От Мамонтовых утром человек приходил, зовут быть сегодня.
– День-то неприемный.
– Значит, по делу.
– Да какое же может быть дело у финансиста к художнику? – горько вырвалось.
На широкой светлой лестнице дома Мамонтовых, ведущей в жилые комнаты, сердце у Васнецова всякий раз сладко обмирало. Он чувствовал себя маленьким мальчиком перед дверьми, за которыми приготовлена рождественская елка.
Елизавета Григорьевна, в легкой шелковой шали на плечах, разливала чай. Были Неврев, Поленов, Репин, Левицкий.
– Виктор Михайлович, а мы вас заждались! – укорила хозяйка.
– Вечер хорош, пешком шел.
– Да что же хорошего? – Толстенький Левицкий даже плечами передернул. – Поземка, ветер в лицо!
– Поземка-то и хороша! – не сдался Виктор Михайлович: не скажешь ведь, что карман пуст, не то что на извозчика, на чай денег нет. – Такие затейливые колечки завивает, а снег в вечернем освещении – совершенно невинное дитя…
С благодарностью принял из рук Елизаветы Григорьевны чай и сразу прихлебнул, чтоб не пролить и чтоб изгнать из себя собачий, пронизывающий февральский холод.
– Ну, на чай опоздал – это полбеды, – сказал Репин, – песню нам за это споешь, вятскую свою. Ты на выставку отправил картину? Крамской очень беспокоится, все дотягивают до последнего срока, до самого последнего.
– Я отправил свою картину.
– «Преферанс»?
– «Преферанс».
– Хорошая работа. Может, самая мастеровитая из твоих.
– А вы сами-то отправили?
– Моя «Царевна Софья» почти готова. Осталось только поправить там да сям. Дней через пять отошлю. Не знаю вот только, на покорение ли града братца своего поедет моя Софья или на очередной позор?
– Перекреститесь, Илья! – покачала головой Елизавета Григорьевна. – Ваша картина будет центром выставки. Я думаю, что ничуть не ущемляю этим своим приговором ни Василия Дмитриевича, ни Виктора Михайловича. «Бабушкин сад» Василия Дмитриевича, его «Лето», его «Удильщики» и лиричны, и прекрасны… У Виктора Михайловича…
– Ну, что вы оправдываться взялись! – засмеялся Васнецов. – Мы принимаем это. В храме каждая икона – драгоценность, по алтарь есть алтарь. Софья – сама кровь и плоть нашей истории.
– Стасов после вашей «Софьи» на руках вас будет носить! – обещала Елизавета Григорьевна.
– Для меня все его громы и молнии – пустой звук! – рассердился Поленов. – Он столько раз демонстрировал свое дилетантство, а то и просто невежество в вопросах живописи.
– У нас, коли не кончал Академии, так уж и дилетант! – замахал руками Репин. – Мне слово Стасова очень дорого. Сам же упивался его статьями о Всемирной выставке. Да ведь как раскатал-то всех этих господ! – вскочил, потрясая над головой кулачком: – «Я обвиняю судей, судивших наше искусство на Всемирной выставке, в том, что они присудили свои награды только тем художественным произведениям нашим, где не было никакой, не только русской, но вообще какой бы то ни было национальности!»
Обессиленный упал на стул, залпом выпил чай, просиял Поленову глазами.
– Вася, друг! Ну, кто еще мог так тарарахнуть! Кто, кроме Стасова?!
И тут в столовую вошел Савва Иванович.
– Баталии в разгаре. Здравствуйте, друзья! – сел, взял у Елизаветы Григорьевны чашку. – Рад, что удалось сегодня всем собраться. А то ведь, наверное, в Петербург поедете, на открытие выставки. Да и сам я в Петербург собираюсь… Елизавета Григорьевна, по глазам вижу, не посвятила вас в нашу совместную с ней затею, которая может осуществиться только с вашей помощью… Вы все создаете не только большие полотна, которые оседают в чьих-то частных коллекциях, то есть доступны чрезвычайно ограниченному кругу людей. Но ведь у вас и рисунков много, а рисунок – это произведение самое демократическое. Печать его, во-первых, не искажает, а во-вторых, делает доступным для всего народа и для всей России, на Соловках и на Камчатке. Мы с Елизаветой Григорьевной затеиваем серию альбомов под общим названием «Рисунки русских художников».
– Савва Иванович! – Репин раскинул руки. – Ваш альбом – вот он за столом сидит.
– А сколько нужно рисунков? – спросил Васнецов.
– Рисунка по три. За качество ручаюсь. Они будут выполнены фототипией в мастерской Шерера и Набгольца. Я уже к Крамскому со своей идеей стукнулся. И он прислал работы. Я человек скорый, но целый день сегодня терпел, чтоб поглядеть присланное вместе с вами.
Быстро поднялся из-за стола, принес большой пакет и ножницы.
Репин вскрыл пакет, развязал тесемку на картонной папке. Открыл.
Все уже грудились за его спиной. Всполошенные приятной новостью, готовые прикинуть, как они будут глядеться рядом с маститым Крамским… И стало вдруг тихо. Так тихо, что Елизавета Григорьевна, наливая чай в опустевшую чашку, торопливо закрыла кран.
Рисунок назывался «Встреча войск». За окном войска, у окна дети, кормилица с младенцем на руках и плачущая вдова.
– Это он о себе, – сказал Репин.
Слова показались лишними, потому что все сразу поняли, это Крамской о себе.
Посидели еще с час, притихшие, посерьезневшие. Прикинули, кто что даст в альбом, разошлись по домам.
– Вы, пожалуйста, Виктор Михаилович, дайте мне свою «Княжескую иконописную», – попросил Васнецова Мамонтов. – Уж очень эту вещь Чистяков мне расхваливал.
– У меня ее нет.
– Сделайте повторение!
– Хорошо, Савва Иванович, попробую. Возвращался домой пешком, но радостно шел, легко, и ветер не мешал, в спину дул.
Дома Александра Владимировна встретила красными от слез глазами.
– Саша! Что?!
– От Мамонтовых слуга их приезжал.
– Да я же от них.
– Ты пешком, он на лошади.
– Так что случилось-то?!
– Мстислав Викторович, – она заплакала.
– Что?!
– Мстислав Викторович у себя в гостинице… удавился.
Сошел с колеса жизни хороший, да слабый человек. Погоревали по нем, но у жизни на бегу и радости, и горести скорые.
Мамонтов, уезжая в Петербург, заплатил Васнецову за три рисунка для альбома. Васнецов дал «Подружек», «Богатыря» и вариант «Княжеской иконописной».
Расплатились с мелкими долгами по лавкам, Крамскому двести рублей отправили, просроченный уже долг.
А тут приспели выставочные волнения.
Седьмая Передвижная выставка открылась 23 февраля в конференц-зале Академии наук.
Чтобы уничтожить успех передвижников, президент Академии художеств, великий князь Владимир, в те же самые дни в залах Академии художеств открыл шумно разрекламированную экспозицию Общества выставок художественных произведений, а чтоб уж изничтожить всепобедно и окончательно, были выставлены картины иностранцев, и среди них «Ромео и Джульетта» Макарта.
Крамского это открытое соперничество только распаляло, а вот Павел Михайлович Третьяков волновался: «Выставка открыта в пятницу, – писал он 28 февраля Ивану Николаевичу, – за все эти четыре дня, т. е. по вторник, ни в „Новом времени“, ни в „Голосе“ нет никакого объявления… Может, ваше серьезное Товарищество хочет совсем обойтись без объявлений? Но ведь нельзя же без этого: под лежачий камень и вода не течет, да, наконец, для публики Вы обязаны дать публикации. На днях мой знакомый москвич из гостиницы приказал кучеру везти себя па выставку в Академию наук. Кучер с Николаевского моста подвез прямо к Академии худ., знакомый приказывает везти дальше, но кучер говорит: „Здесь, будьте покойны, как нам не знать! Эта самая выставка и есть“, так что мой знакомый должен был осмотреть прежде Академическую выставку, и потом уже попал на Вашу. Это был Савва Ив. Мамонтов, причастный к делу искусства, ну а другой бы, может быть, и совсем не попал на Вашу выставку».
Позже объявления были даны во всех петербургских газетах, но в успехе своей выставки, в ее превосходстве над академической Крамской не сомневался нисколько. Он писал Репину: «Сегодня я, наконец, поставил Куинджи, и… все просто ахнули! То есть я Вам говорю, выставка блистательная… в первый раз я радуюсь, радуюсь всеми нервами своего существа. Вот она настоящая-то, то есть такая, какая она может быть, если мы захотим. Скажите Васнецову, что он молодец за „Преферанс“. Не знаю, общий ли тон выставки так влияет или в самом деле выставка далеко за уровень, только я хожу и любуюсь. Поленов молодец, а о Маковском (Владимире. – В. Б.) и говорить не следует – перед его картиной плачут, перед Вашей приходят в ужас».
О «Царевне Софье» у Крамского было очень высокое мнение. Он писал Стасову: «Какой Репин!! После долгих полунеудач и полуудач он, наконец, опять решительно и резко отличился. Его „Софья“ – историческая картина. Больше всех, сердечнее всех я радуюсь за Репина. Вы знаете, сколько на него было лаю, ему нужно было отмстить всем этим деревянным чурбанам, ну, и он отмстил!»
Самому Репину он писал еще более восторженно и ярко: «„Софья“ производит впечатление закрытой в железную клетку тигрицы, что совершенно отвечает истории. Браво, спасибо Вам!.. Ваша вещь где хотите была бы первою, а у нас и подавно! Вы хорошо утерли нос всяким паршивцам».
У Стасова, однако, было свое особое мнение, восторги Крамского его не смутили. «Софью» он разобрал в заключительной части своей большой статьи «Художественные выставки 1879». Статья эта была напечатана в мартовских номерах «Нового времени». Стасов отказал Репину в самом даре исторического живописца. «Для выражения Софьи, этой самой талантливой, огненной и страстной женщины Древней Руси, – продекламировал он свой приговор, – для выражения страшной драмы, над нею совершившейся, у г. Репина не было нужных элементов в его художественной натуре. Он, наверное, никогда не видал собственными глазами того душевного взрыва, который произойдет у могучей, необузданной натуры человеческой, когда вдруг все лопнуло, все обрушилось, и впереди только одна зияющая пропасть. А художник-реалист, сам не ведавший, тотчас же теряет способность создавать…»
И вдобавок обвинил в сочинительстве, под которым понимал позерство, театральщину. И это в столбом стоящей Софье.
Вот оно искусство! Один зритель видит в Софье – тигрицу, другой тоже хочет видеть тигрицу, но в этой Софье он не находит то, что ему нужно. И вот что такое критик! Приговор объявляется во всеуслышание, без сомнения в своей правоте, причина якобы неудачи после словесного витийства отыскана в самом художнике: реалисту исторический жанр заказан.
Споры спорами, а выставка и впрямь получилась выдающейся. Признал это и Павел Петрович Чистяков, он писал Репину в Москву: «Наша выставка больше Вашей и есть хорошие работы, но впечатления… не производит, много дряни, а делать нечего – надо принимать. Еще раз пойду к Вам на выставку. Шишкина ничего нету, а хотелось бы… Куинджи все так же не исчерпывает всего, но молодец. Дай ему бог и впредь так. Все пути хороши, только работай во всю мочь и от души».
У Шишкина на выставке были две небольшие работы – «Песчаный берег» и «Этюд». Чистяков воспринимал их именно как этюды – не картины.
Куинджи и Репин привлекли самую широкую публику, петербуржцы торопились не прозевать – выставка была открыта всего на шесть недель. Кстати, Куинджи, дорабатывавший свои картины, еще и задержал открытие на несколько дней.
Нежданно для устроителей приехал посмотреть картины Александр II. Он не только был внимательным зрителем, но и сделал покупку, осчастливив царственной милостью «Русалок» Константина Маковского.
Для борьбы Крамского с Академией посещение царя было очень важным. Иван Николаевич писал Третьякову: «Слышали? государь был! а ведь мы и не думали, да-с, оно, того, приятно… вытянутые лица в Академии художеств! На здоровье!!»
Третьяков восторгов Крамского не разделял, ответил на письмо тотчас: «Если бы не было К. Маковского, может, не был бы и государь! Адлербергу нужно было устроить продажу, ну вот государь и на выставке!.. Я не вижу особой благодати в борьбе с Академией, на это тоже время требуется, а его так мало. Тесный кружок лучших художников и хороших людей, трудолюбие да полнейшая свобода и независимость – вот это благодать!»
Кружок лучших подбирался великолепный, мастерство совсем еще молодых крепло на глазах. Куинджи на Седьмой выставке показал «После дождя», «Север» и «Березовую рощу», Репин «Софью», Поленов «Бабушкин сад», Крамской собирался выставить «Лунную ночь», которую сначала называл «Дедушкин сад», но из-за поленовской работы переименовал ее в «Старые тополя», в «Волшебную ночь», но картина была не совсем готова, Крамской подумывал закончить ее к показу в Москве, но тут умер его сын Ваня… Не до картин стало. На Седьмой выставке у Крамского были портреты Ф. П. Корниловой, жены Софьи Николаевны, певицы Елизаветы Лавровской…
А что же «Преферанс»?
Третьяков картину эту не приобрел, а критика ее похваливала, даже Стасову она нравилась. Вот что он написал о «Преферансе» тридцать лет спустя после выставки: «Меня привела в восхищение эта милая, комическая сценка из мира маленьких чиновников, как они серьезно ведут свое важное дело – преферанс, как иные из них тут же ведут другие важнейшие свои дела – запрокинув голову, пропускают рюмочку или же смертельно скучают, коль скоро нет бумаг перед носом, – все это было великолепно, все это было полно наблюдательности, меткости, комизма, юмора, все это ставило Васнецова в ту самую категорию, где создали такие великие вещи Перов и Влад. Маковский. И я кончил один свой отзыв о Васнецове такими словами: „Пусть, пусть г. Васнецов испытывает свое дарование на разных задачах. Должно быть, он, наконец, сыщет свою настоящую дорогу“».
Похвала? – Похвала. Но не понял великий судия ни эти картины Васнецова, которые поднял, ни картину Репина, которую утопил.
Недобрыми глазами долго, пристально, как чужой, рассматривал свое «Поле побоища» Виктор Михайлович.
– Темнее должна быть картина. Приглушеннее! – сердито поглядел на Аполлинария. – Я слева в нижнем углу начал темнить – вместо темени только грязь развел. Пришлось птицу намазать. Да и птицы не получилось – какой-то ворох перьев… Иной раз пожалеешь, что не пьяница. Там вся жизнь: трын-трава.
Бросил кисти, сел на диван, опустив голову и руки.
– Ну, кто это купит? Царю, что ли, это надо? Царю нужны победы, а здесь – поражение. Здесь наших больше лежит, чем половцев. Скажут: не любит Васнецов русских людей… В общем, еще одна пропащая картина, – опять сердито покосился на молчащего брата. – Ты-то что думаешь?
– Думаю, все очень хорошо.
– Хорошо!! – хлопнул ладонями по коленкам Виктор Михайлович. – До того хорошо, что из дома бежать хочется.
Вскочил, оделся, ушел.
– Куда он так скоро? – вышла из спаленки Александра Владимировна.
– Не знаю, – и тоже стал одеваться. – Дайте мне денег, я в лавку за хлебом схожу, картошка тоже кончилась. Надо бы в мундирах сварить. Виктор любит, когда в мундирах и чтоб рассыпчатая. С луком, с капустой да с крупной солью. Без всякого масла.
Суп сварили с пельменями. Картошку в мундирах. Капусту Аполлинарий с клюковкой купил. И соль крупную, и калачей к чаю. А старший брат не пришел обедать. Вдвоем обедали.
Аполлинарий, начитавшись Забелина, про житье-бытье старых русских цариц рассказывал, как замуж за царей выходили, во что рядились, что кушали. Умиляло: царица по дороге в Троице-Сергиев монастырь от крестьянок пироги брала, квас, отдаривая деньгами. А детишкам своим, царевичам да царевнам, на гостинец морковку покупала.
– Просто жили: с бога начинай – господом кончай, – согласилась Александра Владимировна.
– Да уж молились все триста шестьдесят пять дней в году! – Глаза Аполлинария сверкнули вызовом. – Вот и домолились до крепостного права, от которого и поныне никак не отхаркаемся.
– То не нашего ума дело, – прекратила опасный разговор Александра Владимировна.
За окном темень, а Виктора Михайловича все не было.
– Пойду за дровами, – вздохнул Аполлинарий, – пора на ночь затапливать.
Виктор Михайлович пришел, когда Александра Владимировна ужин на стол собирала. Принес сверток под мышкой. Развернул.
– Кольчуга! – Аполлинарий даже в ладоши хлопнул.
– Кольчуга! – радовался Виктор Михайлович. – Завтра ты ее примеришь, а я вот этого, на переднем плане, пропишу, а то кольчужка больше на мешковину смахивает.
Подошел к жене, бережно обнял за плечи.
– Ты уж прости дурака! Дорого взяли, но я отработаю. Я эту кольчужку в ста картинах напишу… А это тебе и твоему голубчику, что носишь.
Достал из-за пазухи два апельсина.
– Оранжевые, как солнышко!
– Обедать-то будешь?! – спросила Александра Владимировна, принимая апельсины.
– А как же! Намерзся, бегая по Москве, наголодался. Вымыл тотчас руки, сел за стол, поправляя усы, да и подскочил.
– А ведь сегодня Мамонтовы принимают… Сашенька, прости, но побегу. Савва Иванович из Питера воротился, о выставке будет рассказывать.
Шапку на голову, пальтишко на одно плечо – и бегом, бегом…
– Только мы его и видели, – сказала Александра Владимировна и подошла к зеркалу, разглядывая подурневшее от беременности лицо и трогая невесть откуда взявшуюся седую прядку над ухом.
Часы устало, нехотя пробили двенадцать. Александра Владимировна, кутаясь в шаль, сидела за столом, глядя па язычок оплывшей свечи. Перед ней белой горкой лежало заштопанное белье. Загляделась на пламя свечи, забыла снять наперсток, забыла нитку перекусить.
Аполлинарий примостился на низкой скамеечке перед открытым подтопком. Дрова сосновые, постреливали. Аполлинарию было жалко Сашу и стыдно за старшего брата. Жена беременна, а братец в гостях веселится без зазрения совести. Хотелось утешить Сашу, как-то отвлечь, но не умел, да и побаивался. Она поймет, что он ее развлекать взялся, тогда слез не миновать.
«Если он будет так себя вести, уеду!» – зло решил Аполлинарий и затолкал в подтопок огромное, толстенное полено, огонь тотчас и сник.
– Лошадь подъехала, – Саша встрепенулась, но только одними глазами. Перекусила нитку, завязала узелок, наперсток сняла.
Аполлинарий навострил слух, но лошади не слышал, и вдруг заскрипел снег, отворилась входная дверь. И вот уже пахнуло морозом из прихожей.
Аполлинарий упрямо глядел в печь, чтобы показать брату обиду. Саша тоже не поднялась, такая тяжесть вдруг на плечи ей навалилась – не вздохнуть.
Виктор Михайлович осторожно вошел в комнату, прислонился плечом к дверному косяку.
Молчали.
– Сердитесь? – спросил тихонько, чуть виновато и чуть улыбаясь.
Прошел к столу, положил на круглую филейную салфетку толстую пачку денег.
– Хозяйствуй, хозяйка.
– Виктор, ты извозчика ограбил! – Глаза Саши уже собирались в счастливые щелочки.
– Ограбишь их! Целковый содрал. И пришлось дать, никогда таких денег при себе не держал. Да и не видывал.
– А у нас краски как раз кончились, – сказал Аполлинарий.
– На краски хватит. На всё хватит. Это только задаток. Савва Иванович заказал мне сразу три картины для кабинета Правления Донецкой железной дороги. Три! А что, про что – это уж как я сам захочу! – Он сиял, лицо, глаза, руки. – Саша, Аполлинарий! Вы понимаете это, три картины по моему собственному вкусу. И деньги на жизнь.
Они смотрели на деньги, не очень-то веря своим глазам.
– Давайте чайку выпьем, – сказал просительно Виктор Михайлович. – После любых застолий – хорошо чайку попить, домашнего.
Взял свечу, быстро прошел к своей картине.
– Аполлинарий!
Аполлинарий, разводивший самовар, пришел с сапогом в руках.
– Я для Саввы Ивановича решил старую свою задумку исполнить. Напишу «Ковер-самолет». И еще мне одна сказка на ум скакнула, про трех цариц подземного царства.
– Это здорово, наверное, будет! – обрадовался Аполлинарий.
– Вот и я думаю, что здорово, – поднял свечу, разглядывая картину. – А знаешь, по-моему, все тут на месте, и цвет есть, и настроение.
– Да еще какой цвет! После твоей все картины черными покажутся.
– Не такая уж скверная штука – жизнь, но сколько же ей от нас терпения нужно. Ты помни это, брат. Не будет в тебе терпения – не будет и художника. Всем приходится терпеть, даже счастливчикам.
– Самовар поспел! – позвала Александра Владимировна, и голос у нее был счастливый.
В 1879 году Мамонтовы уехали в Абрамцево уже 23 марта – на весну. На весну света, как сказал бы Пришвин.
А для Васнецова весны и в Москве было через край. Его несло в счастливом потоке творчества. Он и привыкнуть-то никак не мог к своему нежданному счастью – писал не то, что Крамскому нравится или что заказала Водовозова, а то, что душа носила и выносила, берегла и уберегла. Впервые в жизни он имел возможность быть в картинах своих самим собою.
Он писал «После побоища Игоря Святославича с половцами», набрасывал «Ковер-самолет», начал «Три царевны подземного царства». Все это была сказка, воспрянувшая в нем, как птица Феникс. И все сходилось в одно: жена ждала первенца, а он погружался в детство свое. Чуть не каждый день вспоминались ему странники, приходившие в Рябово, их странные рассказы о райских птицах Сирине и Алконосте и его детская надежда, первая своя надежда на чудо – увидеть ковер-самолет.
Потянуло в Коломенское. Ведь это с коломенской колокольни, размахнув самодельные крылья, сиганул мужик, пожелавший для себя и других мужиков птичьей свободы. Вот и Виктор Михайлович чувствовал в себе птицу. Птицу из-под облака!
Снега горели как жар. Белые утесы, нависшие над Москвой-рекой, вобрали за долгую белую зиму столько света, что он уже но помещался в их недрах и столбами стоял, уносясь в небо легко и светло, как сама Коломенская колокольня.
Она была одновременно и земная, вечная, привет потомкам из допетровских, настоянных на дедовских медах времен, и вся небесная. Как стрела в полете.
«Мы-то себя за ученых да умелых почитаем, – думал Виктор Михайлович. – В старину-де щи лаптем хлебали, а у них вот – Коломенское. Да разве оно такое было! Теремной дворец в прошлом веке еще развалили. А он и на чертежах – стати лебединой».
И понял – «Ковер-самолет» должен быть прост, как эта колокольня: она да небо. И на картине так же вот надо сделать: небо да ковер-самолет с Иваном-царевичем и царевною. И никаких ухищрений.
Думал о ковре-самолете, а писал «Побоище». И что-то слабело в нем, какая-то опора была нужна. Но жена в себя уходила, первый ребенок – первый страх за две жизни разом, ей самой была нужна и нежность, и крепость. Брат слишком молод для откровенных бесед, Репин, обиженный Стасовым, уехал в Чугуев. Мамонтовых отрезало в Абрамцеве залихватское половодье тихой речки Вори. И тогда Васнецов пошел к Третьяковым, за музыкой пошел.
Его приняли как своего, близкого человека, да он и неприметен был. Садился в уголок у печки и слушал кипение чужих страстей, которые до слез близки, которые соединяли душу с душой всего человечества. Наполненный до краев, как заздравный кубок, он спешил из Толмачевского переулка в свой Третий Ушаковский, прозрев в очередной раз и торопясь озарить светом прозрения, светом музыки мир красок своих.
В. М. Лобанов, который так безжалостно олитературил живое слово Виктора Михайловича, его высказывание о музыке сохранил более или менее близким к подлинному:
«Я всегда хотел, чтобы в моих картинах зрители чувствовали музыку, чтобы картины для каждого звучали. Не знаю, насколько мне удалось это, но я всегда к этому стремился, считал одной из первых своих обязанностей как художник. На это в значительной мере меня натолкнула Москва, и ей я многим обязан. Когда я писал „Побоище“, я ощущал творения Баха, „Богатыри“ дышали Бетховеном, а „Снегурочка“ звучала мелодиями наших песен и музыкой Римского-Корсакова. Эти чувства и желания во мне зародили, должно быть, музыкальные вечера в Толмачевском переулке, когда я ни жив ни мертв, сидя в гостиной у печки, упивался звуками, наполнявшими комнату».
Не кистью единой написаны лучшие картины Васнецова. Они не только смотрятся, но и звучат, ибо созданы двумя стихиями – в цвете и в звуках.
Жить на одной московской земле с Мамонтовыми и месяцами не видеть их было уже немыслимым. Репин все еще был в Чугуеве, а его семья уже перебралась в Яшкин дом, специально построенный Саввой Ивановичем для художников.
Приехали Праховы из Петербурга, сняли дачу в Монрепо. Грозились нагрянуть в гости Боголюбов из Парижа и Крамской – из столицы.
Васнецовы сняли дачу в Ахтырке, в трех верстах от Абрамцева.
Этюд, подаренный Поленову, не есть ли вид с террасы этой дачи? Деревянные перила со следами давно смывшейся краски. Дерево старое, ветхое, перила узкого, длинного крыльца загуляли, одна тумба в одну сторону, другая – в другую. Но дорожка от крыльца посыпана свежим желтым песком, значит, место жилое. Слева – цветущая липа, справа кусты бересклета – тоже зацветшие. Вдали березка. Птицы, наверное, в таком месте звонкие. Людям в радость и высокая трава, и заросли кустарников, и сладкий запах липы, и лепеты березовой листвы.
Занепогодило. Июнь светил долгими зорями, не пуская ночь на порог, но дыхание видно, воздух зимний, колючий. В лесу совы охают.
Виктор Михайлович перед сном выходил из дому, чтоб, затаясь, побыть наедине с молчанием насупившихся к ночи елей, с опоздавшей на гнездо птицей, с тишиной, которую разрушает даже капля росы, неудержавшаяся на ольховом листе.
В такую вот чуткую минуту Виктор Михайлович и увидел над собой сову. Беззвучная, головастая, она походила на кудлатого лесного человечка.
«Надо нарисовать сову», – подумал он.
Сова боком, боком улетела за елку, и оттуда тотчас выпорхнула, мигая крыльями, как ресничками, летучая мышь. Он проследил суматошный ее полет, и взгляд его остановился на чистом полотне неба. Оно было медное, медленное. И по нему над черным горизонтом стлалось сизое, в белых разводах, из иных стран, из холодных, ночных, – облако.
«Господи! – подумал он. – Это ведь Родина моя!»
Холодно было, руки мерзли – в июне-то! – но сладко. Он опять вспомнил себя, рябовского, который в нем забылся совсем в городах, а это был – очень нужный для художества человек, потому что тот человек, тот мальчик знал о сокровенном больше бородатого, женатого дяди, двойника своего. Тот мальчик был частицею земли и неба, и теперь нужно вспомнить, что это такое – быть частицею земли и неба.
Ночью 9 июня ударил мороз.
Виктор Михайлович проснулся до свету от холода. Поглядел в окно: звезды полыхают, а земля… белая. Оделся, вышел на террасу: деревья по пояс в инее. «Хлеба побьет!»
Утром пошел в Абрамцево. Дома одни слуги.
– Елизавета Григорьевна с дочерьми в Киев уехала. Савва Иванович – па работе, а мальчики с Василием Дмитриевичем на реке.
С реки доносились звоны хорошо точенного топора и хорошо просушенного дерева.
Поленов вместе с мальчишками готовил флотилию к летнему плаванью. У Мамонтовых было три лодки: «Лебедь», «Рыбка», «Кулебяка». Последняя была неуклюжа, тяжела, и юные матросы с удовольствием уступали эту лодку взрослым.
– Ты что не работаешь? – спросил Васнецов Василия Дмитриевича.
– Как же это не работаю? Мы очень даже работаем. Неделю напролет, – и отдал приказ команде: – Несите сухие дрова, разводите костер, будем смолить «Кулебяку».
Ребят как ветром сдуло.
– Эх, Виктор, – сказал Поленов, улыбаясь невесело, поеживаясь от неловкости. – У Репина что ни картина, то эпоха. Ты тоже вышел на проезжую. Куинджи – нарисовал березы и весь белый свет обрадовал. А что я? Всё умею, все знаю… Отдача же самая ничтожная – бабушкин сад, московский дворик. Это так мелко. Верещагин с войны – войну привез, а себе славу трубную. Я тоже кинулся в пекло, и опять – пшик. Пишу мои военные картины, заранее их ненавидя и самого себя тоже. Лучше уж топором тюкать.
– Ледок на речке-то! – удивился Васнецов.
– Ледок. Вон как листья на кустах обвисли. Убиты морозом на взлете лета.
– Ты не прав, – сказал Васнецов. – Твой «Дворик» купил Третьяков. А этот человек не ошибается. Он пустое не купит.
– Спасибо тебе, – сказал Василий Дмитриевич. – Я и сам знаю, что это само по себе неплохо… Гордыня, видно, заедает. Хочется прикоснуться к вечности, ну а какая вечность в московском дворике? Милая штучка – и все… Приходи вечером, мы пойдем на лодках Савву Ивановича с поезда встречать.
– Да тут по реке версты три до станции!
– То-то и оно. Настоящее плаванье.
– Нет, я лучше попозже приду, когда Савва Иванович отдохнет с дороги.
Подходя к усадьбе, братья Васнецовы услышали какие-то странные удары дерева о дерево. За дубами было не видно, и шли, гадая, что это за плотницкие работы?
Да и засмеялись, как вышли к дому: дети играли в городки.
– А нам можно? – спросил Виктор Михайлович.
– Можно!
– О! Тогда и нас примите! – крикнул с крыльца Репин.
– Приехал? – обрадовался Виктор Михайлович.








