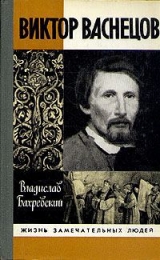
Текст книги "Виктор Васнецов"
Автор книги: Владислав Бахревский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 25 страниц)
Васнецов с дочкой Таней приехал навестить больного Алешу.
В Ялте вокруг Алеши они нашли прекрасных, отзывчивых людей. Это были и врачи Леонид Васильевич Средин, Александр Николаевич Алексин, и семья Григория Федоровича Ярцева. Все это были талантливые, умные, простые в обхождении люди. Недаром среди их друзей оказались А. П. Чехов и А. М. Горький.
Пили чай у Чехова.
– Я в детстве, в Вятке-то нашей, все корабли рисовал, – говорил Виктор Михайлович. Он сидел к морю спиной, смотрел на горы.
– А я ведь тоже обмирал по морю, – признался Алексей Максимович.
– Сейчас вы объявите, что у каждого русского душа – это место, где обитают сирены… Скажу вам сразу, я как вырос, так тотчас ушел от моря и поскорее и подальше…
– Нет, – возразил Васнецов, ему было жалко Чехова, – нет, я не о море хотел сказать. Верно, в детстве мечтал… Но вот здесь, у моря, меня в горы потянуло. Какой вид с Ай-Петри!
– Коли тянет в горы, чего же этой тяге противиться? – вкрадчиво спросил Алексей Максимович.
– Это вы о чем?
– Да о том! В горы так уж в горы! Едемте на Кавказ. И Чехова с собой прихватим.
– А я возьму, да и поеду.
– Как у Жюля Верна! – воскликнул Васнецов и встал от возбуждения.
И Горький встал, и Чехов. И оказалось, что они все трое – ровня друг другу.
– Я всюду каланча, – удивился Виктор Михайлович, – а с вами – человек и человек.
– Васнецов, друг ты наш! – сиял рыжеусой улыбкой Алексей Максимович. – Да как ты не догадаешься. Вот они – три богатыря-то. Вот они, голубчики.
– А не худоваты? – спросил серьезно Чехов, серьезно разглядывая Васнецова и Горького.
Они поехали-таки на Кавказ: Чехов, Горький, Средин, Алексин и Васнецов. Подкачала погода, но путешественники-то были какие!
Документом этой чудесной поры сохранился портрет Алексея Максимовича с дарственной надписью: «От калики перехожего М. Горького богатырю русской живописи Виктору Михайловичу Васнецову на память».
Курортная дружба не прервалась.
Осенний ветер, шастая вокруг Терема, волочил по мокрой земле тяжелые палые листья, по-медвежьи тряс деревья, ветки стучали… Глядеть и то холодно.
Но мастерская натоплена березовыми дровами, и Виктор Михайлович по-детски чувствовал себя счастливцем. Ветер страшен для бездомных стрекоз, а у него, домовитого муравья, – крепкая, правильная жизнь.
Пора было соснуть после обеда, и он лег на лавку, искоса взглядывая на «Баяна». Уж больно власы вьются! Театр… Однако ж это былина. Для былины чрезмерное – норма.
Прикрыл глаза, чтоб думы сон не развеяли, и тут па лестнице, ведущей в мастерскую, застучали торопливые шаги. Дверь отворилась, и сын Борис, сияя глазами, объявил:
– Горький приехал!
Алексей Максимович уже разделся и разглядывал изразцовую печь, лавки, шкаф.
– Вот они где, берендеи-то, живут!
– Берендеи, берендеи! – радостно согласился главный берендей.
– Откуда прелесть такая? Изразцы сказочные, шкаф – царь, лавки богатырские. Где мастерскую сыскали, Виктор Михайлович?
– Да сами все, сами, по-берендейски, по-свойски! Шкафы Аркадий Михайлович мастерит. Брата в искусствах перещеголять стесняется, вот и творит шкафы. Между прочим, он у нас, Аркадий-то Михайлович, теперь большая шишка, заместитель головы!
– Это где же?
– В Вятке, на родине.
Из соседней комнаты выглядывали молодые лица: Горький был знаменит.
– Виктор Михайлович, представьте меня берендеям.
– Татьяна! Борис! Михаил. А это наш зоолог – Володюнчик.
– Не художник, а зоолог?! Эко диво!
– Алексей Михайлович! Художник у нас – Татьяна, а зоология, между прочим, – это тоже вполне наследственное. Брат Александры Владимировны Николай – физиолог, профессор. Ее двоюродный племянник Владимир Афанасьевич Караваев – исследователь фауны Украины, Кавказа. Он и в Африке бывал, и в Азии. Так что наш Володюнчик не из рода, а в род.
Зоолог тотчас и коробку с коллекцией жуков принес.
– Какие красавцы! – восхитился Алексей Максимович. – Особенно этот – с гусарскими усами.
– Хрущ мраморный, – назвал Володя жука.
– А это небесное чудо?
– Жужелица крымская.
– И все-таки я бы выбрал этого. Настоящий изумруд!
– Навозник весенний.
Все рассмеялись, и больше других Алексей Максимович.
– Ай да изумруд! Поднялись в мастерскую.
Горький в дверях вдруг замешкался, застеснялся.
– Проходите, проходите! – пригласил Васнецов.
– Да ведь святая святых.
– Ну, то писатели творят, как рожают. У художника все его потуги и тайны совершаются на виду, на свету, а то и на людях.
Вдвоем иное гляденье.
– Дух захватывает! – сказал Горький. – Мы все носим в себе – святоотеческое: богатыри, тризны, гусляры… Но то одно лишь брожение душевное, а Васнецов потому и Васнецов, что мы отныне и богатырей своих в лицо узнаем, и земли русской святых, а вот и Баян.
– Смотрите, Алексей Максимович, захвалите!
– Да разве у нас в России умеют хвалить? Поносить умеют. А ведь похвала, если она правдива – созидательна. Видите как я, – и улыбнулся во все лицо. – Нельзя ли что-то еще посмотреть?
Виктор Михайлович повернул лицом к гостю «Гусляров».
– По заказу царя с акварели старой написал. У Цветкова пришлось акварель испрашивать. Такая наша доля. Картина за порог – и ты уже ей не хозяин.
– Творец, да не хозяин, – повторил Горький задумчиво. – Славно играют ваши гусляры. Удивительно, как я их раньше-то не знал? Такие они, гусляры! Такие вот. И уж простите великодушно, Виктор Михайлович, чем еще собираетесь порадовать? Какие замыслы одолевают?
– Хе! Замыслы! Церкви расписываю. Отбою от заказов нет…
Таня принесла поднос: фарфоровый чайник, чашки, орехи, сладости. Принесла, поставила на табурет возле дивана и ушла.
Попивая чаек, Виктор Михайлович признался-таки:
– Хочу к ненаглядным сказкам вернуться. Все заняты высоким искусством, все что-то кому-то в своих картинах доказывают, кого-то ниспровергают, уничтожают даже… А я хочу сказки сказывать.
– Сказки сказывать, – повторил Горький. – Дело немалое, Виктор Михайлович. Народ иго с себя, как медведя с горба, скидывал, Петербург строил, одолел француза, кабалу мыкал. Но ведь и сказки сказывал! Нет, Виктор Михайлович, тут вы хитрите. Не малое это дело – сказки сказывать.
– Да ведь, конечно, не малое! – согласился Виктор Михайлович. – Замахиваюсь на целую сказочную симфонию. Семь нот, семь красок – вот и картин семь.
Снова появилась Таня.
– Мама к столу просит.
«Я только что воротился из Москвы, – напишет Горький Чехову в октябре 1900 года, – где бегал целую неделю, наслаждаясь лицезрением всяческих диковинок вроде „Снегурочки“ Васнецова и „Смерти Грозного“. Все больше я люблю и уважаю этого огромного поэта. Его Баян – грандиозная вещь. А сколько у него живых, красивых, могучих сюжетов для картин! Желаю ему бессмертия».
1900-й – это еще и год Всемирной выставки в Париже. У Васнецова на выставке были если не самые большие картины, так самые превосходные. «Аленушка», «Витязь на распутье», «Битва русских с печенегами», «Гамаюн, птица вещая», «Пруд» и эскиз запрестольного образа Богоматери во Владимирском соборе. Дело в том еще, что Третьяковская галерея отказалась выдать картины из своего собрания.
Вот что писал Антокольский с выставки Василию Дмитриевичу Поленову: «Очень меня порадовало, что наша молодежь получила награды на Парижской выставке; особенно я был доволен за моих двух любимых художников – за Серова и Костю Коровина. Одно, что меня удивило, это – за что получил награду подражатель Нестеров, а не Виктор Михайлович Васнецов, который создал новое самобытное направление в искусстве; отчего дали (награду) посредственности, как Дубовской, и не дали крупному и оригинальному таланту, как Левитан?»
Да, Васнецов на выставке не прозвучал, говорили, что был плохо, невыгодно повешен, как и Левитан. Не был отмечен наградами и Поленов, и все же выставка стала триумфом русского искусства. По отделу прикладного искусства золотые медали получили: М. А. Врубель, С. И. Мамонтов (за майолики Абрамцевского завода), Е. Г. Мамонтова (за резную мебель), М. Ф. Якунчикова, М. В. Якупчикова-Вебер. Двух медалей, золотой и серебряной, удостоился А. Я. Головин. И. Е. Репин получил высшую награду вне конкурса, В. И. Суриков – серебряную медаль за картину «Взятие снежного городка», серебряной медали удостоился Аполлинарий Васнецов. Золотую медаль получил Малявин, Серов – «Гран-при», Константин Коровин собрал урожай медалей: две золотые, одну серебряную.
В этих наградах уже просматривается определенная тенденция в пересмотре оценок в мировом искусстве. Генеральным комиссаром выставки, кстати, был Альфред Пикар, а генеральным комиссаром русского отдела князь В. Н. Тенишев.
«А наши декаденты все в гору идут – вот-то притча!» – воскликнул в письме к Е. М. Бему Владимир Васильевич Стасов.
Дягилев и сотрудники «Мира искусства» ликовали. Признание па мировой арене тех художников, на которых они и делали свою ставку, развязало им руки, и они уже не церемонились со старыми признанными мастерами. Передвижничество теперь оценивалось как анахронизм, вчерашний день, безвкусица и тому подобное.
Чуть ли не в последнем письме своем Павел Михайлович Третьяков обеспокоился странностью первого номера журнала «Мир искусства».
«Ты, мой милый Сережа, разумеется, получил Дягилевский первый номер, – писал он С. С. Боткину, – а я хотя еще не получил, но видел его. Уж не знаю, кто хуже, Собко или Дягилев? Внешность хороша, но ужасно сумбурно и глупо составлено: зачем помещены снимки с Васнецова, почему с Левитана и для чего с Поленовой? С какой стати вид старого собора и проч.?.. в статьях об них не упоминается ни одним словом…»
Видимо, Дягилев бросил перед Васнецовым пробный шар, с кем будет маститый художник, столько лет считавшийся новатором в русском искусстве?
Васнецов остался с Репиным, который с обычной своей прямотой в глаза высказал «мирискусникам» правду-матку: «В ваших мудрствованиях об искусстве вы игнорируете русское, вы не признаете существования русской школы. Вы не знаете ее, как чужаки России. То ли дело болтать за европейцами: Давид, Делакруа, Болер, Зола, Рёскин, Вистлер; вечно пережевываете вы европейскую лавочку, достаточно устаревшую там и мало кому интересную у нас».
Первый прицельный удар по Васнецову нанесли сразу из пушек.
«Читал ли ты новый выпуск „Истории искусства“ Мутера, где А. Бенуа в статье о русской живописи разделывает В. Васнецова, а попутно и М. Нестерова? – спрашивал Михаил Васильевич своего друга Турыгина. – Хорошо теперь пишут истории искусств, хлестко. Лежишь, как карась на сковородке, а тебя то с того, то с другого бока поджаривают, маслица подбавляют… Для этой статьи стоило издавать и Мутера и писать о Воробьевых и о Шебуевых, и еще черт знает о ком, предвкушая удовольствие „писнуть“ на закуску о Васнецове, первому „облаять“ большую знаменитость всякому лестно. Да, брат, – или я уж стар становлюсь, или эта статья о Васнецове статья свинская».
Что же так возмутило Нестерова, причем в ту пору, когда он уже сторонился Васнецова? «Объективность» Александра Бенуа в отношении Васнецова заключается не в том, что он указал на отсутствие у того хорошей школы: «Васнецов – настоящее дитя самой безотрадной для всей истории „живописного мастерства“ эпохи 70– 80-х годов. Техника Васнецова беспомощна и полна дилетантской робости…» И не в том, что он отказал Васнецову в самой возможности создать школу. Не в грубости критических приемов, наконец: «Общее недомыслие в художественных вопросах, неподходящие для его дарования заказы, успех его самых недостойных вещей, увлечение ложными национальными идеями».
Александр Бенуа в своей статье насильственно столкнул лбами двух великих русских художников Иванова и Васнецова. Бенуа понимал не опасность влияния Иванова, творившего в мировом масштабе, на новое поколение художников. Современник Васнецов с проповедью русских корней, русских лиц, русской красоты был как гвоздь для проповедника красоты вообще. Васнецов был попросту неприятен А. Бенуа, неприятен, как тихая зубная боль. Столкнуть двух атлантов – значит уронить обоих и само состарившееся небо тоже. «В. Васнецов, еще недавно всеобщий кумир, – спокойно рассуждает А. Бенуа, – художник очень крупный и интересный, также безусловно не может считаться за настоящего продолжателя Иванова».
А почему, кстати, Васнецов должен быть продолжателем Иванова? Но не это занимает критика, лоб об лоб, искры сыплются, читатель запоминает, что Васнецов хуже Иванова, значит, это художник не первейший. Но за Васнецовым остается слава народного, стало быть, надо и эту славу отнять.
«Васнецову ставили в заслугу его происхождение из народа, – олимпийски спокойно продолжает Бенуа далеко не олимпийские по духу рассуждения, – но нам кажется, что именно в следах этого происхождения, в очевидной некультурности этого, впрочем, очень умного художника – вся причина недолговечности его искусства. Разумеется, чисто народное искусство вечно, так как это живое слово огромного и значительного общественного организма… Менее драгоценно „полукультурное“ народное искусство. И, наконец, наименее отрадны те произведения, в которых люди, вышедшие из народа, вкусившие несколько общей культуры, стараются это немногое связать с тем, что им удалось впитать во время своего первоначального воспитания. Получается искусство компромиссное, неясное…»
А теперь надо отнять Васнецова у молодежи: «Заслуга Васнецова, как пионера неоидеализма, выступившего со своими опытами тогда еще, когда все его товарищи еще молились на Прудона и Чернышевского, заслуга его очень велика. Но художественно религиозное творчество Васнецова, так кстати явившееся в царствование Александра III в период официального славянофильства, в дни известного всем „возрождения“ русского православия – творчество это далеко не той художественной важности, которой оно еще недавно считалось почти всем нашим обществом. Как-никак, но это лишь удачная пародия на выработанные каноны древнерусской и византийской иконографии, к которым Васнецов без особенного художественного такта примешал довольно легковесный пафос и сказочную эффектность».
И еще один удар напоследок, очень болезненный, но хорошо замаскированный и опять-таки с противопоставлением теперь уже не Иванову, а Левитану: «Мыслями Васнецова не только воспользовался официальный мир, увидавший в нем вожделенного истинно русского национального художника, но и все, что было свежего и молодого в русском искусстве. Елочки „Аленушки“ вместе с „Весной“ Саврасова, с пейзажными фонами Сурикова – привели нас к Левитану». И далее следует панегирик Исааку Ильичу. Противопоставили, значит, разлучили.
Оценка творчества Васнецова, поднесенная публике в такой солидной упаковке, как сама «История искусства», стала сигналом для противников. Вот опус под названием «Васнецов и японцы» некоего А. Ростиславова, напечатанный в 1905 году в журнале «Театр и искусство»: «Казалось бы странное, для многих, может быть, даже обидное сопоставление. Культ Васнецова очень велик: он все еще для многих выразитель „религиозных идеалов и верований русского народа“, „гениальный“ русский художник. С другой стороны, японская живопись, несмотря на ее общепризнанную огромную художественность, на несомненность ее крупнейшего влияния на все современное европейское искусство, многим кажется мало интересной, бессодержательной, чуть ли не примитивной. Многим кажется даже странным сравнивать вообще скромные японские „какемоно“ с нашими махинами в золотых рамах.
Увы! Заслуга Васнецова очень крупна, но и падение его, вернее, ярко теперь сказавшееся основное недоразумение его художества, также очень крупно. Васнецов дал почувствовать новую интересную область в русской живописи, дал толчок, открыл глаза русским художникам и публике, но сам остался бессилен, несмотря на всю талантливость… Не отрицаю известной декоративной „красивости“ его картин, но ведь это именно внешняя легкомысленная красивость, столь далекая от истинной декоративной красоты древней иконописи… Одним словом, что-то безвкусно-эклектическое, не цельное, поверхностное и… глубоко некультурное в художественном отношении.
И вот именно в степени этой некультурности такой крупнейший контраст с живописью японцев».
А Дягилев? Что последовало за его молчаливой публикацией картин Васнецова в «Мире искусства»?
«Первая и наибольшая заслуга Сурикова, Репина и, главное, Васнецова в том, что они не убоялись быть сами собой, – писал С. Дягилев в рецензии на выставку Виктора Михайловича. – Их отношение к Западу было вызывающе, и они первые заметили весь вред огульного восторга перед ним. Как смелые русские натуры, они вызвали Запад на бой и благодаря силе своего духа сломали прежнее оцепенение…»
Так ведь это похвала! Похвала, когда бы не была всего лишь молодецким замахом для оплеухи.
«Нельзя сказать, что Васнецов не любит Запад, – продолжает Дягилев, – но он боится его, не за себя боится, а за тех слабых, которых по его убеждению „загубит Запад“. В России долго не знали Запада, а теперь, последние годы, он лезет к нам и много непрошеного и продажного мутит наш взор. Но что же хуже? Что опаснее? Не знать или знать слишком много? Васнецов, не задумываясь, ответит: не знать…»
Вся эта модная критика своего добилась, оттеснила Васнецова от молодежи, хотя близкие по духу молодые художники и критики не оставляли Васнецова на растерзание мелкокусающейся братии, как могли защищали его.
«Сила искусства в том и заключается, что оно способно восстановить и оживить то, что угасло и поблекло, – писал П. Ге. – Ведь сумел же произвести это обновление старых преданий Пушкин в „Руслане и Людмиле“. Виктор Михайлович Васнецов в этом отношении сделал очень много для русского искусства».
«Редко с кем из художников поступала русская публика с такой непоследовательностью, как с Виктором Васнецовым, – защищал любимого мастера Николай Рерих. – Велика по своему значению для русской живописи проникновенность Васнецова в серую красоту русской природы, важно для нас создание Аленушки, и дорого мне было однажды слышать от самого В. М., что для него Аленушка – одна из самых задушевных вещей.
Именно такими задушевными вещами проторил В. Васнецов великий русский путь, которым теперь идут многие художники».
«Васнецов создал школу. Теперь это ясно», – утверждал Сергей Маковский.
«Твоя позиция насчет Виктора Васнецова правильная, – писал Нестеров Турыгину в декабре 1916 года. – Это художник – и большой. Если бы он написал только „Аленушку“, „Каменный век“ и алтарь Владимирского собора – то и этого было бы достаточно для того, чтобы занять почетную страницу в истории русского искусства. Десятки русских художников берут свое начало из национального источника – таланта Виктора Васнецова. Не чувствовать это – значит быть или нечутким вообще к русскому самобытному художеству, или хуже того – быть недобросовестным но отношению своего народа, его лучших свойств, коих выразителем и есть В. Васнецов, может быть, грешный лишь в том, что мало учился и слишком расточительно обращался со своим огромным дарованием».
Критика, ниспровергая застарелые авторитеты, что только не наговаривала на Васнецова. Но весь этот азартный водоворот словес, похожий на морские приливы и отливы, не мог поколебать вечный материк, носящий имя «Васнецов». Зрителям уже казалось, что «Богатырь на распутье» и «Три богатыря», «Аленушка» и «Иван Царевич на Сером Волке», «Три царевны», «После побоища» – были всегда, не могли не быть. Такова иллюзия классики.
Такой же всегда существовавшей стала и новая картина «Баян». Она была показана художником в 1910 году. Ее тоже лихо критиковали, а Нестеров так даже намекнул о закате художника. «В „Баяне“, быть может, впервые обнаружилось, что прежнего Васнецова мы больше не увидим». Но у новой картины нашлись и восторженные зрители. В дневнике поэта Брюсова читаем: «В Москве опять был Бунин. Заходил ко мне. Потом я был у него в каких-то странных допотопных меблированных комнатах с допотопными услужающими. Бунин только что вернулся с Михеевым от Васнецова. Восторгались оба безумно его новой картиной „Баян“». Как это ни горько, но Нестеров, углядевший в песенной, в жизнеутверждающей картине надлом художественной силы мастера, оказался прозорливцем.
«Баян» – последний завершенный холст Васнецова. Были еще «Песня о Сальгаре», «Один в поле воин», портреты Двинянинова и Успенского, этюды, наброски, симфония из семи сказок… Но прежнего Васнецова, как и предсказал Нестеров, уже не увидели.
В какие бы художник ни рядился одежки, из корысти, по малодушию, по самой невозможности выжить иначе, талант – этот природный движитель будущего – остается верен самому себе, со всей непреклонностью отгораживаясь от суеты сует. Как его ни корежь, как ни перекрашивай, он за себя стоит, обрекая хозяина на всяческие неудобства и лишения. Но ведь есть еще усталость от невероятных объемов труда. Усталость и старость. И случается, обвисают даже великие крылья, потому что сам-то человек, носитель и потребитель таланта, никогда и не желал летать – несло против воли к бурям, к солнцу.
Вот и получается, что взгляды художника на общественное развитие, политические симпатии и антипатии есть живая или мертвая вода творчества.
В революцию 1905 года два академика демонстративно сняли с себя академические звания. Во-первых, Серов, заступившийся за революционно настроенных студентов, во-вторых, Васнецов, который тех же студентов осудил. Студенты устроили митинг в залах, где размещалась персональная выставка Васнецова.
«Насильственными действиями своими г.г. ученики доказали, во-первых, полное неуважение к свободе и правам личности, а во-вторых, что, на мой взгляд, еще прискорбнее – полное и совершенное неуважение к свободному искусству, которое, очевидно, уже не составляет главнейшей их жизненной задачи и цели пребывания их в Академии. Не предъявляя ни к кому никаких обвинений по поводу такого печального положения дела, в виду общего ненормального духовного состояния нашего так называемого образованного общества и шаткости в нем нравственных основ, я тем не менее не предвижу возможности в скором будущем, чтобы учащаяся молодежь и ее руководители поняли, наконец, и по внутреннему убеждению подчинились единственно здравому принципу – что все учебные заведения предназначены только для науки и обучения, а никак не для занятий политикой, которая должна быть совершенно выведена из стен университетов, академий и прочих учебных заведений.
Так как Академия художеств есть высшее учреждение, предназначенное для развития и совершенствования искусства в России, и так как, при современном состоянии русского общества, она, очевидно, не может отвечать своему прямому назначению, то я считаю напрасным именовать себя членом учреждения, утратившего свой живой смысл».
Вот такой документ написан и подписан разгневанным Виктором Михайловичем.
Для творческого человека смысл существования в достижении вершины, которая всегда у него в будущем.
Видимо, такой вершиной была для Васнецова его сказочная симфония, но создание картин откладывалось. Заказы, заказы. Один другого ответственнее: храм в Варшаве, храм в Софии, образа для особ царской фамилии…
Приходило международное признание. То одна, то другая картина отправлялась на европейские выставки: в Италию, во Францию, в Швецию. Франция удостоила ордена Почетного легиона. От своего правительства получил генеральский чин статского советника. Духовная академия избрала в академики. Обеды у великих князей и просто князей, дружба с великими людьми.
Л мечтал о Рябове. Купил в Подмосковье небольшое имение и назвал Новым Рябовом. Здесь жили летом. Виктор Михайлович отдыхал работая. Ходил на этюды, которые в письмах к дочери называл плоховатыми. Не без насмешки над собой пускался в рассуждения: дескать, иные говорят, что чем плохие этюды писать, лучше ничего не писать, а по мне, мол, все-таки лучше плохие, чем ничего.
Это был ненавязчивый урок молодой художнице – не заноситься перед его величеством искусством. Искусство само решит, что плохо, что хорошо. Труд преодолевает неумелость, а вот душа без испытания неудачами на высокую гору может и не вознести…
Художнику нужна особая духовная прочность. Ведь его дорога в гору, а когда под гору – это уже не дорога, падение.
С февраля по март 1910 года в Историческом музее была развернута большая выставка религиозных работ Васнецова.
Не сторонился Виктор Михайлович и общественной жизни.
Участвовал в реставрации Московского Кремля. В 1913 году работал над проектом памятника патриарху Гермогену и архимандриту Дионисию. На барельефах предполагал изобразить героев 1612-го, 1613-го, 1812-го, 1380 годов. Памятник предназначался для Красной площади, и не о славе дома Романовых заботился художник, но о запечатленной красоте народного духа.
Подкрадывалась старость, только дел не убавлялось, и Васнецов все торопился, не поспевал, надрывался и не заметил, как дети выросли. Алексей учился в консерватории, Татьяна стала художницей, Михаил увлекался астрономией и математикой, Борис избрал военную стезю, но получил в мирное время тяжелое ранение. Владимир собирался на Байкал работать землеустроителем. И никто не ведал, что наступивший 1914 год – год войны.
А покуда был мир. Виктор Михайлович поехал на родину. Это было его последнее свидание с Вяткой с Рябовом.
«Там очень грустно и печально, – писал он жене, – даже план села изменился, только наш перестроенный дом да церковь остались… Сохранилась в огороде липа да рябина, я срезал на память ветки. Издали церковь и село очень навеяли старину. Места наши оказались горестнее, чем я помнил».
22 августа 1914 года пришло письмо от Ильи Ефимовича Репина.
«Могучий богатырь живописи Виктор Михайлович, – писал старый друг. – Как ты меня обрадовал. Вез колебаний, крепко держишь ты веру в свое дело и мужественно побеждаешь недоразумения. Еще недавно, в Музее А. III-го (Александра III, ныне Русский музей. – В. Б.) я с великим наслаждением провел время перед твоей картиной „Баян“.
Какая глубина в лицах! Какая психология! Воскресшая жизнь седой старины… Спасибо! Спасибо!
Но теперь только шептать можно: мир завален смертью и страданиями… Неужели кому-нибудь интересно золото?! А ведь все из-за него… Все грабежи. Будь здоров. Твой Илья».
В тот же день 22 августа Виктор Михайлович и Александра Владимировна проводили на войну сыновей, Михаила и Владимира.
Михаила направили в Одессу, и Виктор Михайлович ездил к нему. Сын командовал ротой, обучал новобранцев. Отец и сын побывали в Одесской обсерватории, и Виктор Михайлович по просьбе ее директора А. Я. Орлова сделал проект ворот для въезда.
Древние войны памятны победами. Война для современников – сплошное бедствие. Если что она и открывала, так это лазареты. Татьяна Викторовна оставила художественные занятия и пошла работать в лазарет.
Виктор Михайлович тоже поворотил к стене холсты со сказками. Хотел быть полезным стране. Оформил календарь, на котором изобразил битву Александра Невского с немцами. Написал две картины «Архангел Михаил» и «Один в поле воин». Рисовал плакаты, открытки. Сделал рисунок «Пересвет и Ослябя», начал картины «Святогор-богатырь» и «Куликовская битва».
А война все не кончалась. Под тяжестью ее кренились обветшалые своды российского царизма, да и рухнули, в пыли и прахе, в 1917-м…
Старая жизнь еще корчилась в судорогах, а новая, бушуя очистительными ливнями и грозами, уже зеленела над развалинами. Ей, этой новой жизни, искусство было дорого и необходимо. Председатель кружка любителей искусств при Московском Коммерческом училище Игорь Эммаиуилович Грабарь писал Виктору Михайловичу 11 декабря 1917 года: «На днях… был прочитан доклад на тему „Черты русской самобытности в произведениях В. М. Васнецова“… Члены кружка поручили Президиуму выразить Вам, достоуважаемый Виктор Михайлович, от имени нашей молодой организации горячий привет, чувства искреннего уважения и глубокой благодарности за все Вами содеянное во славу русского искусства».
Между тем быт становился все неустроенней. Совершенно обесценились деньги. Хлеб, продукты, дрова уже не покупались, а выменивались на вещи. Художникам совсем беда: исчезли собиратели картин. Одни бежали за рубежи революционного государства, другие были в стане его врагов, у новых же хозяев страны ни денег, ни палат.
Революция – испытание всех сил народных. Всем было трудно. Только для одних трудности – счастливейшее время великих созидательных перемен, а для других – крах жизни.
Интересное воспоминание о своем дяде оставил Всеволод Аполлинариевич Васнецов: «Уклад жизни в семье дяди был под стать его старорусскому облику и обстановке – несколько „домостроевский“. Ярких ламп не любили, и вечерами в комнатах бывало довольно мрачно. Перед тем, как сесть за стол, в строго установленное время, читалась молитва. За столом сидели молча. Молодежь должна была только есть, молчать, а закончив еду, поблагодарить и удалиться. Если кто-либо из сыновей опаздывал к столу, то, в назидание, мог остаться без обеда».
А вот о размолвке между Аполлинарием и Виктором по политическим мотивам: «Как-то раз за пасхальным столом дядя поднял бокал с красным вином и провозгласил тост за какое-то событие, незадолго перед тем происшедшее. Отец поставил свой бокал на стол и то же самое событие резко охарактеризовал как позорное для России.
Дядя назвал отца изменником и разбил свой бокал об пол».
Васнецову было за что не любить новые времена. Рухнула многолетним трудом устроенная жизнь. Был «генерал», а тут поначалу даже пайка не удостоился, этого нового «Станислава Первой степени», как выразился Нестеров. Скопленное «про черный день» шло прахом, на добывание картошки, муки, дров. Имение в Новом Рябове отняли. Совсем еще недавно он был главою клана, степенным и даже величавым, но теперь и семья распадалась. 4 мая 1918 года Виктор Михайлович писал в Киев: «Дорогая Лёля! Милая Лёля! Как Вы живете? Как Вас бог хранит? Давно ничего не знаем о Вас и не слыхали – ох, какое тяжкое время! За Мишу нашего Вам, за его приют в страшные киевские дни, великая, самая душевная, сердечная благодарность! А что с ним теперь? Ничего не знаем, посылали много писем и никакого ответа. Этому, конечно, нечего удивляться при великом хаосе, который царит у нас вовсю и сменяется владычество за владычеством, украинцы, немцы, большевики… – великая социал-пугачевщина! Ждем не дождемся вестей из Евпатории, куда из Киева переехал Миша, где у них была авиаторская школа».
При очень смутном понимании, что же это такое – Октябрь, трудно было ожидать от старого художника, гордого своей преданностью старому, скорой перемены в отношении к Советской власти. Все названные выше причины не были главными. Главной причиной неприятия новой жизни были взгляды на искусство. Высшим для себя в искусстве Васнецов почитал свою работу для церквей и соборов, теперь же церковное искусство ни во что не ставили. Более того, церкви подвергались разорению и уничтожению. Пришла весть из Владимира, где скатанные в рулоны, разорванные, размокшие, пропадали его холсты для церкви в Гусь-Хрустальном.








