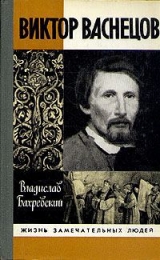
Текст книги "Виктор Васнецов"
Автор книги: Владислав Бахревский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 25 страниц)
– Ну, ты-то что?! – гладил он ее по руке, держащей листок. – Ведь не ругает… Правильные вещи говорит. Все тут правильно! Поэт-художник, а разве не поэт? Вот именно-то! Вот кто в корень смотрит – Чистяков.
И, одной рукой прижимая жену к груди, другой взял письмо и читал громко, ударяя на все сильные слова и повторяя их:
– «…русским духом пахнуло па меня, что я просто загрустил. – Загрустил! – Я, допетровский чудак, позавидовал – позавидовал! – Вам. И невольно скользнули по душе стихи Кольцова: „Аль у молодца крылья связаны“… Да, связаны! Потерпеть надо. Я бродил по городу весь день – весь день! – и потянулись вереницей картины знакомые и увидел я Русь родную мою, и тихо прошли один за другим и реки широкие – и реки широкие! – и поля бесконечные, и села с церквами российскими, и там по губерниям разнотипичный народ наш и, наконец, шапки и шляпки различные; товарищи детства, семинаристы удалые и Вы, русский по духу и смыслу – русский по духу и смыслу! – родной для меня – Саша! Саша! Родной для меня! – Спасибо душевное Вам, спасибо от подстреленного собрата, русского человека!»
Виктор Михайлович тыльной стороной руки вытер глаза.
– Господи! Как он несчастен!
– Ты читай, читай! – шепнула Александра Владимировна.
– «Шевелите меня хорошенько, авось либо и я поднатужусь, украду где-нибудь толику малую деньжат, да и опущусь и брошусь в бездну глубокую, в даль непроглядную милого и дорогого отечества, милой родины нашей!.. Ох, зарапортовался, прости, голубчик! Мне и писать некогда! Спасибо, спасибо, больше ничего!»
Виктор Михайлович снова положил письмо на стол, зашагал по комнате.
– Саша, я и не знал, что у Чистякова такое сердце! Грешен, не знал… Чистяков добрый, бессребреник, но не знал, что он учеников своих за родных в душе держит. Это ведь письмо родного человека. Павел Петрович тут много еще пишет и уж ругает, конечно, я и сам знаю: ругать есть за что. Но ведь и главное надо видеть.
«Теперь, отдохнувши, начну вторую половину, – принимался за разбор по косточкам Чистяков. – Картина не совсем сгруппирована, луна несколько велика, судя по свежести атмосферы. Следовало бы покров, чуть заметный от самого горизонта, накинуть на все; в рисунке есть недосмотры, но вообще в цвете, в характере рисунка талантливость большущая и натуральность. Фигура мужа, лежащего прямо в ракурсе, выше всей картины. Глаза его и губы глубокие думы наводят на душу. Я насквозь вижу этого человека, я его знал и живым: и ветер не смел колыхнуть его полы платья, он, умирая-то, встать хотел и глядел далеким, туманным взглядом; да и теперь глядит на нас – и пусть глядит, авось, либо по щелям расползутся от этого взгляда шакалы, мошенники, зазывающие на аукционы добрую, бедную, отзывчивую на все родное публику русскую. Замолол… теперь меня не удержишь, только бумагу подкладывай – и не стыжусь нескладицы, родной мой! Где душа пишет, там ум и красноречие не нужны. Баста!
Я писал К. Т. Солдатенкову теперь о Ваших игроках в карты. Он хочет приобрести их. Напишу ему Ваш адрес на днях. Не берите дешево и не дорожитесь. Вы все там пятеро родные мне почему-то…»
– А верещагинский аукцион и Павлу Петровичу не пришелся по душе, – сказал Виктор Михайлович. – Чтобы содрать как можно больше денег, Верещагин решил продать свою индийскую коллекцию поштучно, сумма, предложенная Третьяковым, показалась ему мала. Павел Михайлович все же купил работ семьдесят пять. Рублем, говорят, всех забил. Сколько ни предложат, а он рубль сверху. Но дорогие картины по рукам пошли, Демидов Сан-Донато купил, Базилевский, Нарышкин.
– Ну, уж это-то чего тебя волнует? – обеспокоилась Александра Владимировна.
– Как же не волноваться! Выходит, одному Третьякову больше всех нужно, каким быть русскому искусству. Ведь чтобы быть – мало создать, надо еще и не исчезнуть в трясине частных коллекций. Искусство, Саша, – одно волнение.
– Да уж вижу! – вздохнула, улыбнулась и грустно покачала головой Александра Владимировна.
А Виктор Михайлович поглядел на ее голову, и сердце у него защемило: столько седых волос! Не его ли в том вина? Ведь уж и дети пошли, а своего угла пет – вечный мытарь.
Весна ставит на крыло птицу и художника.
Виктор Михайлович, тяготевший всегда к жизни обстоятельной, оседлой, летнее гнездовье облюбовал в Ахтырке. Репин с Серовым отправились в Запорожье и далее в Крым – шел сбор материала к «Запорожцам».
Поленов из Москвы пока не думал сбегать. Его держала любовь. Но влюбиться угораздило в певицу, в красавицу. Это была Мария Николаевна Климентова. Она то принимала ухаживанья художника, то отдаляла от себя. Ее голос привораживал к ней толпу поклонников, и среди этой толпы встречались люди в генеральских мундирах… Кстати, Климентова первая и одна из самых искренних исполнительниц Татьяны в «Евгении Онегине». Искренность на сцене и в жизни не всегда совпадают. Измученный Поленов уехал в Египет и далее в Палестину, и именно в это время Мария Николаевна сделала выбор. Она стала женою известного деятеля той эпохи Муромцева. Брак был неудачным. Умерла Климентова в эмиграции. Чувство к Поленову хранила всю жизнь. Это было высокое чувство, он навсегда остался для нее Рыцарем красоты.
В ту весну 1880 года Василия Дмитриевича еще не покидали надежды, он писал Климентовой после премьеры в Большом театре «Фауста» Гуно, где она исполняла роль Маргариты: «Вчера я был на Вашем блистательном дебюте и случайно пришлось сидеть рядом с Иваном Сергеевичем Тургеневым, и вот мы вдвоем Вас судили, т. е. говорил почти все Иван Сергеевич, а я больше слушал…»
Тургенев был в Москве не как всегда, проездом. Москва готовилась к торжеству небывалому. Открывался первый памятник во славу русской словесности – Пушкину! И то, что общество доросло до мысли – признать за величайшие деяния сочинение стихов – поднимало это общество в собственных глазах и обнадеживало. Надежды были смутные, но они тревожили всех. От памятника на Тверском начиналась неведомая дорога к неведомому будущему, конечно, более прекрасному, по крайней мере, более справедливому. Памятник открыли 6 июня.
Родственник Поленовых Иван Петрович Хрущев, филолог, видный деятель министерства просвещения, писал Елене Дмитриевне в Имоченцы о Пушкинском празднике: «Мы с Васей были и па открытии монумента, и на обеде, и на заседаниях. Овации Тургеневу были беспримерны, да и речи о Пушкине хороши. Праздник был такой возвышенный, примирительный и вместе глубоко гражданский, что нельзя было не порадоваться, не отдохнуть от всех тяжелых впечатлений последних лет… Вася был пьян духом, и я рад, что вытащил его из мастерской, да и он рад».
А Васнецов? Что писал он летом 1880-го, когда Пушкин снова, в который раз, всколыхнул Россию? В мастерской в Ахтырке писалась для Саввы Ивановича «Битва русских со скифами», но душа художника была с «Аленушкой». Это самая тихая картина Васнецова, самая нежная. Он не торопился с большим холстом. Златоволосая девочка была найдена и написана, но искания не кончились. Ему недоставало глаз. Глаза ему были нужны необыкновенные. Их нельзя было выдумать, их надо было встретить в жизни.
Нынешние художники довольствуются выдумкой. Может, потому-то вечность и отворачивается от них, отдавая предпочтение старым, много искавшим мастерам.
В июле приехал в Абрамцево Поленов. Его душевный подъем на Пушкинском празднике сменился рассеянностью. Василию Дмитриевичу казалось, что его картины не выдерживают высоких мерок, пушкинских мерок.
В Абрамцеве занялся вдруг зодчеством.
Апрельское половодье на Воре на этот раз смыло плотину и принесло в дубовую рощу.
Пик половодья пришелся на конец страстной недели. Церковь была на другом берегу реки, и жители деревни все пришли к Мамонтовым, где по заведенному порядку служили заутреню.
Воря шалила второй год подряд, и Савва Иванович решил построить на территории усадьбы часовенку.
Поленов, проведший детство и юность в Имоченцах, хорошо знал и любил северное русское зодчество. Он нарисовал несколько часовен-избушек, держа в уме олонецкие оригиналы.
Рисунки Мамонтову нравились, но строить часовню не стали: мала, в такой часовне и обитатели усадьбы не поместятся. Поленов вскоре уехал в Имоченцы, и дело о строительстве отложилось на будущее.
В августе в Абрамцево явился Репин. Он привез множество этюдов к «Запорожцам», а принялся дописывать «Крестный ход». Теперь он, как на службу, каждый день отправлялся в Хотьковский монастырь, где рисовал паломников, монахов, нищих.
Видно, споры о достоинствах и недостатках пушкинского памятника навели абрамцевских мудрецов на мысль самим заняться скульптурой. Савва Иванович вылепил бюст Васнецова, Васнецов – Репина, Репин – Мамонтова. И у всех получилось. Мамонтов, впрочем, был не новичок в пластических искусствах, он брал уроки у Антокольского, Репин за скульптуру получил в Академии медаль. Ну а Васнецов в грязь лицом тоже не ударил.
Однажды Савва Иванович привез из Москвы книжку Оссиана. Читали по очереди вслух, и удачнее всего получилось у Васнецова. Он обвыкся в доме Мамонтовых и уже не помалкивал, не краснел при каждом к нему обращении. Оказалось, что этот молчун, с угловатыми от порывистости движениями мил, остроумен, смешлив и впечатлителен.
Оссиан – подделка. Заспорили о ценностях.
– Этого я не понимаю и никогда не пойму! – говорила Елизавета Григорьевна. – Почему мы ценим не произведение, а один только звук? Вот этюд на стене.
– Поленов! – подсказал Савва Иванович.
– Да, Поленов! Но, предположим, некий ученый искусствовед открыл, что это – Рафаэль! И тотчас! Именно тотчас этюд, стоивший сто рублей, будет стоить сто тысяч! Что в нем прибыло? Звук иной? Поленофф – Рафаэль. И цена этого иного звука баснословна – девяносто девять тысяч девятьсот.
– Милая! – воскликнул Савва Иванович. – Во-первых, Поленов только в начале творческого пути. И так как он создаст еще очень много картин, этюдов, рисунков, шедевров и полушедевров, то ему и платят дешевле. Он, может, и выше Рафаэля, но пока жив – дай ему, господи, много лет! – не имеет ореола исключительности.
– Разве дело в исключительности? Каждый художник – исключение. На Василии Дмитриевиче просто номерка нет, – сказала Наташа Якунчикова. – Вот как вечный покой накинет свой покров, тут искусствоведы, как вороны, и кинутся номерки раздавать. Бывает, что под грудами тел и не разглядят воистину первого. А до живых им дела нет!
Наташа была влюблена в Поленова, и ее задело за живое, что имя любимого поминалось всуе.
– Наташа, ты, как всегда, права! – согласилась Елизавета Григорьевна и обратилась к жене Васнецова. – Вы за меня или против?
– Женщина всегда держит сторону женщины.
Все засмеялись и дружно посмотрели на Васнецова.
– Ты один у нас сегодня – художник, – сказал Савва Иванович. – Рассуди!
– У Елизаветы Григорьевны складно получилось. Послушал я ее и согласился с нею. Верно – звук дороже самой вещи. Да только без «но» и тут не обошлось. Я это «по» во Франции прочувствовал. Того же Фортуни взять: каждая вещица у него светится, живет. Не художник – тысяча и одна ночь. Такого еще не бывало и, кажется, и быть больше не может! Но приходите в Салон на следующий год: пяток Фортуни увидите наверняка, а еще через год их будет пять дюжин, и даже во многом его превосходящих, без его пороков и мелких промахов.
– Виктор Михайлович, сдаюсь! – Елизавета Григорьевна подняла обе руки. – Все поняла и приняла.
Прошла неделя, про Оссиана забылось, читали в те осенние дни Пушкина. И вдруг Васнецов принес показать Елизавете Григорьевне эскиз «Песни о Сальгаре».
– Ну, нет! – запротестовала Елизавета Григорьевна. – Вы сейчас увлечетесь новой для себя темой и «Аленушку» – в угол. А у меня такие надежды на нее. Напишите «Аленушку», Виктор Михайлович. Среди всех художников, какие бывают у нас, кого по картинам знаю, я не вижу такого, кто чувствовал бы женскую душу лучше вас.
– Елизавета Григорьевна! – загорелся Васнецов. – А ведь мне повезло наконец. Я нашел глаза для Аленушки!
– Где же?
– Да за вашим столом, Елизавета Григорьевна. Когда Оссиана читали, Верушка заслушалась, пригорюнилась, а у меня дух захватило… Аленушку я не оставлю, не беспокойтесь. Она ведь даже снится мне. Два раза приснилась…
Из Ахтырки в Москву ехали уже не в Ушаковский переулок, а в Зачатьевский. Появились деньги, сняли квартиру потеплее, попросторнее. Семья снова ждала пополнения.
Все дни теперь Виктор Михайлович проводил со своей Аленушкой, страдал за свою промашку: понаписал летних этюдов, а картине нужна осень.
Сам Виктор Михайлович считал «Аленушку» большой удачей. У нее нет двойника, как у большинства васнецовских картин того периода.
1881 год начался несчастием для России. Вера Николаевна Третьякова записала в дневнике: «О горе! 28 января 1881 года в 8 ч. 40 м. вечера скончался Федор Михайлович Достовский». Смерть писателя воспринималась русскими людьми как своя, кровная утрата.
«Кисти из рук выпадали», – вспоминал об этих днях Васнецов.
Горькое письмо отправил Крамскому Павел Михайлович: «Очень больно мне было в Петербурге, что Москва мало участвовала в похоронах Ф. М. Достоевского, бранил себя, что не послал телеграмму брату (Сергей Михайлович Третьяков был московским городским головою. – В. Б.) о том, что похороны отложили до воскресенья…
На меня потеря эта произвела чрезвычайное впечатление: до сего времени, когда остаюсь один, голова в каком-то странном, непонятном для самого меня тумане, а из груди что-то вырвано; совсем какое-то необычное положение. В жизни нашей, т. е. моей и жены моей, особенно за последнее время, Достоевский имел важное значение. Я лично так благоговейно чтил его, так поклонялся ему, что даже из-за этих чувств все откладывал личное знакомство с ним, хотя повод к тому имел с 1872 года, а полгода назад даже очень был поощрен самим Ф. М.; я боялся, как бы не умалился для меня он, при более близком знакомстве; и вот теперь не могу простить себе, что сам лишил себя услыхать близко к сердцу его живое сердечное слово. Много высказано и написано, но сознают ли действительно, как велика потеря? Это, помимо великого писателя, был глубоко русский человек, пламенно чтивший свое отечество, несмотря на все его язвы. Это был не только апостол, как верно Вы его назвали, это был пророк; это был всему доброму учитель; это была наша общественная совесть».
Виктор Михайлович «Аленушку» в те горестные дни совсем другими глазами увидел. Маленькая девочка не по брату тоскует, не по судьбине своей… Она и есть судьба, она и есть Россия, чистая, любящая весь белый свет, но куда ни погляди – болотные топи! Вот и пригорюнилась. Не растерялась, не отступила, но пригорюнилась перед новым походом за счастьем, за правдой, за самой жизнью.
Зрители IX Передвижной выставки «Аленушку» сразу же и приняли, и полюбили. А вот критика в своем непонимании нового пути Васнецова упорствовала.
Стасов назвал «Аленушку» – плаксой, уродом, а художника обвинил в сентиментализме.
Даже те из критиков, кому картина нравилась, считали долгом обязательно сказать «но» и ополовинить достоинства.
«На настоящую выставку, – писал один из таких критиков, – Васнецов поставил большую картину, представляющую весьма симпатичный и глубоко прочувствованный тип деревенской девочки, которую художник назвал „Аленушка“ (дурочка)… В этом маленьком личике вы прочтете всю драму жизни, всю скорбь души, немощную, ужасную скорбь. Глядя на Аленушку, невольно проникаетесь любовью к ней – это личико так симпатично, так искренно. И как бы кто ни нападал на художника за рисунок, за письмо, но лицо Аленушки выручает все… – И далее критик спешит защитить свои похвалы с помощью ложки дегтя: – Как мастер-живописец Васнецов показал свою силу в прошлом году; в этой же картине ему, видимо, было не до живописи…»
Критика провинциальная не поднималась до каких-либо обобщений, зачастую выдавая за критику пересказ картины и свои домыслы о героине. Вот что писала, например, газета «Киевлянин»: «Безумная, забитая, загнанная на деревне Аленушка Васнецова сидит в глубоком раздумье, на камне у воды. Изорванное платье, дикий взгляд, утомленная поза, полная неподдельного отчаянья – все это вместе взятое вызывает невольно тяжелое чувство».
Нужно было время да время, целая жизнь художника, чтобы наконец пришло осознание сделанного им. Вот как И. Э. Грабарь, уже в новом столетии, оценивал непринятую критиками «После побоища» и непонятую «Аленушку».
«Картиной… „После побоища“, – писал Грабарь, – открывается эра в русском искусстве, с нее начинается длинный ряд тех страстных попыток разгадать идеал национальной красоты, которые не прекращаются до сих пор и, вероятно, долго еще будут вдохновлять художников, чувствующих свою связь с народом».
Об «Аленушке» же сказано еще более определенно: «В. М. Васнецов в 1881 г. создает свой шедевр – „Аленушку“, не то жанр, не то сказку, – обаятельную лирическую поэму о чудесной русской девушке, одну из лучших картин русской школы. В ней нет никакой композиционной усложненности и режиссерского мудрования, картина проста до последней степени, и вся она вылилась из чистого чувства».
«Аленушка» не была центром IX выставки. IX выставка – дебют и торжество Сурикова. «Утро стрелецкой казни» – это и новое имя, и новый исторический герой – народ, и небывалый взгляд на событие. Это история глазами опять-таки самого народа.
Первым, как всегда, высказался Репин в письме к Третьякову: «Картина Сурикова делает впечатление неотразимое, глубокое на всех. Все в один голос высказали готовность дать ей самое лучшее место, у всех написано па лицах, что она – паша гордость на этой выставке (хорошие люди, развитые люди, да здравствует просвещение!!!)».
Чистяков тоже был «за». Отвечая Павлу Михайловичу на его просьбу сказать правдивое слово, он писал: «Картина В. И. Сурикова очень выразительная картина, хотя в ней нет тонкости в отделке. Надеюсь, что этого недостатка лет через 7 уже почти не будет у молодых идущих теперь художников. Теперь нами заправляет публика. Что делать – времена всякие должны быть. Картина эта многим нравилась. Для меня она очень экспрессивная картина, даже до тяжеловатости. (Конечно, впечатление она производит тяжелое.) Ну, да и сюжет такой. Радуюсь, что Вы приобрели ее, и чувствую искреннее уважение к Вам и благодарность. Пора нам, русским художникам, оглянуться на себя всеми силами и пора увидеть, что мы люди и мы можем разговаривать с природой божьей и совершенствовать и развивать себя. Пора! Долой шкуру обезьяны и с богом в путь, в дорогу широкую вперед. Мало кто думает об этом. Все и вся пока подловато-трусливо поворовывают у Европы; а которые корчат русского человека – те до грубости стараются подражать тоже Европе… А теперь душевное большое спасибо Вам, благороднейший Павел Михайлович, за всех, кого Вы поддерживаете. Ведь лучше Вашей галереи нет».
Третьяков вполне заслуживал похвалы учителя русских гениев живописи. Галерея Третьякова была уже не просто отличным собранием самых лучших русских картин, она стала духовным центром русской культуры, открытой книгой о чаяньях, о горестях жизни народа и о торжестве его духа.
Кстати, подводя итог посещаемости галереи за 1881 год, Третьяков записал очень большую по тем временам цифру – 8368 человек. Для наших дней – это ручеек, ручеек, обернувшийся Волгой.
Странное дело! Критика не соглашалась с художником, оценивала его работы как проходные, как мало что значащие. В иных отзывах звучало желание не только унизить художника, но и уничтожить. Более других преуспели в травле русофилы. И. С. Аксаков в своей газете «Русь» вынес Васнецову приговор, не подлежащий пересмотру: картины – лубочные, их не спасают саженные холсты. Масляная краска потрачена зря, ибо все это не имеет с искусством ничего общего.
Художественный обозреватель этой газеты, подписавшийся «К. М.», разнес IX выставку всю скопом. Он писал: картины «Савицкого, Максимова, Клодта, Сурикова, Бодаревского, Богданова и совершенно невозможного Васнецова ниже всякой посредственности».
Если часто порют, то привыкают и к розгам. Куда больнее, когда тебя перестают понимать близкие люди, твои учителя, и вожди.
Вдруг широкая трещина пересекла отношения с Крамским. Васнецов послал на выставку несколько картин и еще «Женскую головку». Эту «Женскую головку» Крамской своею волей на выставку не поставил. Он все еще чувствовал себя учителем, тем более что ученик за картины свои удостаивался брани, и он, Крамской, с боем пробивал их на передвижные выставки. Так что, привыкнув защищать, он чувствовал за собою право и ограждать ученика от ненужных нападок. Но ученик-то был автором «После побоища», «Аленушки», «С квартиры на квартиру», «Преферанса». Птенец давно уже стал орлом и парил на той же высоте, что и учитель, а учитель этого не видел. Он все еще опекал, по доброте, по широте сердца, и нарвался на довольно-таки жесткую отповедь.
Вот что писал Васнецов Крамскому по поводу злосчастной «Женской головки»:
«Добрый и уважаемый Иван Николаевич!
Я отвечаю Вам не сейчас, а через несколько дней, и это, думаю, – Вам понятно. Ваше известие о „Женской головке“ затронуло постоянные мои, так сказать, проклятые вопросы. Не знаю, жалеть ли мне о том, что Вы не выставили картинку, никому ее не показывая и не допустив обсуждения на общем собрании. Но за Ваше доброе желание избавить меня от лишнего поругания я Вам искренно благодарен.
Вопрос для меня не в том, что Вы поступили по отношению ко мне произвольно, а в том, что, оказывается – я посылаю вещь, которую нельзя поставить па выставку, не подрывая художественного кредита Товарищества! Положение для меня чрезвычайно неловкое! Если я не ошибаюсь, у нас существует правило или по крайней мере практикуется, что каждый член Товарищества сам отвечает за выставляемые им произведения… Автор считает вещи достойными выставки, и они должны быть выставлены без всякого препятствия со стороны Товарищества. Право должно принадлежать всем без различия. Но я допускаю случаи, когда выставляемое произведение затрагивает художественную репутацию не одного только автора, но и всего Товарищества, то есть когда произведение до чрезвычайности превышает своими безобразием средний художественный уровень выставки. В таком случае я понимаю и допускаю обсуждение произведения общим собранием. Но случаи такие должны быть крайне редки, так как затрагивают положение автора как члена Товарищества и его существенные права. На мой взгляд, обсуждение произведения члена общим собранием равносильно его перебаллотировке, а в таком случае трудно допустить настолько несамолюбивого художника, который продолжал бы оставаться членом при таких условиях.
Мне думается, И. Н., что я не отличаюсь особенной нескромностью по отношению к своим произведениям, в данном же случае никак не могу примириться с мыслью, что я так жестоко ошибся, посылая свою „Женскую головку“ на Передвижную выставку…
Против уже совершившегося факта я ничего не возражаю и прошу Вас ни в коем случае не выставлять „Ж. г.“. За Ваше искреннее желание мне добра я Вас от всей души благодарю! Конечно, И. Н., Вы чувствуете и понимаете, что подобное событие заставляет меня много и серьезно вдуматься в свое положение, как члена Товарищества».
Письмо, конечно, запальчивое, несмотря на все оговорки и благодарности в адрес Крамского. Тяга к самостоятельности у художника выше благоразумности, привязанности, даже любви. Придет время, и сам Васнецов испытает ту же горечь, какую испытал Крамской, читая письмо своего ученика.
Дело действительно было не в женской головке и даже не в тех картинах, которые у Васнецова покупали Третьяков, Мамонтовы, великий князь и знаменитые коллекционеры. Дело было не столько в сделанном, сколько в задуманном. Грандиозность задуманного заносит художника на самые высокие небеса, и в это время не только неприятие, но и малейшее сомнение в его превосходных качествах вызывает взрыв самого несправедливого и попросту глупого негодования. Крамской со своим опекунством попал Васнецову под горячую руку. Это ведь приспела весна 1881 года. Памятник Пушкину окрылил, смерть Достоевского – ошеломила: гения гений от смерти не заслоняет. Вот они два крыла, которые встали незримо за спиною Васнецова, когда пришла пора весеннего перелета.
Мамонтов пригласил Васнецова па этот раз в само Абрамцево, в Яшкин дом.
Мастерская здесь была просторная, светлая. Виктор Михайлович и развернулся во всю свою молодецкую удаль. Такой холст поставил, что даже Савва Иванович ахнул:
– Уж не Полтавская ли битва здесь будет?
– Э, нет! Никаких баталий. На этой громадине будут всего три фигуры. Только три.
Он проснулся с хорошим сердцем. Неслышно встал, оделся, вышел на крыльцо.
Хоть и редко, бывает: он увидел, как нарождается, может, самый необычный день в году. Такой новый, как первый.
Стоял апрель. Самый большой скромник среди двенадцати месяцев. Столько он делает доброго для земли, для весны, для жизни, а все в смущенье. Сверкнет солнцем, прольется чуть ли не парным теплом – и вот уж опять по самые брови закутан в серенький плащ.
День и сегодня на краски не был щедрым, но Васнецов вдруг почувствовал всю великую красоту этого весеннего, серого. Мир был влажный, не мокрый, как по осени, а влажный, потому и показался новорожденным. Влажным, как листок, только что разорвавший почку, влажным, как гусенок среди обломков своего большого гусиного яйца.
Васнецов сошел с порожка и по-журавлиному, не совсем складно, долговязо, но легко пустился навстречу этому новому дню.
Он ворвался в дубовую рощу и осадил себя, как скакуна. Ну, полетел. Какого тебе чуда надо, когда вот оно, куда ни поворотись.
Старые дубовые листья поскрипывали под ногами. Дубы, растопырясь – всяк из них герой, – заслоняли грудью то, что было у них за спиною.
– Богатыри! – сказал тихонько Васнецов.
Он прошел лесом, обходя усадьбу Мамонтовых. И опять сорвался на свой бег.
Ему вдруг вспомнились Выдубецкие пещеры и то страшное лето, когда подхватил холеру. Могло бы и не быть Абрамцева…
Он прислонился спиной к дереву. Дуб был шершавый, но не грубый. Затаил дыхание, словно проверял, как было бы без него… И не поверил этому. Без него нельзя.
Вдруг тихо, счастливо заржал на конюшне совсем еще молодой жеребец. Тоже, наверное, показалось, что без него миру никак нельзя.
Васнецов улыбнулся и, улыбаясь, пошел на конюшню.
– Пошто ранехонько так? – удивился конюх.
– А вот лошадей посмотреть.
– Погляди, – согласился конюх. – На лошадей с утра поглядеть очень хорошо, да не всякому годится.
– Это почему же?
– А уж потом ни сбрехать, ни съязвить. Совестно будет. Потянешь руку к чужому, а в спину тебе словно кто смотрит.
– Ну а как же цыгане?
– А что мне про цыган думать? – осердился конюх. – Я – человек русский. Я про наше тебе говорю.
Васнецов залюбовался рыжим, сверкающим молодыми боками конем.
– Лис! – нежно сказал конюх. – Лисынька – солнышко наше. Веришь ли, барин, солнца нет, а коли Лис стоит на конюшне, то чудится, что на дворе солнце.
– Верю, – согласился Васнецов. – Только что это ты меня барином обзываешь? У меня ни кола, ни двора. Всего моего – руки да жена с детишками.
– Ну дак это к слову сказалось. Не бери себе в голову, – успокоил конюх. – Мы ж ведь тоже с глазами. Видим, как маетесь у своих картинок.
– Скажи, а нужны ли наши картинки-то?
– Ну а как же? Коли деньги дают – нужны.
– Я про другое. Тебе они нужны?
– Мне? – Конюх подергал себя за мочку уха. – Я в комнатах-то и не бываю. Я ведь тут, с лошадьми… Да погоди ты огорчаться! Больно быстро скисаешь. На пасху дочке моей Елизавета Григорьевна книжку подарила с картинками. Так ведь не оторвешь. Глядит и глядит! Я даже спрашиваю, чего глядишь? Чего нарисовано, то и есть, иного не прибудет. А она отвечает: ну и ладно, что не прибудет. Мне и так красиво.
– Спасибо, – сказал Васнецов и поклонился.
– Ты чего приходил-то?
– Да ведь поглядеть.
– Вот и тебе спасибо. Один любуешься – хорошо, а когда вдвоем – уже два хороша.
Васнецов пошел было быстро, да остановился. В углу у стены увидал огромного черного тяжеловоза.
– Ого-го!
– То-то и есть, – согласился конюх.
– А нельзя ли его днем привести к Яшкину дому? Я бы его порисовал.
– Отчего же нельзя! Хозяин скажет, что можно – приведу.
– Мне и Лис, пожалуй, будет к месту.
– И Лиса приведу. Савва Иванович скажет, и приведу.
Май еще не наступил, а уже носились в вечернем теплом воздухе майские жуки.
Городошники тоже начали сезон недели на две раньше обычного. Савва Иванович бросал биту, целясь в городки только глазами, а Виктор Михайлович обязательно выставлял перед собой палку, очень долго щурил левый глаз и потом метал тяжелую биту необычайно резко, и городки от его удара взмывали в воздух брызгами.
– Да, – сказал Савва Иванович, проиграв первую партию на три фигуры, а вторую на две. – Из тебя, Виктор Михайлович, хороший бы молотобоец вышел.
– Просто везет сегодня, – оправдывался Васнецов. – Я ведь, бывает, мажу, а нынче все в цель да в цель.
Вернулась из церкви Елизавета Григорьевна. Пошли в гостиную.
– Пора бы нам от мечтаний о церкви перейти к делу, – сказала она, занимая свое место у самовара.
– Да я уж говорил с Самариным, – откликнулся Савва Иванович, – обещал в конце мая быть и начать. Только у нас-то с вами даже проекта до сих пор нет. Поленовские часовенки хороши, но нужна церковь.
– Так в чем же дело?! – сказала Елизавета Григорьевна. – Пусть каждый возьмет лист бумаги, да и создаст проект.
Сказано – сделано. Один Виктор Михайлович почеркал, почеркал листок да скомкал.
– Дайте мне на ночь наброски Василия Дмитриевича, я свой проект завтра представлю.
Проекта еще не было, но место для будущей церкви выбрали. В глубине парка, среди огромных деревьев, неподалеку от оврага.
– А ведь тут будет хорошо! – согласился Савва Иванович. – Из-за деревьев выйдешь, и вот оно – наше чудо, лебедь белая!
Мамонтов за всякое дело брался горячо. Уже назавтра спилили несколько деревьев, к великому огорчению Елизаветы Григорьевны. Елизавета Григорьевна боялась, что вдруг церковные власти не захотят дать разрешение на постройку, тогда деревья погублены зазря. Она и в Лавру ездила, и митрополита перехватывала для беседы. Ни разрешения, ни отказа не последовало. Но архитектор Самарин уже к делу приступил, определив, какие нужны материалы и сколько. Ямы под фундамент начали копать.
На троицу 31 мая Савва Иванович записал в «Летописи»: «Вопрос о церкви сделался первенствующим. Пользуясь плохой погодой, весь день просидели за столом с чертежами и рисунками. Все соглашаются на том, чтобы выдержать в постройке стиль старых русских собориков. Церковь будет во имя Спаса Нерукотворного».








