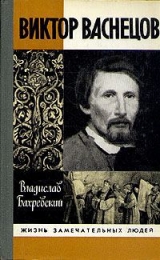
Текст книги "Виктор Васнецов"
Автор книги: Владислав Бахревский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 25 страниц)
Иное мнение у Саввы Мамонтова: «Твой царевич на волке привел меня в восторг. Я всё кругом забыл, я ушел в этот лес, я надышался этого воздуха, нанюхался этих цветов. Все это мое, родное, хорошее! Я просто ожил! Пусть говорят, что в картине много недостатков, неверностей, я не буду спорить, но пусть кто-нибудь другой так просто и непосредственно повлияет на мою душу, как твоя картина. Вот где поэзия! Молодец!..»
С Мамонтовым вполне согласилась авторитетная среди художников газета «Художественные новости».
«Такого сказочного леса до сих пор не бывало. В сказке – своя логика и своя законообразность: по таким проклятым местам можно скакать только на сером волке. Византийская красота Ивана-царевича и его суженой, смягченная эпическими чертами народной сказки, производит цельное и чрезвычайно приятное впечатление».
Итак, первое серьезное совместительство состоялось. Еще одна «детская» картина Васнецова явилась в мир, чтобы обрадовать главного и постоянного своего зрителя, о котором Васнецов специально не думал, но для которого, но сути дела, и работал всю свою огромную художественную жизнь. Этим зрителем были дети.
Так ли уж это бесспорно, что человеку на жизнь дана одна пара глаз. Так ли это бесспорно? Детские глаза много совершеннее глаз взрослого человека, они чересчур доверчивы, а потому и видят много больше: во-первых, они видят всё множество деталей, мимо которых скользит пресыщенный глаз взрослого, а во-вторых, они видят не смысл картины, до которой спешат докопаться взрослые люди, но мир картины. А это, как понимаете, совсем не одно и то же. Идея-то чаще всего испаряется, иногда до такой степени, что критики начинают приписывать картине совсем противоположные толкования. Мир картины – это не только изображенная объективная реальность, но это еще и чудесное свойство впускать в себя зрителя. Можно и с Аленушкой на сером камне посидеть, можно за витязя решить, куда ему ехать, а потом и отправиться в путь… Тут только одна закавыка: не всякому картина откроется. Взрослому наверняка – нет. Потому что для взрослого сказка – это сказка и картина – это только картина. Дети такого не понимают и не принимают. Они реалисты, и сказка для них – жизнь, и всякая картина, пусть хоть о гибнущей Помпее, – жизнь, совершающаяся сегодня.
Детская литература существует столетия, если вспомнить сказки Перро. Существует и специальная детская графика. А вот живописи для детей и сегодня нет, хотя, имея Васнецова, так уже говорить нельзя.
Детскость Васнецова – в серьезном отношении к сказке, в насыщении этого мира множеством деталей. Ведь у него не бывает героя вообще, вообще Сивки-Бурки, вообще ковра-самолета. На всякое снаряжение хоть технический паспорт выдавай. Детский зритель точность ценит превыше всего. Ему важно, что и как, а куда и почему, он сам решит.
Ну и последнее. Детские глаза умеют и любить на всю жизнь, и помнить на всю жизнь. Способность смотреть по-детски взрослый человек в конце концов утрачивает, но он никогда не утратит и не расстанется со своей преданностью детству. Он обязательно передаст кому-то любовь к художнику. Эта любовь, как колдовская сила, ее нельзя унести с собой.
Работа над «Иваном-царевичем», успех у зрителей, приобретение картины Третьяковым освежили силы Васнецова, по крайней мере, освободили от иллюзии замкнутости в четырех стенах.
Вороны – предвестники жестокой сечи, дамы – предвестники славы. Сначала это было ново: показывать, объяснять, давать подержать палитру и кисти. Потом это стало обременительно. Наконец ввели пропуска. Сторож Степан без визитки Прахова или председателя комитета никого в собор не пропускал. Молва донесла до наших дней рассказ об одном таком посещении.
Две молодые особы явились в собор с пропуском от самого генерал-губернатора Игнатьева. Повел их Васнецов и не без ехидства заставил полазить по лесам. Дамы, однако, в долгу не остались.
– Откуда вы берете все эти картинки? – спросила одна по-французски.
– Из мозгов, государыни! – по-русски ответил Васнецов.
– А мы думали, вы из «Нивы» срисовываете! – как бы само собой разумеющееся сказала дама.
Бывали у Васнецова и прямые столкновения с посетителями.
Однажды явился генерал. Шинель на красной подкладке, шаг командирский, голос громкий. Топает по собору и восклицает: «Ого! Ага!»
Художники отвлеклись от работы, смотрят сверху, кто это? А Васнецов взъярился – и вниз.
– Предъявите пропуск!
– Какой вам еще пропуск? – изумился генерал. – Я фон Роот, одесский генерал-губернатор.
– А я художник Васнецов, которому вы мешаете работать. Будьте любезны, прочтите правила для посетителей собора, обязательные для всех, независимо от их чинов и рангов.
– Я буду жаловаться на вас в Петербург! – заорал взбешенный хозяин одесского края. – Я пошлю телеграмму министру внутренних дел. Это вам не пройдет! Меня при дворе знают!
Васнецов вывел генерала и закрыл дверь на засов.
В те поры одному молодому художнику по фамилии Нестеров приснились подряд два вещих сна. Один сон – высокая до небес лестница. Поднимается он по этой лестнице до облаков… и тут пробуждение… Другой сон про картину «Видение отрока Варфоломея». Будто висит картина на почетном месте в Ивановском зале Третьяковки. Через год и впрямь увидел Нестеров своего «Варфоломея» в Ивановском зале. Что же касается лестницы, то и это сбылось: Михаил Васильевич поднялся вскоре на леса Владимирского собора, чтобы разделить труды и славу его создателей.
С праздником в душе ехал Нестеров в Киев, но и сомнений тоже было достаточно: прибавит ли его кисть к подвигу Васнецова, да что там прибавит – пригодится ли?
Михаил Васильевич умел писать не только красками. Пусть же прозвучит сейчас его светлый голос во славу дружбы двух чудных русских художников, так много давших отечественному искусству.
«Вхожу, передо мной леса, леса, леса, в промежутках то там, то здесь сверкает позолота, глядят широко раскрытыми очами лики угодников, куски дивных орнаментов.
Зрелище великолепное…
Я медленно подвигаюсь среди такой невиданной, непривычной, таинственной обстановки, подвигаюсь робко, как в заколдованном волшебном лесу. Куда-то проходят люди, запыленные, озабоченные рабочие. Тащат бревна, стучат топоры, где-то молотком бьют по камню…
Спрашиваю Васнецова. Говорят, что он на хорах, вон там, на левом крыле их. Сейчас он занят. Снизу кричат ему мое имя.
Голос сверху приглашает меня на хоры…
По лесам я иду впервые, иду робко, озираясь влево на увеличивающуюся пропасть. Перил нет, голова немного кружится, а мой спутник летит по ним сломя голову. Да и я скоро буду бегать по ним, как по паркету.
Наконец площадка, мы на хорах… И я вижу между лесов, перед огромным холстом высокую фигуру в блузе, с большой круглой палитрой в руках. Это и есть Виктор Михайлович Васнецов, тот, о ком тогда говорила уже вся художественная Россия.
Заслышав наши шаги, Виктор Михайлович оборачивается, кладет палитру на бревна, идет навстречу. Мы сердечно здороваемся, целуемся, и с этой минуты начинается наша долгая дружба; несмотря на значительную разницу лет, мы надолго, на всю жизнь, лишь с некоторыми перебоями, едва ли от нас самих зависящими, остаемся „Васнецовым и Нестеровым“».
Приглашение молодого Нестерова в собор последовало после успеха его «Пустынника» и особенно «Варфоломея». Успеха, кстати говоря, далеко не бесспорного. Но если Стасов, Суворин, Григорович и Мясоедов оказались воинственными противниками художника, то у него был и могучий сторонник, впрочем, потерянный в единочасье и навсегда.
Центром Передвижной выставки 1890 года была работа Н. Н. Ге «Что есть истина?». Однако и «Варфоломей» прозвучал. Прославленный ветеран передвижничества решил взять молодого под свое орлиное крыло, пожелал побеседовать наедине.
«Я, как очарованный, слушаю Николая Николаевича, – вспоминал Нестеров. – Его дивная дикция волнует меня… Мы все ходим, ходим. Николай Николаевич все говорит, говорит…
И я начинаю утомляться от ходьбы, от напряженного внимания к словам, не всегда понятным, „учителя“, а он, как бы угадывая мое состояние, неожиданно останавливается со мной у своей картины, у „Христа перед Пилатом“, и спрашивает мое мнение о ней… Что я скажу ему, этому славному художнику, такому ласковому со мной?.. У меня нет тех слов, кои ему нужны от меня… Солгать?.. Нет, солгать не смогу. Не могу и сказать той горькой „правды“, что думаю о картине…
А время идет, идет… Молчание мое для Николая Николаевича становится подозрительным, наконец, неприятным. И так мы простояли перед „Пилатом“ минут десять. Я нем, как рыба. Для старика все стало ясно, и он… повернулся и ушел… Он никогда не простил мне моего неумелого молчания, много раз пламенно осуждал мои картины…
Последний раз я его видел в Киеве в те дни, когда я расписывал Владимирский собор. Помню, мы сидели с Виктором Михайловичем Васнецовым на балконе на Владимирской улице. Мы отдыхали после рабочего дня, о чем-то лениво говорили, как вдруг Васнецов говорит: „Смотрите, ведь это едет Ге“.
Я обернулся и увидел Николая Николаевича, ехавшего на извозчике в сторону Софийского собора. С ним на пролетке сидел почтительно, бочком, молодой человек, по виду художник. Николай Николаевич что-то оживленно ему говорил, и нам показалось, что на наш счет, так как смотрели оба на наш балкон. Ни он нам, ни мы ему не поклонились, и этот наш поступок мы не могли забыть и простить себе всю жизнь. Вызван же он был тем, что Ге с великой враждой относился к росписи Владимирского собора».
Не все сочувствовали делу Васнецова. Далеко не все. Были у него недоброжелатели по личным мотивам. Было и принципиальное неприятие его устремлений сделать для русских людей русский храм. Имелись у него враги и среди духовенства. Один из киевских архиереев говорил, что молиться во Владимирском соборе никак нельзя, вместо святых сиволапые мужики на стенах. Влиятельный среди монашества Иоанникий сделал все, чтобы роспись Великой Лаврской церкви не досталась Васнецову.
Так что поддержка от молодого собрата была очень нужна Виктору Михайловичу. Тем более что дружбы или какой-то творческой близости с Врубелем, работавшим в соборе до Нестерова, не получилось. Врубель был моложе Васнецова всего на восемь лет, но он принадлежал, и целиком, иному художественному поколению.
Строительный комитет отверг эскизы Врубеля, хотя они были необыкновенно талантливы. Для воплощения художественных идей Врубелю был нужен свой собственный собор, которого он, конечно, не получил. Его участие во Владимирском соборе кончилось росписью орнаментов.
Комитет напугало не разностилье. В конце концов, картины Сведомского и Котарбинского рознятся между собой и совершенно не совпадают со стилистикой Васнецова. Дело было в самой сути врубелевской живописи.
Васнецов смущал киевских пастырей реализмом образов, их полнокровием и человечностью. Перед старой иконой, которая воспроизводит человека с большой степенью условности, молиться проще. Старая икона никогда не рассказывает о личности святого, она рассказывает о служении богу. Молящегося икона всячески отстраняет от жизни, ведь он даже родного пейзажа не узнает и родного города тоже. Васнецов же написал па своих иконах и картинах русских людей, русскую природу и русские города.
Система образности Врубеля была совершенно иной. Его оплакивание Христа Богоматерью – не пересказ известного всем события на свой лад, но воистину плач. В таком храме, может быть, и сами слова произносить грех, тут надо молчать, потому что говорят стены.
Обе стихии – васнецовская, эпическая, и врубелевская, обращенная к чувству, – уживаясь, создали Нестерова. Правда, в этом «тихом» искусстве нет врубелевского вселенского страдания. Здесь – своя боль, молитва за себя.
Виктор Михайлович человек был покладистый и благожелательный. В Нестерове он видел продолжателя своей стези, но и талант Врубеля был ему симпатичен. Он пытался оберегать этот талант. Прежде всего от самого Врубеля, выходки которого не понимал и не мог принять.
Да ведь и то! Однажды в соборе Михаил Александрович капнул себе на нос зеленой краской.
– Вы испачкались, – сказал ему Сведомский.
– Ах, это! – Врубель погляделся в зеркало, взял с палитры ярко-зеленую «Поль Веронез», вымазал нос и пошел в город, к Праховым.
Эмилия Львовна тоже не преминула сказать:
– Вы запачкались!
– О нет! – возразил Врубель. – Женщины красятся. Скоро будут и мужчины, в разные цвета. Смотря по характеру и темпераменту. Одним пойдет желтый цвет, другим – синий пли красный, третьим – лиловый. Мне идет зеленый.
Шалость гения? Богема? То и другое, хотя позднее в этом видели зачатки психического надлома.
Врубель в жизни был человеком неустроенным, но ему нравилось играть роль аристократа. В застольях он строго соблюдал очередность вин, он тратил деньги без счета, когда они у него были. Мог обливаться «Коти» и сидеть на одной картошке.
К сожалению, этот широкий стиль Врубель использовал и в своей работе. Ради сиюминутного желания он уничтожал свои картины с легкостью необыкновенной. Прибегает Васнецов однажды к Праховым, радостно возбужденный.
– Адриан! Какую чудесную Богоматерь написал Врубель. Ты зайди завтра в подсобку. Я думаю, такую икону надо использовать в соборе.
Утром пришли в подсобку, где художники рисовали «для себя», и ахнули: на холсте вместо Богоматери гарцевала рыжая циркачка.
– Что вы наделали? – Васнецов за голову схватился.
– Ах, это?! – Врубель ужасно смутился. – Холста не было. Но я напишу другое, лучше прежнего.
И написал Оранту. Позвал посмотреть. Васнецов ужаснулся: зубы ощерены, пальцы скрючены и похожи на когти.
– Что это?!
– Она защищается, – объяснил Врубель.
В другой раз Васнецов и Прахов, зайдя в меблированные комнаты, где жил Михаил Александрович, увидали чудесную картину «Христос в Гефсиманском саду». Правый угол картины был еще не дописан. Тотчас поехали к промышленнику и коллекционеру Терещенко. Терещенко вручил Врубелю задаток, триста рублей. Казалось, дело сделано, надо дописать угол картины, передать покупателю и получить всю сумму целиком.
И снова поверх Христа появилась все та же рыжая циркачка.
Для такого нормально живущего человека, как Васнецов, все это было дикостью, сплошным несчастьем. Конечно, появление во Владимирском соборе Нестерова, человека тоже с характером, но своего по духу, было для Васнецова подарком судьбы.
К тому времени имя Виктора Михайловича уже гремело по стране, и «похожесть» Нестерова на Васнецова воспринималась критиками как ученичество. Критика так долго об этом твердила, что в конце концов своего добилась – заколотила между двумя родственными душами ржавый железный клин.
Уже в начале 1891 года Нестеров в письме к другу вылил все свое негодование, которое, как там ни крути, падало на неповинную голову Васнецова.
«Я не могу обмануть себя и вижу яснее, чем нужно, свои силы, – писал Нестеров. – До сего дня я был и есть отклик каких-то чудных звуков, которые несутся откуда-то издалека, и я лишь ловлю их урывками… Истинный художник есть тот, кто умеет быть самим собой, возвыситься до независимости.
В недавнем письме Соловьева к Виктору Михайловичу он замечает в ободрение Васнецова, что у него есть уже последователя, и именно – „Нестеров“. Признавая гений Васнецова, колоссальное его значение в будущем, я могу лишь признать себя подражателем его относительно, в той же мере, как я подражаю Франческо Фанча, Боттичелли, Беато Анджелико, Рафаэлю, Пювис де Шаванну, Сурикову и не более, но никак не исключительно Васнецову. И последователь его я лишь потому, что начал писать после него (родился после), но формы, язык для выражения моих чувств у меня свой, и чувства эти исходят не из подражания Васнецову или кому-либо, а из обстоятельств, которые предшествовали моей художественной деятельности. Удастся ли что сделать в жизни действительно творческое – вопрос остается открытым…»
Письмо, которое мы только что цитировали, было отправлено 14 февраля. Оно – реакция на статью Владимира Соловьева. Всего тремя днями раньше Михаил Васильевич писал тому же адресату совсем иное: «Скажу Вам, что много стоит трудов Васнецову отстаивать меня перед киевским обществом, и он это делает с таким же жаром, как бы отстаивал себя самого… На этой неделе я, Хрусталев и Менк были вечером у Васнецова, и он им показывал свои эскизы („Апокалипсис“), от которых не только они, но и я, видевший их десять раз, потеряли совсем голову – это гениально!»
Радость, что он, Нестеров, работает рядом с таким человеком, как Васнецов, совершенно открытая, восторг перед творчеством старшего товарища – безоговорочный.
Вот как может повернуть отношения между людьми одна статья, вроде бы доброжелательная.
Что касается «Апокалипсиса», то – гениальное для Владимирского собора, как мы уже говорили, не годилось, – не только смутьяну Врубелю дали от ворот поворот, по и степенному Васнецову тоже. Пришлось Виктору Михайловичу сочинять иные композиции.
Разумеется, Соловьев не ставил себе целью поссорить художников, отвадить Нестерова от Васнецова. Да и никто другой столь коварной задачей не задавался. Одни попросту чесали себе языки, а другие не позаботились унять говорунов, тем более что особые отношения между знаменитыми людьми – пища для всеми желанных захватывающих сплетен.
После успеха «Пострига», картины, которую купил царь и за которую Михаил Васильевич удостоился звания академика, заговорили о том, что Васнецов весь в прошлом и будущее за Нестеровым. И вот уже Нестеров пишет своему другу, что Васнецов принял весть о покупке его картин без удовольствия и утешается только тем, что он, Нестеров, «продешевил».
Возможно, так оно и было: и весть принял без удовольствия, и позлорадствовал финансовой нераспорядительности молодого друга. Приятно ли, когда на тебе, признанном мастере, далеко еще не старике – пятидесяти нет! – публично ставят крест, а имя твоего младшего товарища и ведь действительно ученика – нарочито пишут впереди твоего. И разве твоему духовному ученику, давно уже сложившемуся художнику, не обидно читать о себе как об эпигоне знаменитости?
Интрига банальная, всем известная, но срабатывающая вновь и вновь и всегда наверняка. Сплетники явного скандала и явного разрыва – не дождались, но художников развели на годы. А ведь Михаил Васильевич любил и талант Васнецова, и человека Васнецова.
Сколь ни грандиозна бывает работа, если ее делают, то и дело в конце концов приходит к концу.
«В моем Киевском сидении совершился очень серьезный факт: в алтаре сняли леса, – отчитался Васнецов Елизавете Григорьевне в августе 1890 года. – Можете представить, что это значит для меня. До сих пор я мог видеть только, как моя страшная работа еще страшней разрастается и разрастается… Временами чувствовалось, что даже и силы не хватит на продолжение. И вдруг вижу воочию, что больше трети работы уже совершившееся дело, уже часть этой горы за спиной, уже тяжкие муки выполнения идеи пережиты. Одного сознания, что дело уже сделано, достаточно для награды за тяжелый труд. Как сделано, не мне судить, довольно того, что я свой долг исполнил „еже писах-писах“. Альфа моего громадного – теперь это вижу – труда написана, помоги Бог написать в нем неуклонно и Омегу».
Он пришел в собор в воскресенье, когда не работали. Дверь была не заперта.
– Посетители, что ли? – испугался Виктор Михайлович.
– Посетителей-то нет, – как-то очень неуверенно ответил сторож Степан, и Васнецов догадался: видно, старик хватил чарочку ради праздника.
– Ты не пускай никого.
Художник вправе побыть наедине со своим творением.
Ступая по облаку, как по тверди, шла вечно молодая женщина, прекрасная в материнстве. Ее мальчик рванулся навстречу пришедшим в их дом, всплеснул ручонками, и в одной из них – цветок, он так резво рванулся, что мать невольно прижала дитя к груди. Ребенок прекрасен, за спиной ясное золото неба, но в глазах матери нет радости. Она знает наперед, кто ее сын и какая доля ожидает его. Сияют, как солнце, нимбы, в движениях матери спокойствие. Высший суд, высшая правда, высшее счастье – на их стороне, на стороне ее сына. Широкие всплески крыл осеняют их вечный путь к людям, какие бы они ни были, эти люди.
Он поднял и поднес к лицу своему ладони.
– Вот ведь!
И было непонятно, как это могло совершиться. Чем его руки, сделавшие это, лучше иных?
– Четырнадцать метров тридцать сантиметров! – сказал он и даже глаза сощурил, чтобы отметить на полу четырнадцать метров с гаком.
И опять смотрел на идущую по облакам. Шевельнулась странная мысль: «А могу ли я молиться на дело рук своих?» Ему неприятна была эта мысль – наверняка навеяна окаянным, – он даже зажмурился, а потом опять смотрел, смотрел, и женщина с младенцем шла к нему по облакам, и в глазах ее стояла собранная с поля человеческого человеческая боль. Вся-то хитрая хитрость была для нее проста, а простое было светом для глаз ее.
– Какой уж тут Рафаэль!
Иные ретивные уже в с Рафаэлем поспешили сравнить его Богоматерь, даже Нестеров туда же – Рафаэль. Пришлось вразумить молодого: «Кукольник тоже думал о себе, что он – Пушкин. Да так Кукольником и остался». Молодому такое полезно услышать, придет время, тоже павлиньи-то перышки распустит.
– Нет, это не Рафаэль. Это – Васнецов, мальчонка из Рябова. Господи! Как же это у тебя такое бывает?! Из Рябова, да в Киев, да сюда вот, в божий дом…
Он вышел из собора и увидел, что у Степана вопрос в глазах.
– Посмотрел, – сказал он ему.
– Я вот тоже часами гляжу, – признался сторож. – Загляденье.
– Спасибо.
– Да за что ж мне-то?
– За то, что глядишь.
– Ах, Виктор Михайлович! Я и на тебя теперь гляжу… Вроде человек как человек, тихий… Нет, не сумею сказать.
– Ну и ладно. Хорошо помолчать тоже хорошо.
Виктор Михайлович надел картуз и тотчас сиял, прощаясь со Степаном. Пошел вверх по улице, по золотой дорожке, выстланной осенью.
И что-то ему все казалось – глядят на него или вроде бы кто-то идет след в след. Он не любил оглядываться, но тут не утерпел, остановился, повернулся – никого! И увидел: на другой стороне улицы приостановилась в смущении и нерешительности… Александра Владимировна. Удивился, перешел к ней, посмотрел в лицо и все понял.
– Ты в соборе была.
– Была… Поглядеть ходила. Одной поглядеть хотелось.
– Вот оно какое наше счастье, Саша. Бог и тут нас соединил.
– Лицо у тебя было… Как у мальчика.
Они засмеялись и пошли рука об руку, два хороших человека, давно уже не умевших жить друг без друга.
Проездом через Киев явился в собор старик Неврев. Поглядел росписи, растрогался, расплакался, расцеловал творца.
А вечером Виктор Михайлович жаловался жене:
– Ты знаешь, Саша! Все эти похвалы, которые теперь на меня сыплются – от лукавого! Я сегодня Евфросинью писал. Пишу, а дьявол под руку толкает – ах как у тебя красиво! Как чудно! Никто так не может!.. Бросил кисти, ушел на Днепр… В Москву надо возвращаться. Без Москвы я погиб.
Лекарство от самовлюбленности явилось нежданное и страшное. За годы привыкнув на лесах держаться за воздух, отступил, чтобы поглядеть на мазок со стороны, а перил на лесах не было – и полетел.
– Васнецов разбился!
Послушали – дышит, потрогали – вроде не стонет, но без памяти. Отвезли домой – и за хирургом. Оглядел, ощупал – кости целы. Приказал полежать, дал успокоительное. Обошлось.
В Москву Васнецовы переехали летом 1891 года. Поселились в Абрамцеве, а осенью сняли квартиру в Демидовском переулке.
Через год Виктор Михайлович перевез из Киева «Трех богатырей».
Однако Владимирский собор не отпускал от себя. В начале 1892 года художник был занят окончанием трех потолков, тема – «Единородный сын». На работы ушла зима и весь март. Осенью снова был в Киеве, написал «Крещение Руси» и начал «Страшный суд».
Из мирских картин за это время было создано мало. Летом 91-го года повторил, несколько изменив, композицию «Трех царевен». Картину приобрел и увез в Киев Е. М. Терещенко.
В 1889-м – написал портрет Бориса, в 1892-м – Михаила, сыновей своих. В 1894-м – сочный, прекрасно проработанный и, главное, ничуть не потерявший от завершенности в трепетности и даже восторженности портрет Лёли Праховой.
Было еще повторение старого рисунка «На льдине», созданы иллюстрации к «Песне про купца Калашникова» для собрания сочинений Лермонтова, издаваемого Кушнеревым.
Огромная вдохновенная работа приносит творцу прежде всего огромную опустошенность. Не потому, что все отдано, а потому что после многолетней сосредоточенности на одном художник вновь оказывается лицом к лицу с хаосом беспрестанно меняющегося, кипящего, клокочущего пространства, которое есть жизнь. Эту жизнь, распыленную, никак не организованную, бессмысленную, предстоит по крохам собрать в себе и начать, в который раз, еще один акт творения. Человек самолюбив, его новый шедевр по логике творчества обязан превзойти предыдущий, а если это Владимирский собор? Так возникает жалоба души, и надо, чтоб кто-то выслушал эту жалобу. Поверенным в душевных радостях и невзгодах Виктора Михайловича была Елизавета Григорьевна Мамонтова. «Не тянет как-то особенно заглядывать в текущую мою жизнь, – писал он ей. – Болеют все инфлюэнцией, голод… (1891-й – в России голод. – В. Б.)… все это настраивает на печальный лад. Люди тоже не интересуют – сам людей не разрисовываешь, как бывало прежде, разными интересными красками. И как бы человек ни маскировался и ни загримировывался, а суть его видна насквозь, и видишь, по какому шаблону скроен человек, и – ах, как редко промелькнет кой-где живая искорка… и скучно донельзя станет. А в свою душу поглубже заглянешь, так и того меньше утешения… а любить людей все-таки нужно. Нам дано для любви и утешения искусство, только тогда и живешь во всю полноту, когда им увлекаешься, ну а когда устанешь – то плохо».
А между тем признание начинало оборачиваться милостями и чинами. В 1893 году избрали академиком Академии художеств. Предложили руководство мастерской религиозной живописи, которая была бы отделением Петербургской Академии, а помещалась, как того желал Васнецов, в Москве.
Дал согласие сгоряча, быстро опомнился, подал в отставку, которую у него приняли.
Педагога из Виктора Михайловича не получилось. Его педагогика – его картины. В те годы, пожалуй, не было в России другого художника, кто оказал бы более сильное влияние на отечественную живопись. Началось с насмешек, Нестеров вспоминал, как на выставках в Москве учащиеся Московского училища живописи, ваяния и зодчества изощрялись в острословии перед картинами Васнецова. Но уже очень скоро у самого Нестерова неприятие перешло в восторженную любовь. Не все торопились идти тем же путем, но глаза открылись у всех: оказывается, в искусстве можно говорить своим языком, «своими» красками, видеть мир не так, как требуют каноны, но как видят твои глаза, твой ум, твое сердце.
Отказавшись от мастерской, Васнецов, однако, не только имел особое мнение о системе художественной выучки, но и старался проводить свои педагогические идеи в жизнь.
Приняв в 1892 году участие в обсуждении нового устава Академии, он писал ее конференц-секретарю графу И. И. Толстому: «Императорская Академия художеств в настоящее время призвана занимать первенствующее место в деле развития Русского искусства и служить по-прежнему центром, привлекающим молодые художественные силы со всех концов обширной России. Свободная художественная и художественно-образовательная деятельность отдельных лучших мастеров и деятельность других подобных школ (в Москве, Киеве, Одессе) едва ли могут вполне заменить ее…»
Но уже через несколько строк выясняется, что «первенствующее место» за Академией Васнецов признает теоретически и главным образом потому, что в Петербурге Эрмитаж, есть возможность учиться у старых великих мастеров. «Выходя из такого взгляда на значение и задачи Академии художеств, – пишет он, – естественно задумываешься о том, насколько она выполняет эти задачи или при каких возможных условиях она могла бы их выполнять. Уже самое обращение к мнениям художников указывает, с одной стороны, что современная постановка дела в Академии не отвечает своей цели, а с другой – указывает на искреннее желание со стороны стоящих во главе управления повести дело возможно правильнее».
Исходя из своего горького опыта, Васнецов усовершенствование академического образования видит прежде всего в вопросе «о преподавателях, как самого существенного, дающего смысл всему делу». Думается, сам подбор слов здесь не случаен. И хотя у Васнецова есть идеал «профессора-преподавателя» – это Чистяков, но значит, и бессмыслицы в преподавании было немало, коли приходится говорить о смысле.
«Второй существенный вопрос для Академии художеств (и, разумеется, для Васнецова. – В. Б.) – составляет поступление учеников, т. е. какая должна быть подготовка учеников в художественном и научном отношении».
Требование среднеобразовательного ценза некогда закрыло академические двери перед родным братом Васнецова, перед талантливым Аполлинарием. Да и сам Виктор Михайлович не закончил курса из-за «хвостов» по общеобразовательным дисциплинам.
Выходец из малоимущих, товарищ Максимова и Куинджи – крестьянина и пастуха, – он за демократическую Академию: «Значительное большинство талантливых русских художников выходит из среды незажиточной и из простых классов. Некоторые из них едва могут достигнуть возможности пробраться в Петербург, и редкие из них на родине в состоянии получить образование в средних учебных заведениях как по недостатку средств, так и по страстному стремлению заниматься исключительно искусством в ущерб образованию…»
Академия – живой деятельный организм, и так как годы ее перевалили во времена Васнецова за столетие, то, естественно, что-то в ее методе устаревало, ветшало, требовало перемен. Перемены эти происходили. Профессорами Академии стали Репин, Куинджи, Серов…
Проблемы выбора целей, жизненных и художественных, вставали и перед Васнецовым. Работы в соборе заканчивались, от преподавательской деятельности отказался, а что дальше?
Прахов, думая о дальнейшей судьбе художника и тревожась, советовал ехать в Италию за новыми художественными впечатлениями, но сам же затевал постройку православного храма в Варшаве и расписывать этот храм предлагал, конечно, Васнецову и, конечно, Нестерову.
Храм этот действительно был построен и расписан. Нестеров от работы в нем отказался, а Васнецов нет… Эскизы для Варшавского храма он написал в 1900–1911 годах, а просуществовал храм только до 1920 года. В Польше Пилсудского всякую добрую память о России вырывали с корнем. Храм с росписями Васнецова был сровнен с землей.








